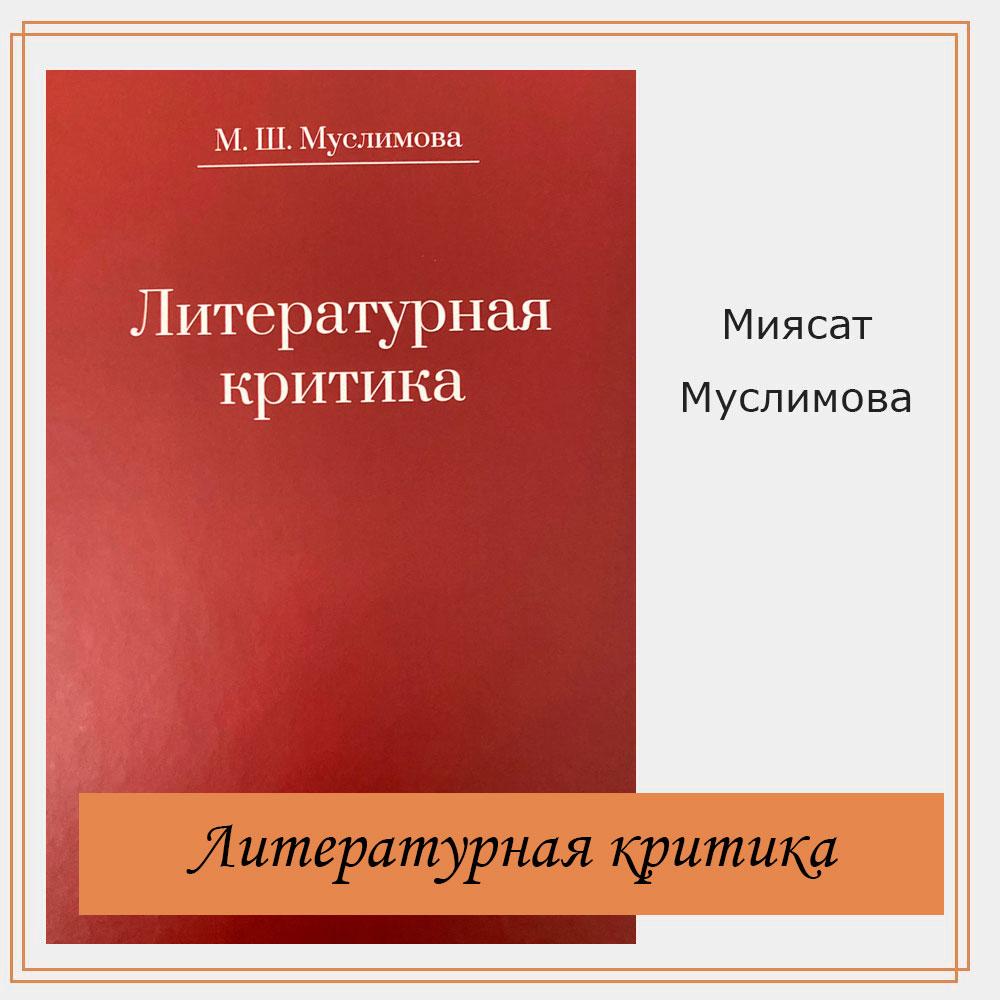-
Жанр: проза
-
Язык: русский
-
Страниц: 388
Ахмадов М.М. Деревянные куклы. Избранное в 2 томах. Том 1. – 2010 – с.
Повести, рассказы и пьесы Мусы Ахмадова, народного писателя Чеченской Республики, – своеобразная микромодель реальности. При наличии ярких, самобытных этнических красок столпом этой модели является космизм, основанный на представлении о всеединстве и взаимозависимости всего сущего.
В условиях конкретного временного отрезка, как правило, сопряженного с различными историческими потрясениями в жизни чеченцев, герои заняты решением не столько злободневных проблем, сколько поиском смысла бытия, в окуляре которого жизнь и смерть, любовь, дружба и предательство, одиночество в толпе, взаимоотношения художника и времени, национальная ось нравственных координат, вплетенная в общечеловеческие принципы добра и справедливости.
Муса Ахмадов
Деревянные куклы
Муса Ахмадов
Деревянные куклы
Избранное в 2 томах
Том 1
Повести, рассказы, пьесы
Перевод с чеченского
2010
Редактор и автор вступительной статьи
Л. М. Довлеткиреева
Ахмадов М.М. Деревянные куклы. Избранное в 2 томах. Том 1. – 2010 – с.
Повести, рассказы и пьесы Мусы Ахмадова, народного писателя Чеченской Республики, – своеобразная микромодель реальности. При наличии ярких, самобытных этнических красок столпом этой модели является космизм, основанный на представлении о всеединстве и взаимозависимости всего сущего.
В условиях конкретного временного отрезка, как правило, сопряженного с различными историческими потрясениями в жизни чеченцев, герои заняты решением не столько злободневных проблем, сколько поиском смысла бытия, в окуляре которого жизнь и смерть, любовь, дружба и предательство, одиночество в толпе, взаимоотношения художника и времени, национальная ось нравственных координат, вплетенная в общечеловеческие принципы добра и справедливости.
© Ахмадов Муса
© Издательство 2010
Фото автора
Особенности онтологической поэтики рассказов и повестей Мусы Ахмадова
Кроме леса и мрака,
есть еще и звездное небо
(Из повести «Идти,
не сбиваясь с этого пути»)
Любое произведение Мусы Ахмадова – разноцветный кусочек мира. Очень плотно пригнанные друг к другу, они образуют авторскую микромодель реальности. Альтерглобалист Ахмадов любит уточнять в своих интервью – «чеченского миропонимания». Но при наличии ярких, самобытных этнических красок столпом этой модели остается космизм, основанный на представлении о всеединстве и взаимозависимости всего сущего. А потому духовно-нравственная система чеченских национальных ценностей, художественно интерпретированная писателем, в мультикультурном пространстве открыта, понятна и близка не только человеку, генетически причастному к ней.
Особенность ахмадовской поэтики – ее необычайная живописность. В этом он опирается на традиции латиноамериканской прозы, «где мы можем услышать то, что можно лишь увидеть, и увидеть то, что можно лишь осязать»1.
Возникает такая степень обостренности чувств, что план воображаемого, насыщенный запахами, формами, цветами, звуками, предстает перед нами более настоящим, чем сама действительность: «Луна ярко светила в небе, освещая своим голубоватым светом лесистые горы, текущую меж камней шумную речушку. Вода в речке была такой прозрачной, что в лунном свете на дне были видны маленькие камешки. Трава была мокрой от росы, легкий ветерок донес откуда-то приятную сырость. Было тихо, и в этой зыбкой, светящейся тишине явственно слышался монотонный шум крутящейся мельницы. Но звуки эти не нарушали покоя в природе, они были растворены в ней естественно и неприметно» («А мельница крутилась и на рассвете»).
Природа играет не просто роль пейзажного фона, а становится одним из основных героев повествования. И самые яркие образы-символы, расшифровывающие суть экзистенции, всегда связаны с ней. Жизнь предстает как «снежное пространство», юность как «зеленая весна», смех возлюбленной, «сливаясь с шумом устремившихся по оврагам дождевых ручьев», звучит радостной мелодией этой весны…
Олицетворение – излюбленный прием писателя. В его рассказах солнце плачет от жалости, звезды купаются в воде, деревья шумят, будто разговаривают, луна наверху так и расплылась в улыбке. И урбанистический пейзаж может быть одушевлен: «город смотрел на него удивленно».
«Мотив борьбы добра со злом в любой национальной литературе является ключевой этической парадигмой, содержащей в себе главенствующие ментальные установки народа, его представления о мире и человеке»2.
Являясь ядром этической парадигмы, мифомотив «добро и зло» в произведениях Мусы Ахмадова раскрывается посредством устойчивых образов, составляющих семиотику его прозы, ее метафоро-символическую и сюжетно-образную структуру.
«Вторая реальность», созданная писателем в его рассказах и повестях, чаще всего имеет четко обозначенный локус – главная схватка между добром и злом разворачивается в предгорном селе Варш-Юрт и его окрестных аулах.
Система кодовых онтологических знаков, выраженных в поэтологических концептах гора, небо, башня, дерево (сад), дом, дождь, бурьян, время, грязь, свет (огонь, свеча, костер, очаг) и других, позволяет раздвинуть границы личных, национальных, религиозных представлений до уровня вечных вопросов человеческого бытия, имеющих отношение ко многим людям.
Исследователь карачаево-балкарской литературы, д. ф. н. З. Кучукова отмечает, что народам, проживающим в горной местности, свойственна «философия вертикали» 3.
Данное положение находит прямое подтверждение в прозе М. Ахмадова. Название повести – «Горы воздвигая на земле» – уже являет собой идею вертикального сознания. Дихотомия «низ-верх» обнаруживается в следующем примере. Праведник Ибрагим-хаджи, стремясь к постижению тайн мироздания, на сорок дней уединятся в глубокой яме-халбат. Он понял, что тайны Земли, Вселенной, звезд невозможно открыть за всю человеческую жизнь – «одна обнаженная тайна скрывает другую. А человек должен, всю жизнь возвышаясь чистотою души, подниматься в гору. Опорой на этом пути ему будет правда, справедливость и Всевышний».
Духовное возвышение как центральнообразующее звено «философии вертикали» передается в произведениях писателя с помощью образа башни. В рассматриваемой повести это абстракция: «Башня может быть прочной лишь тогда, когда прочно ее основание», – рассуждают представители различных тайпов (родов), закладывая новый аул и предлагая положить в его основание благородство, честь и взаимоуважение. Нравственно-этические понятия, таким образом, неразрывно связываются в психологии горца с вертикалью, величественным воплощением которой являются нерукотворные горы и рукотворные башни. В символической картине мира они отождествляются с духовным, небесным, близким божественному. Кроме того, башня наделяется функцией связи между землей и небом.
В повести «После землетрясения» эти представления связаны с конкретной башней на краю аула. По преданиям, «в незапамятные времена Турпал4 сложил ее из камней в честь погибшего в бою друга и, уходя из этих мест, говорил, что башне этой стоять, пока живы в людях благородство, честь и любовь, а значит – стоять ей вечно».
Культурологема башня выступает здесь как опредмеченный символ благородства, чистоты человеческих помыслов, духовного богатства личности. И каждый из нас всю свою жизнь либо строит, либо разрушает башню своей чести. Как герой повести Жамбиг. Не бросив товарища на поле битвы в Великую Отечественную войну, преодолев страх смерти, он заложил краеугольный камень своей собственной башни. Она поднималась все выше и когда он вернулся в аул: став председателем сельского совета, строил мост через речку, ремонтировал дорогу, подвозил старикам сено… «Но шло время, Жамбиг и сам не заметил, как забыл о своей башне, как стали привычными похвалы и льстивые слова…» Повесть Ахмадова – предостережение: утрата духовности неминуемо ведет к трагическим последствиям для всего этноса. Землетрясение, приведшее к обрушению легендарной башни и гибели благородного юноши, сына Хавы, – знак большой беды – оскудения доброты, достоинства в людях, торжества зла. Юноша (современный Турпал) берег наши земные вершины, замазывал трещины и обновлял вековые башни, чтобы земля не превратилась в однообразную равнину… Он верил, что каждый из людей в силах стать вершиной… Он из последних сил подпирал падающую башню…
Несмотря на щемяще-грустную тональность повести, автор ее, как всегда, дарит надежду: в финале Жамбиг поднимается к развалинам, чтобы из бесформенной груды камней сложить новую башню, ведь всегда есть, к чему стремиться, – небо – высший символ чистоты в «философии вертикали».
Психологические корни культа гор, а также башен, являющихся моделями этих географических объектов в национальной архитектуре нахов, связаны с представлениями о близости к небу. Они выступают в качестве структур, соединяющих различные сферы бытия (небо, землю…). И приближают к Богу, являя идею духовного возвышения. Ибрагим-хаджи, один из персонажей повести «Горы воздвигая на земле», в своей молитве благодарит Всевышнего за то, что поселил его народ в горах, во-первых, потому, что «выжить на голой равнине было бы трудно» (военно-политический и экономический аспект), во-вторых, трудно было бы оставаться людьми (морально-нравственный аспект противопоставления «гора-равнина»).
На оппозиции «вертикаль-горизонталь» построен и современный сюжет рассказа «Гора и море». Чеченская семья покидает родину (гору), спасаясь от войны, и устраивается в благополучном городке на юге Франции. Здесь не стреляют, не бомбят и люди добрее, течет однообразная, с простыми маленькими радостями, мирная жизнь, по которой так истосковались сердца беженцев. Главное сокровище этих мест – море. Но существует другая опасность: «в погоне за удовольствиями потерять самую суть своей души». Антагонизм западной и восточной культур порождает душевный надлом. Более всего его ощущает пожилая женщина: «…это место, где у людей исчезло чувство стыда». Вара, в силу молодости, более безболезненно приспосабливается к установкам европейской цивилизации, но подсознательная связь «сын-предки» велит ему вернуться с больной матерью домой. В рассказе звучит актуальная тема сохранения национальной идентичности в условиях стремительно глобализирующегося пространства. В бешеном ускорении ассимиляционных процессов, ведущих к потере языка, традиций, а значит, и исчезновению с пестрой этнической карты планеты чеченской национальности, видит писатель еще одно пагубное последствие военного кризиса конца XX-начала XXI вв. в Чечне. И культурологема гора в данном случае выступает не только как контекстуальный синоним родины, но и вмещает представление об особом складе жизни и мысли чеченцев, требующем ни при каких обстоятельствах не выходить за рамки традиционной нравственной системы, сложившейся в течение тысячелетий. Вара, вкусив прелести сытой, раскрепощенной жизни в Ницце, незримо для себя все же находится в кругу этой системы: свою мать он похоронит на земле отцов, как того требуют обычаи, и останется в разрушенной республике, преодолев под мощным эмоциональным воздействием патриотической песни неизвестного ему исполнителя тягу к обеспеченной, спокойной, безопасной жизни на Западе. Этот эпизод наглядно характеризует мысль З. Кучуковой: «…тенденция к единой стилистике быта, коммуникативного поведения, мировосприятия, культурных артефактов все больше стирает различия между этносами. Но тем не менее следует признать наличие в этнической субстанции каждого народа стабильного «ядра», «нерастворяющейся гранулы», которая обеспечивает жизнеспособность и самобытность каждой этнической группе».5
Танец и песня, будучи экспрессивными средствами проявления национального характера, в ахмадовской прозе также имеют направленность к небу. Танец девушек на вершине холма вдохновляет воинов на победу. Себила «кружилась, словно стремясь оторваться от земли и взлететь в небо».
В мировой символике небо является воплощением космического верха. Приобщает к сфере трансцендентального; все величественное, духовное, божественное приписывается небесному. Воздушная стихия неба обусловливает тот факт, что оно мыслится в качестве души, дыхания мира. Обладая свойствами недоступности, огромности, в мифологическом сознании оно наделяется непостижимостью, всеведением. Небеса выступают как образ рая, непреходящего, неизменного, истинного, превосходящего все мыслимые оппозиции абсолюта6.
Физическая смерть, с религиозной точки зрения, означает переход души на более высокую ступень своего существования, а потому гибель Себилы, трагичная и лиричная одновременно, также связана с устремленностью к небу, с непререкаемым законом диалектики, заключающемся в невозможности полного исчезновения, в переходе из одного качества в другое, в вечных падениях и вечных взлетах: «Захлебывается стремительная мелодия танца, летит в поднебесье… На какое-то мгновение застыли вознесенные к небу руки. Потом она рухнула на землю, лицом вверх <…>. Падающий снег скроет ее, и примет ее земля, вбирающая в себя все: умерших своей смертью и убитых, невинных и грешников, добрых и жестоких, и зачахшие кусты, и опавшие листья, и тающий снег, и пролитые слезы. И с каждым весенним обновлением прорастет все сущее в земле молодой травой, цветами на лугах, робкими деревцами – новой жизнью («Горы воздвигая на земле»).
Амбивалентности «низ-верх» придаются различные смысловые оттенки. Если в предыдущей повести это отражение самого закона развития жизни, то в повести «И муравейник не разрушай» это образная амплитуда возможного выбора между добром и злом и глубины познания: «… есть бездонное небо со звездами, солнцем и луной – для того, кто хочет смотреть ввысь, и бездонные ущелья – для пожелавших вниз направить свой взор».
Отношение автора к ситуации или герою, ненавязчиво направляющее читательское восприятие, угадывается, помимо прочего, в «вертикальных» портретных деталях-сравнениях: «Шида сидел в седле прямо, будто выточенный из дерева» («Горы воздвигая на земле»); «Солнце было за спиной Асхаба, когда он шел – как тополь, высокий, стройный» («И муравейник не разрушай»).
В мировой традиции дерево является олицетворением жизни в различных ее аспектах и проявлениях. А также символом бессмертия. Оно соотносится с мирозданием, в контексте идеи тождества микрокосма и макрокосма, с человеком (в силу вертикального положения последнего, человеческим родом (ср. генеалогическое древо). В фармацевтическом трактате 18 века сказано: «Именно дерево (древо жизни) избрал Творец, дабы несло оно дух животворящий, который <…> призван был охранять человека от смерти». В числе символических коннотаций образа мирового дерева – вечное обновление и космическое возрождение, плодородие и сакральность, бессмертие, абсолютная реальность7.
Ахмадов, раскрывая характеры своих персонажей, подвергает их всевозможным испытаниям – дружбой, любовью, временем, степенью близости к природе… Отдаляясь от природы, они не только утрачивают иммунитет к злу, но и сами становятся в ряды воинов тьмы. Общаясь же с ней на равных, почтительно, бережно, с некоторым трепетом перед ее хрупкостью и могуществом, пополняют свои внутренние резервы добра, усиливают ауру, происходит как бы взаимообмен положительными энергиями, ведь «деревья, как и люди, имеют душу» («Боча»). Поэтому сад – частый образ в прозе писателя – несет еще и нагрузку культивируемой красоты, гармонии. Заброшенность и запустение сада, бурьян на месте некогда цветущих деревьев – признак душевного опустошения, забвения благородных идеалов или другого несчастья: густо зарос сад, пока томился его хозяин в выселении («Отцовский сад»), затоптан стадом коров сад, заложенный товарищами, когда разошлись их дороги и забылась дружба («Время»), столетний чинар склонил свои мощные ветви до самой земли, бессильный перед стихией, как и люди, чьи пороки ее породили («После землетрясения»). Бурьян как антитеза саду в ряде произведений приобретает гипертрофированные черты сказочного злодея, захватывающего с огромной скоростью жизненную территорию, если в мире царят зло, насилие и несправедливость. «Буйно пошел в рост бурьян, поднялся выше человеческого роста, потянулся к крышам домов», и вот уже «увязли люди в грязи, застряли в непроходимом бурьяне» («И муравейник не разрушай»). Грязь и бурьян – символы одного семантико-метафорического ряда.
Дом – «один из самых древних, многослойных архетипов»8 – имеет общезначимую характеристику, согласно которой он выступает в качестве символа космоса как упорядоченного пространства, а также отождествляется с родом, в духовном плане рассматривается как хранилище родовой мудрости человечества, традиции.
В творчестве Мусы Ахмадова дом – топос, через который в тексте реализуется тема памяти и преемственности поколений («Ночь в пустом доме», «Зимы холодное утро» и др.). В одиночестве прошла жизнь Сану после гибели на полях Великой Отечественной войны близких людей, но жива память, слышатся их голоса в доме даже спустя многие годы, и достойно встретит она свой конец, никто не сможет упрекнуть ее в слабости. Обветшал ее дом, осел, крыша течет, окна перекосились – прервано продолжение рода, унесла злодейка война жизни всех мужчин в семье («Сказка о трех братьях»).
Антитеза «добро-зло», выраженная устойчивыми ассоциативными символами света и мрака, обыгрывается прозаиком посредством образов свечи, огня, очага, дыма, снега, дождя, игры светотени в пейзажных и портретных зарисовках.
Свет традиционно уподобляется божеству, предстает как символ святости, красоты, мудрости, добродетели, духовного очищения.
Тьма – антитеза свету – знак ада, нечистоты, рудимент предначального хаоса. В моральной сфере она связана с пороком, злом, в сфере интеллектуальной – с невежеством и мракобесием.
Сами названия некоторых произведений М. Ахмадова являют собой эту мысль об извечном противоборстве светлых и темных сил – в природе, в душах людей, в мире: «Снег идет», «На заре, когда звезды гаснут», «Дикая груша у светлой реки», «Чтобы свечу не задуло ветром», «Ночь в пустом доме».
Тревожное апокалипсическое предчувствие, вызванное падением духовности в обществе, передается символикой дождя – предвестника или «соучастника» более страшных катастроф: потопа, землетрясения, оползни. Тягучий, мутный дождь, не переставая ни днем, ни ночью, идет в течение нескольких месяцев в рассказе «На заре, когда звезды гаснут». И некуда спрятаться от него – «всюду эта круговерть бесконечного дождя». Потоки дождя сбивают с ног, не дают подняться… И наконец, «лавина дождя, вязкого дождя беды, прорывает пленку терпения человека… Но Ахмадов остается оптимистом в этой рушащейся реальности и вселяет это чувство в своего читателя: в несмирении со злом, правящим бал во время чумы, – спасение человечества. А потому его герой, казалось бы, одинокий и обессилевший, поднимается по стволу самого высокого в мире тополя все выше и выше, срывает с себя рубашку и закрывает прореху в небесах. Этот тип главного героя довольно часто встречается в произведениях писателя. В онтологическом плане он способен преодолевать немыслимые препятствия на пути к духовному освобождению для себя и окружающих. Однако достижение цели возможно лишь тогда, когда огонь его земной миссии зажигает искорки в других. На помощь удерживающему из последних сил невыносимую тяжесть дождя спешит девушка, в ее руках иголка и нитка, чтобы залатать небесную брешь. Она и он – Воля и Нежность – две створки жемчужной раковины, образующие единую духовную субстанцию человечества.
В условиях конкретного временного отрезка, как правило, сопряженного с различными историческими потрясениями (революция 17 года и Гражданская война – «Горы воздвигая на земле», Великая Отечественная война – «Сказка о трех братьях», депортация – «Отцовский сад», война в Чечне 1994-2000 гг. – «Гора и море»), герои заняты решением не столько злободневных проблем, сколько поиском смысла бытия, в окуляре которого жизнь и смерть, любовь, дружба и предательство, одиночество в толпе, взаимоотношения художника и времени, национальная ось нравственных координат, вплетенная в общечеловеческие принципы добра и справедливости, незыблемые и преходящие ценности.
О значении диалектики в авторской концепции мы уже упоминали, а в чем же заключается метафизика его модели? В столь изменчивом мире, где «меняется все, даже эти горы; человеческой жизни не хватает, чтобы увидеть эти перемены, но не видимые глазу они все же происходят; эти изменения понемногу, незаметно происходят много лет или же, накопившись за тысячелетия, случаются вдруг, резко в виде извержения вулкана, либо на месте гор появляется море; кроме того, ведь есть и Судный день, когда по воле Бога эти горы будут разрушены, и земля станет плоской и гладкой, как ладонь; никогда не меняется только Бог, сотворивший нас, Он был и будет вечно, у Него нет ни начала, ни конца» («Во время листопада в горах»).
По глубокому убеждению писателя, следование божественным заповедям дает земной цивилизации ту точку опоры, которая позволяет ей сохранять равновесие, устойчивость и не обратиться в космический пепел. Это может быть прямое, буквальное обращение к Всевышнему (молитвы и не прервавшееся ни на минуту чтение Корана спасают оставшихся в селе жителей от расстрела в повести «Идти, не сбиваясь с этого пути») и опосредованное служение поступками, приумножающими очаги света в «окутанной тройным мраком Вселенной» (Дени, герой рассказа «Деревянные куклы», вырезал фигурки, посвятив всю свою недолгую жизнь искусству. Эти скульптуры и были его мольбами к Богу, в них он вложил свое доброе сердце, свое милосердие к людям, близким и чужим).
Целая галерея праведников проходит перед мысленным взором читателя – тех, чей морально-нравственный стержень остался несломленным и несгибаемым, несмотря на всевозможные перипетии: Янарса и Абдул-Азиз («Во время листопада в горах»), Жагаш, Ауд и Хаваил («Идти, не сбиваясь с этого пути»), Зухайра («И муравейник не разрушай»), Ибрагим-хаджи, Элад («Горы воздвигая на земле»), Дени («Деревянные куклы»), Вега («Зимы холодное утро»).
В их облике, словах и делах автор подчеркивает неподвластность веяниям времени, гармонию, несуетность и покой. Что же привносит в их души уверенность в то время, когда Вселенная содрогается в конвульсиях бурь и потрясений?
Для алимов Абдул-Азиза, Ауда и Ибрагима-хаджи – это углубленное изучение ислама и распространение его одухотворяющего воздействия и нравственной чистоты на других.
Илланча Элад, скульптор Дени, пондурист и шутник Вега – преданные жрецы искусства, светом которого они излечивают страждущих.
Старцы Янарса, Жагаш и Зухайра – носители и проводники народной мудрости, опирающейся, по определению М. Ахмадова, на традиционное миропонимание чеченцев, которое «образуется как бы из двух составляющих. Первая составляющая – это чувство ответственности: ответственность перед предыдущими поколениями (семь отцов); ответственность перед ныне живущими – семьей, родственниками, селом, народом; ответственность перед будущими своими потомками (только через семь поколений забываются поступки – и хорошие, и плохие). Такая соотнесенность с прошлым, настоящим и будущим делает психологическое состояние воспитанного в традиционном духе чеченца более устойчивым (он не чувствует себя одиноким), хотя ему порой и нелегко нести такой груз ответственности и долга.
Вторая составляющая миропонимания чеченца – это то, что он постоянно ощущает себя в ценностной системе своего народа. Как только чеченец начинает осознавать себя как индивидуум, он попадает в жесткую систему морально-нравственных ценностей, обязанностей и запретов. Человек, находящийся в этой системе и выполняющий ее требования, может контролировать свои эмоции и поступки, и у него вырабатывается высокая сопротивляемость жизненным бедам и невзгодам» 9.
И наконец, молодой человек – Хаваил, гармонично сочетающий в своем нравственном облике признанные национальные достоинства и исламские идеалы. Именно в сохранении через преемственность поколений этих качеств видит писатель путь, способный вывести нацию на новые рубежи духовного роста.
В соответствии с проведенной классификацией мы можем выделить четыре типа ахмадовских праведников: алим, старец, художник (мастер), юноша.
Последний тип обычно изображается в развитии. Ему рано открывается яркое экзистенциальное призвание – идти избранным путем к чистоте духа, не отклоняясь с этого пути ни при каких обстоятельствах. В этом ему свойственна абсолютная бескомпромиссность. Он может погибнуть, как сын Хавы («После землетрясения»), но ни в коем случае не свернет с проторенной им самим колеи. И его смерть никогда не бывает напрасной – она вдохновляет, заражает остальных и приобщает к нравственным ориентирам героя колеблющихся или более слабых духом.
Персонажи М. Ахмадова (праведники ли, злодеи) живут в условной реальности, созданной авторской фантазией. Но их черты мы наблюдаем в тех или иных проявлениях в действительности. Наше видение становится острее, мы учимся отличать правду от кривды, естественное от наносного. В этом особая сила художественного слова. И если нам встретятся на нашем пути выходцы из аула Хучанчулги – Жахарбек, Махарбек и Шахарбек (отрицательные персонажи повести «И муравейник не разрушай»), мы их тоже сумеем распознать, чтобы не стать очередными жертвами их лицемерия, коварства и алчности.
И еще раз к вопросу о метафизике и диалектике, но не как дихотомии, на которой базируются аксеологические взгляды автора, а как структурной характеристике его творческого метода.
Константой является мировоззрение писателя, но реализация его в пространстве образной мысли происходит с использованием самого разнообразного литературоведческого инструментария.
И на уровне формата изучаемых явлений. Судьбы отдельных людей разных возрастов (старика Бочи – «Боча», инвалида ВОВ, одноногого Уци – «А мельница крутилась и на рассвете», молодых людей – Чуочи – «Раскаялся» и Абдул-Баки – «Пустой орех», малыша Зелимхана – «Телефон»), семей («Маленький дом в цветущем саду», «И была весна», «Сказка о трех братьях»), всего народа («Кружиться в этих волнах», «Русло твоего родника», «Чтобы свечу не задуло ветром») пронесутся мозаичными осколками в калейдоскопе жизненной драмы.
И на уровне специфических средств данного вида искусства, причем на разных пластах создания художественной картины – жанровом, сюжетном, стилистически-языковом. Внутри рассказа выделяются поджанры: притча («Бабочки», «Снег идет»), рассказ-аллегория («В пути»), фэнтези («Сбор металлолома»), юмористическая проза («Денисолта»). Реалистичный сюжет строится порой с использованием далеко не реалистических приемов: в рассказе «Кружиться в этих волнах» применяется и фантасмагория, и поток сознания, в «Кезеном-Аме» – мифологизация и фэнтези (Шайтан Магома), в повести «Горы воздвигая на земле» – фольклорная гиперболизация (образ Даны – «дикарского бога»). Сюжет может быть захватывающим, детективным («Золотая яма») и вообще отсутствовать как таковой («И была весна»). Красочный набор тропов живо передает на языковом уровне своеобразие черт национального духа. Меткость, образность, этнический колорит, философская глубина некоторых из них потрясают. Возьмем, к примеру, следующую развернутую метафору-сравнение: «Колыбель, ритмично раскачивающаяся под ее рукой, просеивает плач ребенка, как сито просеивает кукурузную муку, рассыпает его по миру, пока он не исчезнет» («Деревянные куклы»). Или: «Время, ударив по его лицу крыльями и оставив на нем морщины, исчезло высоко в бесконечности неба» («Время»).
Текст прозы Мусы Ахмадова воспринимается как завуалированное послание. Кодом служат названия его повестей и рассказов – они так поэтичны, что сами по себе представляют завораживающую законченную мини-зарисовку. Выстроив их в определенной последовательности, мы получим емкую, но яркую картинку-напутствие писателя своему читателю, уловим суть его мировосприятия: На заре, когда звезды гаснут… иди, не сбиваясь с этого пути… с мольбой… вдоль русла твоего родника… горы воздвигая на земле… туда, где растет дикая груша у светлой реки… Кружась в этих волнах… подгоняемый временем… и муравейник не разрушай… чтобы свечу не задуло ветром… Когда застанет тебя ночь в пустом доме… или встретишь ты зимы холодное утро… помни, что есть еще маленький дом в цветущем саду… А кроме леса и мрака – звездное небо.
[1] Орлова О. Поэтика латиноамериканского романа: проблема визуального параллелизма // Текст: Онтология и техника: Сборник научных трудов. Выпуск 2. – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2004. С. 179.
2 Тетуев Б. Добро и зло в этической парадигме религиозно-дидактической поэзии Д.-Х. Шаваева // Текст и гуманитарный дискурс вчера и сегодня: Материалы 3-его выпуска сборника научных трудов кафедры зарубежной литературы института филологии КБГУ. – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2006. С. 4.
3 Кучукова З. А. Онтологический метакод как ядро этнопоэтики. – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2005. – 312 с.
4 Турпал (чеч.) – герой.
5Кучукова З. А. Онтологический метакод как ядро этнопоэтики. – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2005. С. 5.
6 Полная энциклопедия символов и знаков / авт.-сост. В. В. Адамчик. – Минск: Харвест, 2008. С. 315, 316.
7 Там же. С. 105, 106, 108.
8 Кучукова З. А. Онтологический метакод как ядро этнопоэтики. – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2005. С. 67.
9Ахмадов М. Ответственность слова // Вайнах. – 2007. №11. С. 62, 63.
Лидия Довлеткиреева,
ст. преподаватель кафедры русского языка
Чеченского государственного университета
Повести
И муравейник не разрушай
1
Наверное, никогда не перестанут удивлять меня такие разговоры, что есть, дескать, благодатные земли на свете, где всегда солнечно и тепло. Хотя и вправду они есть, мне и самому случалось их видеть. Зато у нас… Уж как зарядят эти бесконечные дожди, так, действительно, трудно представить, что существует где-то такой божественный край. Эх, вот сейчас погреть бы косточки под южным солнцем, потомиться, пока всю сырость из тела не выгонит! Раньше, когда был помоложе, я и понятия не имел, что можно мучиться от какой-то там непогоды. Теперь же только вот у огня и спасаюсь. А в молодости, стало быть, этот огонь был во мне самом, согревал изнутри.
А ты, Асхаб, лежи, лежи! Послушай, о чем тебе дада1 расскажет. Хорошо, когда человек знает свое прошлое. Теперь-то, в ваше время, не будет уже того, что прежде. А ты послушай все же. Сейчас в самый раз, и женщина2 нам не помешает. Пока солнце не село, ей надо за скотиной приглядеть, да курятник запереть, да дров набрать для очага. А как она заявится, тут уж нам будет не до беседы, тут она одна будет говорить. А если ты заснешь, разбудит тебя и начнет: «Ты что, приметы не знаешь? Нельзя спать на закате солнца…» И ни тебе, ни даже мне ее не переспорить.
Ты как-то спросил, Асхаб, отчего у нас нет соседей… А ведь когда-то был у меня очень хороший сосед… В те, прежние, времена. Золотого сердца был человек, и людям он желал одного только добра. А вышло так, что это-то его и погубило. Ведь люди вокруг нас всякие бывают. Н-да… Так вот, об этом моем соседе я и хотел рассказать тебе сегодня.
А история эта началась давно. Был вот такой же вечерний час – сумерки. Только, помню, дождя тогда не было, стоял ясный осенний вечер. Я молотил ячмень в своем дворе. Раньше-то его молотили не так, как теперь. Сначала косили косой. Потом увязывали в снопы и несли домой. А там уже молотили: заставляли быков да лошадей топтать снопы. У нас, Асхаб, тоже быки были. Во дворе был вкопан столб, к нему привязывали быков. Гоняли их по кругу, и они копытами топтали снопы, пока не вылущат все зерно. Вот такая тогда была молотьба.
В тот вечер сосед Зухайра стоял возле нашей изгороди – вышел встречать стадо. Мы с ним время от времени переговаривались о том о сем. И тут вдруг я слышу незнакомый мне голос:
– Ассалам алейкум! Добрый вечер, Зухайра!
Скажу тебе, Асхаб, я по голосу всегда без ошибки мог угадать любого из жителей нашего аула. Будто и теперь слышу эти голоса. Вот Умха – тот, у которого во дворе две печи для обжига кирпича, – когда заводит о чем-то разговор, кажется, будто дупло гудит. А его сосед Ковра говорил степенно, с расстановкой, растягивая слова… А вот еще Бага. Этот скажет десять слов, а из них тот, кто рядом стоит, хорошо, если два слова разберет, остальные все застревают где-то в носу. Зато Бага девять раз женился, а постоянно жили с ним три его жены. «Не иначе, Бага, волчий хвост у тебя есть, раз завел стольких жен» 3, – говорили ему люди. «Все есть, что нужно женщине…» – прогундосит он и даже не улыбнется. Зато люди со всего аула на следующий день смеются, передавая друг другу его слова…
И вот все это позади, никого из них нет рядом: ни Баги, ни Ковры, ни Умхи… Я один остался здесь. Каждый день прохожу мимо тех мест, где когда-то стояли их дома, вспоминаю их голоса, лица, привычки… Бетарсолта мне недавно сказал… Ты, Асхаб, знаешь этого Бетарсолту? Ну, того, что два года в Шатое работал в финотделе. Правда, теперь уж лет десять прошло, как он вернулся. Говорили, запил он там так, что даже ручку не мог держать – руки тряслись. Уволили. Учетчиком теперь в колхозе работает. Я и сам, когда в нашем ауле ТОЗ образовался, учетчиком в нем работал, но таким гордецом, как этот Бетарсолта, не был. Он и теперь с галстуком не расстается, всегда бумаги под мышкой… Так вот, когда я подошел к нему и сказал слова соболезнования, думая облегчить его переживания, он важно произнес: «А, диаклет4 все это!» Я-то тогда про диаклет ничего не слышал, так Бетарсолта объяснил мне: «Старики должны уходить, а на их место приходят молодые – это и называется диаклет». Так-то оно так, но лучше бы придумали такой диаклет, чтобы и старшие оставались… А я вижу: Бетарсолта обо всем этом и не задумывается. Говорит «диаклет» и живет себе спокойно. Вот когда до него черед дойдет, тогда, может, он и спохватится…
Да… Что это я заговорился о другом?.. Сейчас, сейчас, Асхаб, угли раскалятся, и я испеку кукурузный початок. Тебе дам вершок – чтобы ты был красивым… Нет, нет, не вершок! Зачем мужчине быть красивым?! Лучше я корешок тебе дам – чтобы ты был смелым!
Так вот, в тот вечер моего соседа Зухайру приветствовал человек не из нашего аула. Я подошел поближе к изгороди, чтобы разглядеть незнакомца и двух стоявших рядом с ним юношей. И, помню как сейчас, с самого первого взгляда чужак тот мне не понравился. Не понравились мне больше всего его глаза: острые, ненасытные. По-моему, такие глаза бывают у человека без чести. Такого, который не задумывается, зачем он живет, а бесприютно рыщет по земле, как бешеный пес.
Как быть с бешеной собакой? Выстрелить сразу из обоих стволов двуствольного ружья. А с таким человеком? В него-то не выстрелишь – кто же согласится стать убийцей! Вот и бродят они по земле, пока не натолкнутся на кого-нибудь себе же подобного. Или же хорошему человеку принесут несчастье…
– Ва алейкум салам! – ответил Зухайра на приветствие. – Добро пожаловать! Что привело вас в наш аул?
– Беда гонит нас по свету. Я кровником стал, погиб от моей руки человек… Их вот мать тоже умерла нежданно-негаданно… Вот и ищем какой-нибудь аул, который бы принял нас.
– Да, несчастье гонит вас, большое несчастье. Да простит Аллах… Из какого идете аула?
– Из Хучанчулгов5.
– Я и не слышал, что есть такой аул. А из какого вы рода?
– Род наш тоже зовется хучанчулги…
Да, Асхаб, скажу я тебе, что на том котле, на котором записаны все чеченские тайпы6, и в помине нет такого рода – хучанчулги. И от людей я никогда о таком тайпе не слышал. Вот я и думаю: не человек то был, а дьявол в человеческом обличье. И странное его имя, какое он назвал Зухайре – Жахарбек, не могло принадлежать обычному человеку: у любого чеченца такое имя вызвало бы подозрение. А ведь Зухайра был проницательным, с первого взгляда мог разгадать, кто перед ним, что у человека на сердце, знал, что беспокоит больного, и когда непогода начнется мог определить… Весь аул, Асхаб, любил Зухайру. Для больного он был лекарем, для умирающего – муллой, для нуждающегося в защите – товарищем, для каждого им был прибережен совет. В этом ауле никто не посмел бы ослушаться его. Он был отцом нашего аула. Он мог примирить врагов, уже готовых взяться за кинжалы. Спасал людей во время эпидемий, а они бывали нередко. И люди платили ему благодарностью: помогали ухаживать за скотиной, обрабатывать землю. Была у него жена, Баху ее звали. Это была женщина, достойная своего мужа: ни человек, ни скотина не слышали никогда от нее грубого слова. Был у них и сын-подросток, Керим…
Так, погоди, погоди-ка, дай я подгребу золу… Ну вот тебе и корешок, на, ешь. Ничего, не гляди, что немножко подгорел. Съешь корешок – вырастешь храбрым.
Так вот, видно, правду говорят люди, Асхаб, что от судьбы не уйдешь. Даже опытный и мудрый Зухайра не разглядел тогда этого Жахарбека. А уж я – тем более.
Вечером я зашел к Зухайре. Сам хозяин полулежал на паднаре, 7 перебирая четки; Баху крутилась у печки.
– Благослови тебя Аллах, Бауди! – приветствовал меня Зухайра, поднимаясь. – Проходи, садись.
Такой он был человек: и ребенку навстречу поднялся бы, не только мне. А как я мог сесть на паднар рядом с ним?! Нет, я не считал себя ровней ему. Я сел на маленький стульчик возле паднара.
Вскоре Баху поставила перед нами чурек и дяттагу. 8 Знал бы ты, Асхаб, какой доброй была жена Зухайры – такой, наверное, во всем свете не сыщешь. Родом она была с равнины, из Шали. Но с родственниками у нее связи почти не было. Ведь она против их воли покинула родные места, пришла сюда жить среди этих камней, среди этого бурьяна. А пошла она за Зухайрой сразу, как позвал он ее. Жители аула, словно о чуде, рассказывали о том, как впервые увидели ее. До аула Зухайра и Баху добрались ранним летним утром, после дождя. Женщины гнали из аула скотину на выпас – и вдруг стали как вкопанные, потому что увидели перед собой девушку прекраснее солнечного утра. Это и была Баху. И хотя шли они с Зухайрой сквозь заросли, что выше лошадиных спин, она даже подол платья не замочила – удивительно!
Что, что ты говоришь? Еще корешок хочешь? Хватит нам есть кукурузу. Погоди немного, скоро ужинать будем. Полежи-ка пока вот здесь, на овчине. Вот так, молодец, дедушкин ты волк!9
С плохими предчувствиями ушел я от него тогда. Я знал, что старики, с которыми Зухайра собирался посоветоваться, поддержат его. Выйдя на улицу, я еще долго стоял у плетня, против окон Зухайры, и его щенок звонко на меня лаял. Я представил, как хорошо накормили, приободрили в этом доме Жахарбека и его спутников. Потом Баху постелила им белоснежные простыни, пахнущие одеколоном. И они завалились на них, пыльные, немытые, и спят себе, похрапывая…
Сам я заснул в ту ночь позднее обычного. Разбудил меня торопливый стук в окно. Сунул я ноги в няар-мачаш, 10 выхожу: стоит Зухайра.
– Что случилось? – спрашиваю.
– Гости мои тайком ушли до рассвета.
– Что-нибудь унесли, наверное?
– Нет. Я смотрел…
– Что ж, может, это и к лучшему. Пусть уходят. Не такие это гости, чтобы их удерживать.
– Нет! – проговорил Зухайра. – Это принесет позор моему дому. Когда гость сбегает…
– Хорошо, – говорю, – я поступлю так, как ты скажешь.
– Нужно догнать их и возвратить.
Жахарбек и его спутники уже спускались к Аргуну, когда я верхом нагнал их. Они шли, как медведки идут на свет, друг за другом: впереди – большая медведка, следом – две поменьше… Я обогнал их и осадил коня перед Жахарбеком:
– Возвращайтесь!
Он посмотрел на меня долгим взглядом и, не сказав ни слова, повернул обратно. Если бы он попробовал сопротивляться – о, как бы твой дедушка огрел его кнутом, Асхаб! Тогда твой дедушка был не таким, как теперь. Настолько был силен, что мог оторвать хвост кабана!
Когда мы вернулись, все старики уже собрались в центре аула. С ними был и Зухайра. Тут Жахарбек заговорил:
– Зухайра, да возблагодарит тебя Аллах! Ты хорошо принял нас, дал пищу и кров моей семье. Но позволить нам навсегда поселиться в вашем ауле, дать надел земли – я понимаю, это нелегкое дело. Потому, чтобы не отягощать вас лишней заботой, да и самому не мучиться, услышав ваш отказ (мне уже не однажды довелось это пережить), я и решил уйти. Прошу: прости меня, Зухайра…
После его слов воцарилась тишина. Потом заговорил старейший в нашем ауле – Колла. Он стоял, опершись на посох, и, не отрываясь, глядел вечно слезящимися глазами на понурившего голову Жахарбека:
– Не ты первый пришел к нам с такой просьбой, – сказал он. – Мы, варшхоевцы, владеем немалыми землями: наверху граничим с борзахоевцами, внизу – с мартанхоевцами. И это такая земля, на которой растет все, что ни пожелаешь. И доныне, и теперь мы всегда готовы накормить голодного, поддержать обессилевшего, приютить бездомного. Коли можешь поручиться, что ни ты, ни потомки твои не забудут нашей доброты…
2
Асхаб, да ты заснул? А дяттага уже готова. Ну, поднимись же, вставай! Ты только попробуй – до чего вкусно! Ай, да что же ты, что же ты плачешь, дедушкин волк?! Ну хорошо, дедушка оставит тебе дяттагу, а ты утром попробуешь. А, молодец, лучше сейчас, зачем до утра откладывать… Вкусная? Как у Баху? Нет, какое уж там! Такую, как у нее, дяттагу я после нигде не пробовал. Много нужно потрудиться княжне Кахарме, чтобы с Баху сравняться. Они, эти старухи, и после ее смерти не могут ей простить того, что она была лучше их всех.
На чем же я теперь-то остановился?.. Да, выделили из общей земли надел для Жахарбека… Нет, но имя-то, имя какое! Проклятье Аллаха на это имя! А рядом с этим наделом жил человек по имени Сота. Он тоже был из пришлых, принятых нашим аулом.
В том, что он покинул свой аул и оказался в нашем, повинна его жена Самарт. Это была женщина дородная, сочная, на мужчин действовала зажигательно. Такая, если поведет хвостом, редко какой мужчина удержится от соблазна. Правда, с той поры, как попала в наш аул, она немного остепенилась, а на родине близкие прямо говорили Соте:
– Какой же ты мужчина! Если не можешь с женою справиться, так дай ей развод и отправь обратно к родителям.
– Оставьте ее, – отвечал Сота. – Мне довольно и того, что она ночевать домой приходит, а там… пусть живет, как знает.
Да, говорят, прямо так и сказал Сота. Странные все-таки люди встречаются на свете. Я бы никогда не смог сказать такого! Тем более в те времена. Правда, люди говорят, что бывают такие женщины, которые могут сделать с мужчиной что угодно. Такие вот ведьмы, они снадобья готовят, еще по кладбищам ходят, могилы вскрывают. Тот же Колла однажды рассказывал, как в соседнем ауле повстречался с ведьмами, проходя ночью мимо кладбища. Увидел среди могил слабый огонек и пошел на него… И что ты думаешь? Ведьмы уже делали свое дело, освещая могилу лампой. Заметив человека, они вылезли из ямы, распустили волосы и кинулись на него, гремя ложками и вилками, что были подвешены к их лохмам. А Колла-то наш не из пугливых: сгреб их всех за волосы и потащил домой, погоняя кнутом… Не знаю, правда ли, что все это было, но то, что Колла сам все это рассказывал, – такая же правда, как то, что я – Бауди, сын Поти.
А родственники Соты решили:
– Раз так, уходи из нашего аула вместе со своей гулящей девкой, ты позоришь нас перед людьми. Даем тебе три дня. Если не уйдешь, то мы и тебя, и ее навсегда разлучим и с нашим аулом, и с этим миром.
Так и попали они в наш аул…
А-а, женщина, я и не заметил, что ты уже здесь! Что это у тебя чай холодный? Только что чайник кипел, а ты наливаешь – чай холодный! Сам я холодный, говоришь? Да, что правда, то правда. Придвинь чайник к печи.
Год-другой Жахарбек жил спокойно. Обходителен был, с уважением относился к людям, особенно к Зухайре. Но вот потихоньку-понемногу стали происходить с ним перемены: и во внешнем обличье, и изнутри. Располнел он, как кабан. Усы задрались кверху, брови, наоборот, надвинулись на глаза. В разговоре жесткость обнаружилась. Стал даже порой покрикивать на людей. Вот вам, люди, и благодарность, вот вам и спасибо за то, что приютили пришельца, дали ему землю, возвратили достоинство! Женщины в ауле пугали им своих детей: «Смотри, будешь проказничать – отдам тебя Жахарбеку!» А потом пополз слух, будто Самарт, жена Соты, опять принялась за свое, теперь уже с Жахарбеком. Что это так и есть, любой, имеющий глаза, понял бы – не очень-то они и прятались.
Больше всех переживал из-за всего этого Зухайра. И без того такой тощий, он в последнее время стал просто сохнуть на глазах. Видно, чувство вины его подтачивало. Как-то утром я увидел, что он стоит посреди своего двора, повернувшись лицом к восходящему солнцу, и что-то нашептывает. Я тихонько приблизился к изгороди, прислушался: он просил Аллаха, чтобы Тот смилостивился над жителями аула, убрал от нас этого дурного человека. Есть поверье, что Аллах исполнит просьбу, если она обращена к Нему на восходе солнца.
Не напрасно переживал Зухайра: еще немного прошло времени, и в глазах у некоторых женщин аула стал заметен тот же дьявольский блеск, что и у Самарт. И среди мужчин также пошло брожение: то тот, то другой, замечаешь, глядит по-кабаньи – уподобился, значит, Жахарбеку…
Женщина, убери посуду! Слава Аллаху, насытился я… Подушку подай, прилягу немного. Да впусти ты кота, что он там надрывается под дверью! Ну вот, хорошо, налей ему молока. А ты слушай дальше, Асхаб, я рассказываю.
Как-то вот что произошло. Было начало весны. Светлой, лунной ночью, где-то около полуночи, с горы, что вон в той стороне, донесся до аула крик:
– Эй, люди! Слушайте! Слушайте! Жахарбек, что живет на окраине, путается с женою Соты… Кто этому не верит, приходите завтра после полудня к тому месту, где у Коллы стоит стог сена.
Кричавший зажимал себе нос, чтобы его не узнали по голосу. Но тут случилось вот что: человек неожиданно рассмеялся, не успев снова зажать нос пальцами, и я узнал голос Жахарбека… Как?! Как может человек разоблачать сам себя? Я был очень удивлен, не сразу разгадал его хитрость. А утром Жахарбек у всех на виду вышел пешком из аула, сказав, будто идет в Урус-Мартан… Еще лет десять назад Зухайра убедил людей, что такие тайные глашатаи приносят один вред, сеют вражду. Он призывал больше не заниматься этим. Кто будет уличен, сказал он, того ждет проклятье: он не будет похоронен по обряду. С тех пор, вплоть до этого случая, никто не нарушил запрет.
На второй день, когда Жахарбек вернулся в аул, Сота пришел к нему и спросил:
– Ты слышал это?
– Слышал, – ответил Жахарбек. – И это правда. Но что ты можешь сделать? – и он похлопал ладонью по затвору своего ружья…
Всю ночь Сота упрашивал Самарт уйти вместе с ним из аула, но она так и не послушалась его. «Аллах покарает тебя!» – сказал он, собрал свои вещи и ушел на рассвете, когда умолкли крики выпи, и долго, как бы прощаясь, поднимался по склону вон в той стороне, шел по лугам, оставляя следы на росистой траве… Удивительно, что среди горцев мог родиться и вырасти такой человек. Но вот, выходит иногда и такое. И среди камней цветок вырастает. Несколько лет спустя после этого, когда я ездил работать в Солж-Галу, видел его там на промыслах. Он больше не женился, жил один, несчастный.
В тот же день, как Сота покинул аул, Жахарбек, не спросив разрешения у аула, присоединил его двор и участок. И тут начались невиданные, непрекращающиеся дожди. И день и ночь с неба лились потоки, аул постепенно превращался в сплошное месиво из грязи. Буйно пошел в рост бурьян, поднялся выше человеческого роста, потянулся к крышам домов. Тогда Зухайра собрал у себя людей и сказал, что аулу грозит полное затопление. Надо усердно молиться и щедро давать подаяния, поучал он нас. Потом сказал, что причиной таких дождей, возможно, могли быть те двое, что живут на краю аула. Точно, конечно, этого утверждать нельзя, говорил он, никому не ведома истинная воля Аллаха. В тот же вечер он с двумя своими товарищами пошел в дом Жахарбека и освятил его брак с Самарт, хотя сами они об этом и не просили. Все ради того, чтобы аул под воду не ушел. Тьфу! Проклятье этим двоим, не знающим ни стыда, ни совести. Сидели, говорят, перед людьми спокойно, как настоящие жених и невеста.
А дожди не прекратились и после этого. И стряслась новая беда. Как-то под вечер до аула донеслись крики о помощи. Все ринулись на призыв. Да только сразу увязли в грязи, застряли в непроходимом бурьяне. Долго добирались туда, куда раньше за десять минут можно было дойти. Вокруг ничего не видно, стемнело. Только Жахарбек не открыл свои двери, не вышел на поиски – заперся в своей норе, не показывается. Страшная была ночь, и кончилась она страшно: люди увидели среди воды, песка и ила лежащего ничком Губу…
Губа был одинокий бедный человек, пришел когда-то в аул просить милостыню, да так здесь и остался, и его приютил наш аул, дал ему надел земли. И вот теперь он лежит мертвый. Убили его сыновья Жахарбека – Михарбек и Шахарбек (имена-то, имена какие! Проклятые имена!), из-за какой-то пустячной ссоры забили до смерти копьями.
На второй день Губу хоронили. Весь аул пошел на кладбище, кроме Жахарбека и его сыновей. Когда под непрерывным дождем убитого похоронили, Зухайра сел в изголовье могилы и стал читать молитвы из Корана. Как сегодня, стоит эта картина у меня перед глазами. Молитвы он читал так, что каждое слово проникало глубоко в сердце и весь ты становился объят волнением… Тогда я в последний раз видел Зухайру живым.
Эх, Асхаб, Асхаб, не подобает мужчине плакать… Но когда вспоминаю все это, не могу слез сдержать. Ну, иди к дедушке, нам уже постелили. Вот так, ложись на правый бок… Вот так, хорошо, дедушкин волк.
Потом, слушай, Асхаб, Зухайра направился к Жахарбеку. Пошел один, а людям сказал, что идет домой. Виновным считал он себя перед аулом, виновным в том, что принял первым этого слугу зла. Когда появился Зухайра, Жахарбек уже возводил свой плетень вокруг участка несчастного Губы, вбивал в землю колья. Они легко входили в землю, мокрую и податливую, а сам Жахарбек был забрызган грязью, отчего еще больше походил на кабана.
– Именем Аллаха прошу тебя: уходи из нашего аула! – сказал ему Зухайра.
– Это еще зачем? Не ты ли вернул меня, когда я хотел уйти, послал за мной человека?
– Ты убил свободного человека.
– Что?! Да разве он был свободным человеком, мужчиной? Нищий, вечный попрошайка… Мои поросята знают, в кого клыки вонзить.
– Это из-за вас не прекращаются дожди и бурьян скоро скроет дома…
– А для кабана и нужно, чтобы грязь да бурьян, хур-р, хур-р… – и Жахарбек вдруг повалился прямо в грязь.
– Именем Аллаха тебя прошу… – продолжал настаивать Зухайра.
Но Жахарбек гнул свое:
– Земля у вас жирная, смотри, как глубоко кол входит. Вот так же глубоко и я пустил здесь свои корни!
– Уходи лучше, – не уступал Зухайра.
– Да куда ж мне идти? – Жахарбек распалялся все больше.
– В Хучанчулги, откуда пришел.
– Ах, так вот сейчас я самого тебя туда отправлю! – и ринулся кабан на Зухайру: острый клык-кинжал поразил его в самое сердце…
Снова дед плачет, Асхаб. Тебя стыжу, а сам плачу. Не могу удержаться: как вспомню все это, плачу, как женщина. Да, видно, не спать мне сегодня всю ночь – какой уж тут сон! Если б не дождь, вышел бы… Но дождь все льет, льет. Как тогда…
3
На следующий день после смерти Зухайры дождь прекратился. Да так и должно было быть: большую жертву принес аул. Наступил яркий, погожий день. После похорон, когда солнце светило по-прежнему, прошел короткий теплый дождь – знак праведности умершего. Сколько народу тогда побывало в нашем ауле! За два дня высушили, утоптали подошвами ведущую к нам дорогу. А ведь какая грязь была – и за неделю бы сама не высохла!
Но тот кабан со своими подсвинками даже и после этой беды не ушел из наших мест. Видно, сильно прогневили мы чем-то Бога, что он нам послал такое наказание. Убийцы укрепляли свой дом, превращали его в настоящую крепость. Теперь на аул постоянно смотрели восемь черных зрачков двустволок, установленных по углам высокого забора.
А было то время, Асхаб, когда большие дела совершались внизу, на равнине. Уж лет десять прошло, как свергли царя. Понемногу ветер перемен стал долетать и до нашего аула. Я уже работал финагентом, собирал налоги. Появился у меня новый друг, молодой парень. Его прислали к нам из Шатоя, чтобы организовать в ауле комсомольскую ячейку. Звали его Асхаб… Да, да, не улыбайся! Именно в его честь я и дал тебе это имя. Настоящим мужчиной станешь, если будешь похож на него, дедушкин волк! Асхаб был высокий, стройный. Носил галифе, только-только появившиеся тогда, китель из фабричного сукна. Такую обувь, что была у него (теперь ботинками называют), в нашем варшхоевском краю никто не видел. Смелый он был человек, быть может, большего храбреца вообще не было под солнцем. Как сейчас вижу его перед собой: высокий, как тополь, идет, улыбаясь, прямо на дула ружей, только ладонь чутко лежит на кобуре.
Удивительным для наших мест был он человеком. Странные вещи говорил, порой просто непонятные. Говорил, например, что землю у нас скоро будут пахать железные кони и что тогда все станут жить в достатке, даже иметь по одной конке. К аулу проложат широкую каменную дорогу… А еще говорил он про звезды: будто они такие же большие, как само солнце. Земля наша, говорил он, крутится вокруг солнца, хоть нам и кажется, что все наоборот. Наш Колла, услыхав про это, сказал ему:
– Я не знаю, крутится наша земля или нет, но что у того, кто говорит это, голова закружилась – это точно.
Да, точно так и сказал тогда Колла. Не гляди, что старый, за словом ему в карман лезть не приходилось.
Тогда мало кто в ауле верил в то, что говорил Асхаб, я тоже почти не верил. А сбылось многое, о чем он говорил. Вон, на тракторах теперь наши парни даже по улицам раскатывают, не дают пройти спокойно. А тогда я его рассказам не верил, хоть и интересны они были. Заметил я тогда, что к звездам люди стали проявлять больше внимания: чаще смотрели на них, удивленно покачивая головами…
Ну что, кажется, перестал дождь? Хоть бы завтра выглянуло солнце! А рассказ мой, Асхаб, еще не окончен.
Вскоре после похорон Зухайры я навестил его жену Баху и сына Керима. Он был тогда юношей шестнадцати лет. Бывают парни, которые и в этом возрасте уже крепки, как взрослые мужчины. Керим был не из таких. Он был невысокого роста, щуплый, как подросток. Удивила меня Баху. Ни поведением, ни голосом своим старалась она не показывать горя, хотя можно было догадаться, что творится в ее сердце. Она, как обычно, сидела перед печкой и, глядя на огонь, тихо улыбалась каким-то своим мыслям. Остопируллах 11! Видно, была она человеком большой выдержки, достойной Зухайры была его жена.
– Керим, я пришел просить тебя: передай мне право отомстить за твоего отца, – заговорил я. – Тебе он родной по крови, но и мне он был дорог, как родной…
Керим долго не отвечал, сидел, опустив глаза. Потом посмотрел на меня – глаза его горели:
– Ты шестой, кто пришел ко мне с этой просьбой, – сказал он. – А ведь я пока жив и смогу отомстить сам за кровь своего отца… Ну а если меня убьют… – Только тут я заметил, что Баху шевельнулась, вздрогнула.
Да, вот какой ответ получил я тогда от Керима. «Если меня убьют, – проговорил он спокойно. – А пока…»
Месяца через два после того, в базарный день, мы вдвоем с Асхабом отправились на хутор Ами-ирзе: я налоги собрать, он по делу организации там ликбеза. Все, что расскажу дальше, произошло в селе в наше отсутствие.
В тот же день Керим вышел со двора с двумя волами и направился на базар в Шатой, собираясь продать их. В доме Зухайры никогда не водилось никакого оружия, кроме отделанного серебром праздничного кинжала. Видно, никогда и в голову не приходило ему воспользоваться оружием. И вот Керим отправился на базар, чтобы купить ружье на вырученные от продажи волов деньги.
Когда минуешь овраг, что лежит между нашим аулом и Верхним Варшом, дорога сворачивает вниз на косогор. Да-да, помнишь, как-то в пору сенокоса дедушка брал тебя туда с собой. Там, на краю косогора, уже начинается лес. Трава на этом косогоре растет густая, сочная. На этом-то косогоре и нагнали Керима с его волами сыновья Жахарбека – Махарбек и Шахарбек – будь прокляты их имена!
– Какую цену просишь за волов? – спросил один.
– Ты как: вместе с хвостами продаешь волов или хвосты отдельно? – добавил второй, и оба издевательски расхохотались.
Керим, не глядя на них, продолжал себе идти, погоняя волов.
Братья свернули в лес и там стали сговариваться:
– Столкнем его, когда поравняется с обрывом, – предложил один.
– Не будем сейчас его трогать, успеем разделаться с ним, когда пойдет обратно с базара, – сказал второй.
Они вышли из лесу и до самого Шатоя кружились вокруг юноши, подобно воронам, куражились и насмехались. Но Керим не проронил ни слова.
Придя на базар в Шатой, он за первую предложенную цену продал волов, потом так же, не торгуясь, купил ружье у человека, которого заодно попросил научить его обращаться с оружием. Тот отвел его на Хазбизне – место, что находится на пути к Гуш-Корта, – и научил стрелять.
С ружьем за плечами отправился Керим в обратный путь. На том же самом месте, на косогоре, поджидали его братья.
– Смотри-ка, он ружье купил. Наверное, скотину собирается им погонять, – сказал первый.
– Да нет, это он писать через его дуло собирается, – пояснил второй. И снова оба взахлеб загоготали.
Они смеялись и тогда, когда Керим навел на них ружье. Лишь когда дробь залепила рот младшему брату, тогда только Махарбек понял, что Керим не шутит. Но и он не успел выдернуть из кармана руку: совсем рядом с сердцем вошла в него пуля из второго ствола.
Забросив ружье в лес – год спустя, когда косил траву, я нашел заржавленный ствол с прогнившим прикладом, – Керим вернулся домой, забрал мать и с ней ушел из аула. Шестьдесят лет уже минуло, а он до сих пор нигде не объявился. Говорили, правда, будто он поселился в Шали, у родни своей матери. Но, где бы ни жил он после, а для родного аула, для людей, так почитавших его отца, Керим был потерян навсегда.
4
Поздним вечером вернулись люди в аул, принесли два трупа. Положив тела в центре аула, Колла и еще несколько стариков явились к Жахарбеку со словами:
– Жахарбек, Аллах нас создал, Аллах нас должен когда-нибудь и забрать…
Жахарбек был заносчив, как обычно:
– Что вам нужно от меня? Неужто кто-то из вас туда собрался? Так я сейчас… – не дал он договорить старикам.
Тут он осекся, заметив скорбно опущенные глаза стариков.
– Что случилось? – забеспокоился он. – Говорите!
– Жахарбек, скрепи свое сердце, горе каждого человека может постигнуть. Бывало, что в один двор приносили пять, а то и шесть мертвецов.
– Да с чем вы пришли наконец?! – у Жахарбека начала дергаться щека.
– Двое твоих парней (на все воля Аллаха!) погибли. Убил их сын Зухайры.
– Оба моих сына! Махарбек и Шахарбек! И кем?! Сыном этого труса?! Где они, где?
Растолкав стариков, Жахарбек кинулся к центру аула. Тела его сыновей, прикрытые бурками, лежали перед мечетью.
– Да, убиты!.. – закричал Жахарбек. – Вы не были мужчинами! Для того ль растил я вас, чтоб ничтожный трус, сын труса Зухайры, вас прикончил, а-а-а… Нет! Вы не мужчины!.. – озлобляясь все более, Жахарбек принялся ногами пинать трупы своих сыновей. Его пытались остановить, но он вырывался и продолжал свое, пока не обессилел.
Люди говорили меж собой, что надо бы сообщить о случившемся родне Жахарбека, однако никто не знал, где находится этот аул Хучанчулги. Когда спросили о том у Жахарбека, он крикнул зло: «В овраге». – «В каком таком овраге?» – недоумевали люди. Но добиться от Жахарбека ничего так и не смогли.
Все же несколько человек, оседлав лучших коней, поскакали в разные стороны, чтобы отыскать этот аул Хучанчулги, если только такой есть в Чечне. Все они вернулись ни с чем – не было такого аула.
Похоронив сыновей, Жахарбек долго не показывался на людях. А когда наконец стал выходить из дому, то в руках неизменно держал ружье. Жахарбек кричал, тряся им:
– Эй вы! Я вам еще покажу! Я с вами разделаюсь! – к кому именно обращено было это «покажу», никто в ауле не знал. Как-то я возвращался довольно поздно ночью с Бети-поляны, где собирал налоги, а потом еще задержался на одной вечеринке. Напротив дома Жахарбека я остановился, заслышав крики.
– Ты слышишь меня?! – кричал Жахарбек. – Ты должна родить мне сына! В этом же году! Не родишь – прикончу тебя, ведьма…
– Как мне родить сына, – послышался голос Самарт, – если ты ни на что не способен, старый хрыч?!
– Ох, ведьма! Застрелю тебя!..
– Ай, да если бы всякие, вроде тебя, стреляли в меня каждый раз, я бы не то что девять раз и одного разу замуж не вышла…
И пока Жахарбек дотянулся до своего ружья, жена его уже успела выскочить на улицу. Жахарбек ринулся за ней, выстрелил наугад в темноту. А ведьма в ответ рассмеялась уже где-то на горе, только эхо звонко покатилось по округе.
После той ночи Самарт в ауле больше не видели.
На несколько недель Жахарбек заперся в своем доме, не подавая никаких признаков жизни. Потом стал появляться, всякий раз это происходило около полудня: ходил взад — вперед по аулу, кричал, грозился, плакал. Как-то раз, когда он так бесновался в своем дворе, Колла решился приблизиться к его забору.
– Жахарбек, слушай, Жахарбек, – заговорил он, – смирись, проси поддержки у Аллаха. Бог уготовил тебе такую судьбу. Моли Аллаха послать тебе силы…
– Да? Говоришь, Аллах?! – Жахарбек кинулся в дом и выскочил оттуда с ружьем.
– Где ты, Аллах, где? – заорал он. – Покажись, если смелый! – стреляя в небо и крича с пеной у рта, он заметался по двору.
Когда Колла прибежал к мечети, он долго не мог прийти в себя, дрожал, причитая:
– Что же это такое… Ах, что же это такое… Как же до сих пор Аллах не обратил в пепел этот аул, не спустил его под воду…
С того дня люди стали еще усерднее посылать молитвы Аллаху, просили избавить аул от дьявола. А Жахарбек все палил из своего ружья, куда попало, пока наконец не ранил в ногу жену Боччи, когда та возвращалась с поля. Тогда же, после полудня, пришел ко мне Асхаб. Я сидел, разувшись, под яблоней во дворе, отдыхал.
– Что-то надо с ним делать, – заговорил Асхаб без предисловий.
– Застрелить надо, как дикого кабана, – ответил я ему. – Я возьму ружье и сделаю это.
– Так можно было поступить прежде, теперь нельзя.
– Это почему? Что случилось?
– Теперь иная власть, иные порядки, – сказал Асхаб. – Его надо изловить и отвезти в Шатой. Пусть там его судят.
– Просто так он не дастся в руки, – возразил я.
– Я с ним поговорю. На поверку такие люди обычно оказываются трусами, надо только действовать решительно.
– Нет, Асхаб, оставь это…
– Не так это опасно, как ты думаешь. Видал я уже таких храбрецов!
И что же: как он говорил, так оно и случилось. Так, да не совсем так… Кто бы мог подумать, что после всего этого я проживу еще столько лет! Ну вот, последние петухи кричат… Как просил, убеждал я тебя, Асхаб, но ты меня не послушался.
Вижу и теперь то солнце на закате: красное, зацепившееся уже за макушки деревьев, росших по склону горы. Солнце это было за спиной Асхаба, когда он шел – как тополь, высокий, стройный, – шел, положив, как обычно, ладонь на кобуру, прямо на направленный на него поверх забора ствол ружья.
– Жахарбек, – крикнул он, – опусти ружье. Новая власть у нас теперь. Царь свергнут. Пришла Советская власть, народная. Я представляю ее здесь. Люди ничего тебе не сделают. Тебя только отвезут в Шатой, суд решит твою участь. Выходи…
Тут и рухнул он, как подрубленное дерево, упал навзничь…
Люди говорили позднее, что крик, который вырвался у меня, был громче того выстрела. В несколько прыжков оказался я у забора. Прыгнул и схватился за ствол, не дав ему выстрелить второй раз. Забор рухнул, и я повалился на землю. Жахарбек не успел и рукой шевельнуть, как я выхватил у него ружье, ткнул ему в затылок и нажал на курок.
И вот что за диво тогда случилось: лишь грохнул выстрел – две змеи отделились от его тела и обвили ствол ружья. Я тут же отшвырнул его. В то, что я видел все это собственными глазами, потом никто не верил… Но ведь все так и было, ты-то мне веришь, Асхаб?
Ночью полил страшный дождь, гроза рвала небо на части. На следующий день кто-то поджег дом Жахарбека, и он сгорел дотла.
Закопали Жахарбека на краю леса, и землю сровняли, чтоб не было даже могильного холмика. А на то место, где прежде стоял его дом, с той поры каждый, кто проходил мимо, бросал камень или какой-нибудь сук. Так и образовалась там карлага 12. Я, бывало, дважды за день проходил там, чтобы швырнуть что-нибудь. Теперь уже люди забыли то место, там лишь бугор, на котором растет черная бузина.
Эх, а сон все же берет свое. Уж и рассвет близко. Подремлю-ка я немножко. Сон мой все равно короток. Час-другой – и уж дед снова на ногах…
Ну вот и прошла ночь, прошел и мой сон. Светает. И дождь не слышен, перестал. Быть сегодня ясному, теплому дню. Ах, жизнь… Сладка ты для всякого живущего!
Хвала тебе, мир! Хвала за то, что после дождя выходит из-за облаков солнце; что после жарких дней ты снова не скупишься освежить нас дождем; что растет трава; что люди рождаются и умирают; что, когда на исходе ночи терзает душу боль, на рассвете ты излечишь ее радостными голосами птиц; что есть бездонное небо со звездами, солнцем и луной – для того, кто хочет смотреть ввысь; что есть бездонные ущелья – для пожелавших вниз направить свой взор… Когда свежее утро переходит в жаркий день, иди к водопаду, что шумит в ущелье, купайся; оттуда иди по раскаленной солнцем земле, обжигая ступни; зимой, пока не одеревенеют руки, катайся на санках с сопок и, придя домой, плачь от боли в постепенно согревающихся ладонях; с годами грубеет твой голос, пробиваются волосы на твоем лице, уже на все смотришь ты глазами взрослого, у родника любезничаешь с девушкой, прекрасной, как заря; потом женишься на ней и хлопочешь, строя себе дом; потом радуешься быстро прибавляющейся семье, печалишься в разлуке с теми, кого любишь; и вот седеют волосы на твоей голове, уже ты сутул, стар, и вся радость твоя в тепле очага, в беседах с ровесниками – вот и прошла жизнь, хвала ей!
Утро. Утро выводит из тумана и зажигает над аулом солнце, которое блестит в каждой капле росы на траве, разгоняет с вершин клубившиеся там черные тучи, а с ними и мрачные думы уходят прочь из головы – и тебе, утро, хвала…
А-а, это не Асхаб ли стоит там на веранде? Встал уже…
– Уйди с моих глаз! Иди, пусть баба наденет на тебя штаны. Мужчина всегда должен выглядеть мужчиной, даже если он еще маленький. Больше не показывайся передо мной без штанов…
– Вот, а теперь иди ко мне. Ты понял меня: мужчина без штанов не мужчина!
Очень хочется мне, Асхаб, чтоб вырос ты похожим на моего друга – хорошим человеком. На отца своего не гляди, пусть себе живет в этом пыльном городе, в котором уже лысину себе нажил, пусть копается в своих бумажках. А ты должен жить здесь.
Ведь не все еще сбылось из того, о чем мечтал твой тезка, друг дедушки. Ты должен завершить его дело. Проложишь каменную дорогу к нашему аулу, и люди больше не будут от нас уезжать.
А если вдруг встретишь на своем пути человека из Хучанчулгов, прогони его – от него добра не дождешься!
И никакого зла не делай на земле, даже муравейник не трогай. Ты слышишь меня: муравейника не разрушай! Народ говорит: если на покосе, пусть даже случайно, задеть косой и разрушить муравейник – пойдут дожди, сгниют травы, придет голод, беда… Ты хорошо все запомнил, дедушкин волк?..
1985.
1 Дада – здесь: дедушка.
2 Женщина – здесь: жена. У чеченских мужчин не принято называть супруг по именам.
3 Народное поверье гласит: если хлестнуть любимую девушку волчьим хвостом, добытым с живого зверя, то она не сможет ответить отказом.
4 Диаклет (искаж.) – диалектика.
5 Игра слов. В смысле: люди ниоткуда.
6 Тайп – род.
7 Паднар – топчан.
8 Дяттага (даьттагIа) – блюдо из кукурузной муки и масла.
9 Волк – символ мужества и смелости.
10 Няар-мачаш (неIар-мачаш) – обувь из грубой кожи.
11 Возглас, выражающий удивление.
12 Карлага – холм проклятия.
Перевод Ю. Доброскокина.
Горы воздвигая на земле
С любовью к людям, павшим
в боях с деникинцами
в чеченских и ингушских селениях
Автор
1
Ночь была на исходе, поленья давно догорели, печь и комната уже успели остыть, когда старик, скрипнув досками паднара1, сел в постели, немного помедлил, моргая глазами, и, наконец, резко поднялся на ноги. Он подошел к бешмету, висевшему на деревянном гвозде, достал из кармана серебряные часы и стал вглядываться в циферблат. До рассвета оставалось больше двух часов – он, в сущности, знал это и сам: вот уже сорок лет просыпался ночью в это самое время и все-таки каждый раз по привычке, как и сейчас, глядел на часы.
Когда он, негромко кашлянув, открыл дверь в коридор, ее скрип показался ему слишком громким и резким. Он хорошо знал, что ислам запрещает толкование подобных примет, и все же, встретив женщину с пустыми ведрами или увидев плохой сон, начинал тревожиться, мысли переставали подчиняться его воле.
– Надо будет смазать петли, – сказал он вслух, затем вдруг замер на месте и прошептал: – Суждено ли?..
Сердце подсказывало большую беду. Иногда Ибрагим-хаджи делился своими предчувствиями с аульчанами, и, если они сбывались, о нем говорили как о человеке, которому Аллах приоткрывает кое-какие тайны. Когда до него доходили такие разговоры, он не опровергал их, но и не подтверждал, он не мог сказать, что ему действительно бывают знаки, но не мог с уверенностью и отрицать этого, считая себя все-таки не лишенным какого-то дара… Как знать… Сказано ведь, что новые времена явят людей, которые, сами того не ведая, будут пророками…
Эта мысль не приходила к нему уже тридцать лет. Она возникла в молодости, когда он всерьез углубился в богословие, и никогда он ею ни с кем не делился. Потом, через несколько лет, когда он на сорок дней уединился в глубокой яме-халбат, позволяя себе только пить воду, читая при слабом свете свечи священные книги, он понял, насколько эта мысль мелка. Осознав это, улыбнулся и навсегда забыл о ней.
Заточив себя в халбат, он не постиг какой-либо значительной тайны, но увидел, как изменился его взгляд на мир. Мир стал намного светлее и значительнее. Если раньше он просто видел воду, траву, камни, теперь же ему открылась их глубинная суть, он увидел звенья связующей их цепи, услышал удивительную музыку этих связей. Все в природе казалось возвышенным, глубоким и чистым, у всего была своя душа, своя боль, своя радость – даже у камня. Он понял, что тайны Земли, Вселенной, звезд невозможно постичь за один день или даже за всю человеческую жизнь, для этого мало и тысячелетий, что раскрыть их до конца невозможно – одна обнаженная тайна скрывает другую, новую, и нет этому ни конца, ни начала.
«А человек, – думал он, проведя в яме сорок суток, – должен, всю жизнь возвышаясь чистотою своей души, подниматься в гору. Опорой на этом пути ему будут правда, справедливость и Всевышний».
Но Ибрагима-хаджи, вышедшего на улицу в сыромятных постолах, заставил остановиться ветер, хлеставший в лицо колючим мокрым снегом. Несмотря на то, что до встречи зимы с весной оставалось немногим больше трех недель,2 холод был еще крепок. Густая темень словно душила собачий лай, изредка прорывающийся в ночи.
Когда гойтинцы предложили ему стать их кадием, Ибрагим-хаджи растерялся, хотя имя его было хорошо известно даже в изобилующем богословами Шали:3 гойтинцы, народ со своим крутым нравом, за три года изгнали трех мулл, заявив каждому из них, что такой, дескать, духовник им не нужен, ступай домой.
Ибрагим-хаджи, правда, не опасался, что повторит их ошибки. Хотя, как знать…
До того как образовался этот аул – Гойты, люди жили, высекая вырубки в окрестных лесах, образовывая для себя хутора. Потом, когда решили заложить аул, на берегу маленькой речушки Гой-хи (похоже, раньше она была куда полноводней) собрались выборные из спустившихся с разных уголков горной Чечни тайпов4: цонтарой, беной, варандой, гендаргуной, дишний, чунгарой, эгашбатой, ляшкарой, сярбалой, чиннахой, чермой, вашандарой, пхамтой, туркой, цесий, мяршалой и других.
– Хей, люди, – сказал один из них, Гела из рода дишний, – нас тут собралось много, и мы теперь заложим на берегу этой вот речки Гой аул и назовем его Гойты. Как вы знаете, башня может быть прочной лишь тогда, когда прочно ее основание. Если мы положим в основание благородство, честь и уважение, – это будет аул. Впрочем, если мы поставим его на коварстве, жестокости и трусости, это будет опять-таки аул, правда, тогда он будет совсем другим аулом. Какой путь мы выберем?
Люди выбрали первый. С той поры в ауле (да оглохнет дьявол, чтоб не было сглаза) не случалось ни убийств, ни предательств, ни другого какого бесчестья.
Аул, объединивший множество тайпов, неукоснительно чтил законы гостеприимства, однако любого, кто захотел бы остаться в нем насовсем, ждал решительный отказ. Причиной тому была не только нехватка земли, которой для постоянно множащихся аульчан становилось маловато. «Не исключено, что человек от другого корня расшатает с таким трудом созданное основание, – говорили старики. – А потому даже нанявшихся пастухами пускать в аул не следует, расплатитесь с ними на окраине аула, и пусть идут себе с богом».
Ибрагим, придя в Гойты, не старался казаться лучше, чем был на самом деле, а попросту пошел и дальше избранным путем – к чистоте духа, не отклоняясь с этого пути ни при каких обстоятельствах. Оказалось, ничего другого гойтинцам и не требовалось – затаив дыхание, они наблюдали за ним, выбравшим такую нелегкую дорогу, потом, собрав деньги, удлинили ее до самой Мекки, а он, вернувшись оттуда уже Ибрагимом-хаджи, еще больше усложнил свой путь, добавив к и без того тяжелому грузу обетов ежедневные посты.
Так, в постах, прошло семь лет, и к его запавшему животу пришлось подвязывать небольшую подушечку, чтобы не спадал пояс. Теперь он позабыл сладость пищи, но вместо этого пришла радость познания пищи духовной.
– Глухая ночь… Ночь волка-разбойника. Такие ночи обманывают сторожей. Как они там, на своих постах?.. – Ибрагим-хаджи, шепотом говоривший сам с собой, вдруг похолодел, ощутив прилив новой, никогда прежде его не беспокоившей тревоги.
Снова скрипнув дверью, он вернулся в комнату, совершил омовение и принялся за намаз. На стене, освещенной тусклым светом лампы, стоящей на окошке между двумя комнатами, двигалась длинная тень Ибрагима-хаджи, опускающегося в поклоне.
Закончив намаз, он поднял ладони к лицу и начал доа:5
– Великий и всемогущий Аллах, сотворивший семь земель и семь небес, всевидящий и всезнающий, сотворивший поля, дающие человеку пищу, горы, показывающие величие твое, сотворивший леса для зверя и моря для рыбы, – слава и хвала Тебе.
Молился он, прикрыв глаза и отрешась от всего. Изредка, нарушая сумрачную тишину, Ибрагим-хаджи повышал голос:
– Мы старались сохранять и приумножать в себе достоинства, благословленные тобою: благородство, честь, чистоту, равенство – берегли их, не становясь ничьими рабами, пуще жизни дорожа свободой, воевали с унхой,6 оставлявшими после себя только выжженную землю и смердящие трупы. Хромой Тимур, покоривший полмира, так и не одолев нас, вынужден был вручить саблю примирения зумсоевцу,7 потом сражались с крымскими, ногайскими, таркоевскими князьями. Мы, во главе с Шамилем, дрались с врагом, численностью в сто раз превосходившим нас, сражались годами, так и не преклонив перед ним колени, бросаясь с кинжалами на пушечные жерла, обучая младенцев стрелять раньше, чем они обучались ходить, не имея в этом огромном мире защиты, кроме Тебя, и укрытия, кроме наших гор (хвала Тебе, Всемогущий, за то, что поселил нас в горах, – как трудно было бы нам выжить на голой равнине, как трудно было бы оставаться людьми), мы сражались с теми, кто пытался оттеснить нас на край пропасти и погубить в жуткой бездне; сохрани нас, Всемогущий, сохрани нас, пришедших сюда, поливая землю и без того малой кровью нашей; помоги нам, Всевидящий, в миг постигшей нас опасности, не оставь нас щедростью милосердия Твоего.
Закончив молитву, он погрузился в размышления. Богословы и муллы Чечни, многие из которых собрались на меджлис8 в Бухан-Юрте, приняли решение беспрепятственно пропустить Деникина, выполнить его условия о выдаче гяуров-балшаков.9 Ибрагим-хаджи на этот сход не пошел. Тогда к нему прислали людей – дескать, не губи понапрасну народ, подчинись, делай, что велят.
– У меня нет такого права. Я читал тот же Коран, что и вы, и не хуже вас знаю, что мне следует делать и чего не следует, – ответил он.
«Ты противишься потому, что начитался неверных книг», – попытался его разозлить кто-то, но он, не обратив внимания на эти слова, принялся перебирать четки.
Ибрагим-хаджи читал на русском языке книги и газеты, доставляемые для него из Солж-Кала10, узнавая при этом много полезного для себя. По этой причине и распускали сплетни его враги, поговаривая, что он собирается принять христианство. Это имел в виду и посланник меджлиса.
Ибрагим-хаджи знал, что их попросту грызет тревога за свой скот, земли и имущество, а до народа им нет никакого дела. Потому и Тапа Чермоев,11 встав перед собравшимся в Урус-Мартане12 людом, кричал: «Хей, люди, хей! Знайте, царем над вами собирается стать не кто иной, как русский мужик без роду и племени! Если у кого есть земля, так тот перестанет быть ее хозяином, и все вы перестанете быть хозяевами скоту своему, и семье своей, и даже собственной голове своей! А потому, если не хотите потерять землю и родину, делайте, что вам говорят!»
Тогда народ ответил ему так: «Мы сыты по горло тем, что ты для нас сделал, а теперь хотим жить и поступать по своей воле».
У Ибрагима-хаджи не было богатства, чтобы терзаться страхом лишиться его, да и было бы – не стал бы ради него поступаться совестью, поскольку не относил себя к тем слабым путникам, которых может сбить с дороги мирская суета. Ибрагим-хаджи знал и еще одно: если он примкнет к тем, собиравшимся на меджлис, люди его не поддержат. Посланники новой власти объявили, что осуществят давнюю мечту народа – дадут ему землю, свободу и возможность жить по-человечески. Поэтому гойтинцы были готовы до последнего вздоха защищать и оберегать эту власть и сражаться с ее врагом как со своим собственным.
В памяти Ибрагима-хаджи, неподвижно сидевшего с прикрытыми глазами, ожил Асланбек,13 сын Джамалдина из Шатоя, недавно державший речь здесь, в Гойтах, на сходе.
«У нас, горцев, нет ни заводов, ни фабрик, все наше состояние измеряется землей, – Ибрагиму-хаджи припомнились строки из прочитанной в газете речи Асланбека. – Сейчас к нам пришла свобода, та самая, во имя которой наши отцы бросались на штыки и пули, и эту свободу мы не отдадим никому…»
«Да, этот юноша понял все правильно. Свобода и земля – вот что нужно народу. Умен он, а ведь как молод! Прямо искра, а не человек – способен зажечь народ и увлечь его за собою. Но такие люди долго не живут. Да сохранит его Всевышний для этого горемычного народа… Надо будет послать кого-нибудь в Шатой, пусть попросят приехать Асланбека и Гикало.14
– Я принесла поесть, – заговорила жена, которая бесшумно подошла к Ибрагиму-хаджи.
Он промолчал. Жена потихоньку вышла в другую комнату. Есть не хотелось.
«Если бы мы нарушали обычаи всякий раз, когда соблюсти их нелегко, они давно перестали бы существовать. Их надо беречь, не жалея для этого, если надо, собственной крови», – думал Ибрагим-хаджи, слушая, как метет за окнами.
И вдруг:
– Эй-эй, тревога! Тревога! Наши траншеи занял враг! Тревога!
«Шида, сын Цаны, – узнал Ибрагим-хаджи голос кричавшего. – Вот и случилось то, чего я боялся: разошлись, оставили траншеи, понадеявшись на то, что такой темной и холодной ночью враги не сунутся… А они пришли и хозяйничают в ауле, пока мы спим».
– Эй, тревога! – голос бился во все двери, пробуждая даже тех, кто спал крепким сном.
Выкрутив фитиль лампы, Ибрагим-хаджи стал одеваться. Жена суетилась рядом, обрывая с бешмета обтрепавшиеся нити, подавая сапоги, отряхивая папаху.
Вскоре с высокого минарета разнесся высокий, звенящий голос Ибрагима-хаджи.
2
Хлопья снега падали в выплескивающуюся из переполненного кувшина родниковую воду, таяли, исчезали в ней.
Рядом с кувшином стояла, потупив глаза, девушка, которую здесь, в Гойтах, как и в окрестных аулах, уважительно называли полным именем – Гайтакин Себила.
Поодаль, глядя на нее и поглаживая гриву своего коня, стоял худой высокий юноша – Айда, сын Довты.
Они стояли так уже около получаса.
У родника не было больше ни души – все разошлись по своим делам, мужчины отправились к площади перед мечетью, готовились к бою, старики, женщины и дети поспешно, пешком и на телегах, покидали аул, уходя вверх, в спасительные горы.
А эти двое, как всегда, начали день у родника. Высокие и чистые отношения между юношей и девушкой, которые украшали любой праздник своими танцами и песнями, для многих были предметом зависти. Молодые люди встречались дважды в день у родника и подолгу разговаривали. Еще недавно кипевшие силой молодости и любви, озаренные предвкушением скорого счастья и близости, сегодня они были печальны и полны тревоги.
И все же, не поддаваясь страху, нахлынувшему на них этим холодным и угрюмым утром, улыбались друг другу, радуясь хотя бы такой возможности побыть вместе.
Оба корили себя за то, что упустили время, не развели огня под собственным очагом и не провели вместе хотя бы одной ночи. Они встречались на вечеринках, у родника, на свадьбах, посиделках, не торопя судьбу, думая, что впереди их ждет долгая жизнь.
Со стороны мечети доносились громкие голоса. Медлить Айда уже не мог.
– Иди, Себила. Догоняй наших.
– Я не покину аул.
– Почему?
– Я нужна здесь.
Себила подняла свой кувшин на плечо и пошла. Айда почувствовал мучительную зависть – к ее кувшину, к тропе, по которой она шла, к воде, которую она пила. Ему подумалось, что он самый счастливый человек на свете: чего еще можно пожелать, если его любит такая девушка? Нет, не напрасно он просыпался до рассвета и шагал сквозь хлопья падающего снега, сквозь тишину, изредка нарушаемую одиноким собачьим лаем, сквозь покой скованных стужей улиц. Он шел к ее дому, стоял подолгу под окном, уходил за аул и бродил до рассвета, а утром, слыша скрип открываемой ею калитки, спешил к роднику, не прислушиваясь к людской молве, ползущей по аулу: «Видать, напустила девушка порчу, опоила, приворожила парня». Ему же казалось странным, как люди не понимают, что всему причиной ее красота… Кое-кто советовал ему: оглядись, остынь, посмотри на себя со стороны, может, сменишь дороги, которыми бредешь невесть куда. Иные предлагали: раздобудь ее обувку, налей в нее воды и выпей, тогда исцелишься. Но ему вовсе не хотелось исцеляться, и на советчиков он не злился, а только отмалчивался и улыбался.
Он стоял, глядя, как она уходит, и вдруг понял, что никогда уже не увидит больше солнечного, ни с чем не сравнимого света Себилиных глаз. Внезапное это наитие его не испугало, более того, он также понял, почему так радовал его мир последние несколько месяцев – ведь он, в сущности, и не жил в этом мире, жила его оболочка, его тело, тогда как душа готовилась к осуществлению какого-то высшего предназначения. Себила смогла заглушить, развеять тревогу, ворочавшуюся где-то в глубинах его сознания. А раз так, то ее сил достаточно и для того, чтобы душа его и на том свете была спокойна.
Он посмотрел на небо: в серой мгле не было видно ничего, кроме летящего, будто из горловины туго надутого бурдюка, крупного, мокрого снега. Айда верил, что где-то там, высоко, выше этих туч и серой мглы, в ослепительно-синем пространстве, уготовано место и для его души.
Он мотнул головой, словно стряхивая эти мысли, и направился к мечети. Юноша злился на себя – не с такими мыслями должен мужчина готовиться к сражению, – казалось ему.
Еще не дойдя до мечети, он услышал голос старого Даны:
– Не то ты говоришь, Доша, не те слова, что нужны сейчас. Если кто-то из нас не хочет браться за оружие, он волен оставить аул.
– Дана, ты прекрасно знаешь, что, покинув аул и тем самым сохранив свою шкуру, жить на этом свете я не стану. Я просто хотел сказать, стоит ли нам принимать бой, который мы неизбежно проиграем. Не лучше ли отступить в горы, тем более что так советуют поступить и мартановцы, и атагинцы, и вообще каждый, кого ни спросишь. Нас и так осталось мало, я боюсь, как бы мы, чеченцы, совсем не исчезли с лица земли.
– Доша, не от хорошей жизни проливали мы кровь, уменьшившись из-за этого числом. Такой ценою мы завоевали право на свободную жизнь. Только жертвуя, можно одолеть беду. Если бы мы поступали иначе, нам бы следовало не мужчинами называться, а выйти за кого-нибудь замуж и всю жизнь изображать из себя невесток. Разве можно вообразить что-нибудь более позорное?
«Эх, Дана! На твоей правой руке не хватает двух пальцев – мизинца и безымянного – эту отметину оставила шамилевская война. Ты приготовился сегодня к сражению так же, как и в давно минувшие времена, надев двойную кольчугу. – Защитит ли она тебя от нынешних винтовок?..»
Частая стрельба, донесшаяся с западной стороны аула, прервала мысли Айды.
– Где идет бой? – спросил Дана у стоявших поблизости.
– Выстрелы доносятся с хутора Хаччака.
– Э-эйт! Это дерется старый волк Новраб-хаджи вместе со своими волчатами. – Дана только и успел, улыбнувшись, поднять руку к усам – в каменную стену мечети ударил снаряд.
Потом наступила тишина. Осела пыль, и старики, рассыпавшиеся кто куда, придя в себя, увидели Дошу, распластанного на земле, под головой его медленно растекалось пятно крови. Айда приложил ухо к его груди и, поднимаясь, почувствовал, как полоснуло по сердцу: сквозь дырявую подошву Дошиного правого постола были видны сухие, истертые в солому, кукурузные листья и почерневший ноготь большого пальца.
– Не дышит, – сказал Айда. Никто не обронил ни слова. Висела тягостная тишина.
– Началось, – прошептал кто-то, и тихий этот шепот гулко разнесся по майдану.
Ибрагим-хаджи, воздев руки, громко, во весь голос, прочитал молитву, встав в изголовье убитого, которого молодые люди уложили на бурку и повернули головой к востоку.
– А теперь, люди, расходитесь по местам, и да поможет нам Аллах, – сказал он, завершив молитву.
– Эгей, братья, те, кто в моем отряде, – ко мне! – воскликнул Чода, сын Йошурки. – Мы будем биться на восточном краю аула.
– А вы – за мной, мы займем противоположный край, – Хату, сын Девлы, собирал свой отряд.
– Подождите, люди, – сказал Дана, – нам нужно выиграть время для того, чтобы уходящие успели покинуть аул, и для того, чтобы закончить приготовление к бою.
– Ты прав, Дана. Но никто не дает нам этого времени, – конь Чоды, не в силах устоять на месте, выгибал шею, жарко перебирал тонкими ногами.
– Я знаю. Нам нужно схитрить. Надо послать человека на переговоры. И просить часа два на обсуждение их предложения.
– Не дадут. Мы им объявили свой ответ еще два дня назад.
– Все-таки сколько-нибудь да выиграем.
– Дана прав! Прав Дана! – послышалось отовсюду.
– Дана прав, и я считаю, будет правильно, если вы пошлете для переговоров меня, – на середину площади вышел Шида, сын Цаны.
– Разве нельзя послать кого-нибудь другого? – спросил Чода.
– Я знаю язык. А потом, по мне дети не будут плакать.
– Что ж, ты прав. Только постарайся затянуть переговоры – надо выиграть время, – закончил Дана.
Тотчас принесли длинную палку, привязали к одному ее концу кусок белой ткани. Шида взял в руки палку, обвел внимательным взглядом собравшихся людей, и Айде показалось, что глаза его сияют ярким, необычайным светом. Тонкая, того и гляди переломится, талия, бледное, обрамленное аккуратно подстриженной бородкой лицо – Шида выглядел благороднее и красивее всех, кого когда-либо видел Айда. Он подошел и встал рядом с ним.
– Если я не вернусь, пусть моей жене раз в год дают зерна на посев и одно бязевое платье, – обратился Шида к стоявшим рядом мужчинам.
Потом, ударив коня коленями, Шида погнал его вскачь. Следом поскакали Айда и еще один аульчанин.
Шида сидел в седле прямо, будто выточенный из дерева. Взгляды аульчан провожали его, пока он не скрылся из вида.
– Ибрагим-хаджи, наши гости требуют, чтобы им дали оружие. Они говорят, что отказываются сидеть сложа руки, когда идет бой.
– Гостей будем беречь. В бой их не пустим. Иначе ради чего бы мы все это затевали?..
– Верно, верно, – все согласно закивали головами. И тогда из толпы на середину площади вышел слепой Элад. Приложив ладонь к уху, он начал песнь:
Мы умрем и уже не воскреснем,
Молодыми не станем, состарившись,
Ведь родившие нас матери
Жизнь еще раз нам не дадут.
Пятьсот илли15 знал Элад. Около двухсот из них перенял от него Айда. Успеет ли перенять больше?
Где выучил Элад свои песни? Когда-то, отправившись в ногайские степи за табуном, принадлежавшим какому-то богачу, он был ранен в голову, вернулся и, так и не оправившись от раны, ослеп, но не дал горю подмять себя, не махнул рукою на жизнь, а стал бродить по землям Мартана, Шали, вдоль Терека, по Ведено, Шатою, уходил далеко в горы – в Нашха, Малхисту, туда, где живут древние тайпы шаро, шикаро, чебарло, дзумсо… Он навещал всех тех, кто в этой обширной Чечне был дорог ему и кому был дорог он сам, слушал старцев, их песни, вникал в плач птицы, стонущей над поваленным бурей гнездом, в рокот воды, срывающейся с крутых порогов, в шум разбивающихся о теплые камни капель слепого дождя, в свист пляшущих в урочищах метелей, в бурную музыку быстрого Аргуна. Постигая все это, складывал слепой Элад свои песни. Потеряв способность видеть мир, он весь обратился в тончайший слух, уже не принадлежавший ему самому, а ставший слухом Отчизны. Он раньше всех слышал приближение врага, за несколько верст улавливая стук копыт чужих коней. Что говорить, он чуял сами мысли врага о нападении – так тонок был слух слепого Элада. В таких случаях он говорил об услышанном людям. Верили
ему не всегда, правда, потом, когда предсказание сбывалось, людей охватывало раскаяние.
Из пятисот песен Элада сам он сложил около ста, вложив в них самое главное из того, что доносил до сознания предельно обостренный слух, и прибавив к этому то, что некогда дарило ему зрение, – краски. Бережно сохранив их в памяти, он теперь придавал каждой песне свою неповторимую окраску.
Увлеченный песней, Элад вернулся в дни своей молодости. Он высоко вскинул голову, развернул плечи, представляя себя скачущим на горячем скакуне по гладкой степи, грезилось ему, как он в мгновение ока расшвыривает сторожей и, словно волк, описав кольцо вокруг табуна, угоняет его, потом, уже на краю своего села, останавливается, и тогда несется его ликующий крик: «Хей-хей! Аульчане, вот доставшаяся на мою долю часть угнанного табуна. Раздавайте ее сиротам, женщинам, оставшимся вдовами, и беднякам». И звучит над аулом песня, и парят голоса благородных девушек, очищающих кукурузные початки на белхи:16
Видели вы солнце на восходе,
Видели вы солнце на закате,
Видели вы, как Элад, сын Довка,
Ясным днем приводит угнанный табун…
Песня Элада, подхваченная всеми, кто был на площади, набирала силу, и люди, воодушевленные ею, уходили на край села, к месту предстоящего сражения.
3
Шида и два его товарища одолели уже полпути, когда порыв ветра донес до них слова песни. И стало им радостно, увереннее и сильнее забились сердца, повеселели их взгляды.
– Эйт! – Шида взмахнул нагайкой, пуская коня вскачь. Славная песня!
Его товарищи тоже стегнули коней.
Вышедший им навстречу офицер был высокомерен:
– Ну, зачем пожаловали?
– Оставили бы вы наш аул в покое… Мы ведь не сделали вам ничего плохого.
– Оставим, если выдадите нам большевиков: Девлин Хату, Йошуркин Чоду, Ибрагима-хаджи. Даю вам пятнадцать минут на размышления.
– Пятнадцати минут мало, полковник, дайте хотя бы два часа.
– Пятнадцать минут и ни секундой больше!
И понял Шида, что, скорее всего, больше не будет в его жизни ни часов, ни дней, ни лет. Эти пятнадцать минут станут последними. И вспомнилась Шиде его кузня: серпы, косы, топоры. Ковал он и оси для телег, и колесные ободья, а вот кинжалов – кинжалов он не делал, на них уходило слишком много времени, и люди привозили их из Дарго и Жугурты.17 Шида ковал то, что требовалось аульчанам для их крестьянских дел. Работой Шиды земляки были довольны, любили, собравшись в кузне, провести время за шутками и разговорами. У Шиды всегда находилось для них какое-нибудь дело. Особенно нужна была помощь, когда приходилось резать железо: шесть человек должны были вцепиться в огромную рукоять кузнечных ножниц, и только когда они, напрягшись, трижды наваливались на нее, ножницы отсекали металл.
Шида любил пошутить, ни одного ребенка не пропускал мимо кузни, ловил, бросал в чан с водой, где остужал железо, потом, хохоча, вытаскивал орущего, перепачканного сажей мальчишку; как-то один ламаро18 (это-то была жестокая шутка, он потом долго раскаивался), так вот, как-то один ламаро ехал на телеге, и Шида, заприметив его издалека, бросил на дорогу раскаленный кусок железа – у них, у ламаро, туго с железом-то, как ему было проехать мимо такого богатства, да еще и дармового, – огляделся он, не видит ли кто, спрыгнул с телеги и цапнул тот кусок… Ну и обжегся, конечно, запрыгал на месте. Шида, наблюдавший из кузни, в тот миг не удержался, появился в дверях и рассмеялся, да вот только…
– Он еще и смеется, этот дикарь! Мать вашу… Даю вам пятнадцать минут!
– Зачем же так много? А вот я не дам тебе и минуты! – с этими словами Шида выхватил из-под бурки винтовку. Одновременно с выстрелом, ударившим полковника в грудь, раздались еще несколько, и, падая, Шида успел увидеть рванувшего на коне Айду и крикнуть вслед: – Приглядывай за кузней!
Другой его товарищ, изрубленный шашками, упал рядом с ним. Теряя сознание, Шида с горьким сожалением подумал: «Только одного и успел я прикончить. Вон, отец рассказывал, Очар-хаджи в Гезлой-ауле, когда его вот так же оскорбили, разрубил кинжалом двоих…»
На Шиду обрушилась черная тишина, он понял, что настал его последний миг, но через некоторое время к нему вернулся слух. Собрав последние силы, Шида пополз в ту сторону, куда проскакали кони – там должен быть аул. Время от времени в лицо ему летели комья грязи с копыт, но ни одно из них его не задело. Для того чтобы навсегда затихло это окровавленное человеческое тело, хватило бы одного удара лошадиным копытом, но какая-то великая сила оберегала его от ударов. Зачем?
Шида полз долго. И когда он, уже совершенно выбившись из сил, замер, до него донесся голос Элада:
– Эти люди, большевики, – наши гости, ты знай,
А гостей выдавать не в обычаях наших, ты знай,
Жить на свете ценою их жизней не станем, ты знай, –
Со словами такими кремневое вскинув ружье,
Прямо в сердце полковнику выстрелил Шида, сын Цаны.
Значит, Айда добрался до своих. Он рассказал. Теперь можно и умереть. О нем, как о Шихмирзе, сложили песню…
Она, как и песни о Таймин Биболате и Харачоевском Зелимхане,19 останется жить в народе. Слепой Элад часто будет петь ее…
Так успел подумать Шида, и радость в последний раз согрела его душу. Потом ее поглотили холод и тьма.
4
– Дети, уходите отсюда! Уходите! Если вы и впрямь хотите помочь, разносите патроны.
– Там ребят и без нас хватает.
– И вы им помогите. Дай нам ружья.
– Как я дам вам ружья, когда вы и удержать их не сможете?
– Сможем! И удержать сможем, и стрелять умеем!
– Сколько хоть вам лет-то?
– По пятнадцать!
– Если бы вам было по пятнадцать, вы были бы мужчинами… И двенадцати, наверное, нет…
– Есть!
– Ну что с вами сделаешь?! Берите. Пошли, – суровый старик направился к винтовкам, стоявшим в углу под навесом. – Нате, вот вам по ружью и по пять патронов.
Мальчишки, расхватав оружие, бросились прочь, но тут же остановились неподалеку. Один из них, подойдя к старику, сказал:
– Ваши,20 дай еще пять патронов.
– Ступай отсюда. Хватит с тебя, если убьешь пятерых солдат.
– Так ведь не каждая пуля попадает в цель…
– Ну-ка, верни ружье. Дай сюда, говорю! Tы, я вижу, собрался стрелять издали!
– Не падай духом, Кайсар, я сейчас перевяжу твою рану.
– Я… я держусь, Эламха… ты целься получше…
– Из пушек стали бить по аулу, дети ишаков.
– Отнять бы у них эти пушки и направить против них же.
– Куда там… Как их отберешь?!
– Если бы могли стать молниями.
– Как это молниями?
– Если бы люди могли стать молниями и обрушиться на них… Молнию пули не берут…
– Заговорился ты совсем… Помолись лучше.
– Нет, я в своем уме. Человек может стать молнией, так бывает.
– Опять из пушки ударили. Беччаркин дом в пыль разнесло.
– То, что дом разрушили, это не страшно, но вот если Беччарка узнает, что разбили посудину с кислой сывороткой, как бы он не покончил с собой, бросившись в самую гущу боя… Ха-ха-ха…
– Не смейся, рану потревожишь…
– Ха-ха-ха… Ха-ха-ха…
– Кайсар! Кайсар!.. Не дышит… Говорил ведь ему. Да успокоит Аллах твою душу…
– Ийт, нечисть! Точно бьют. Пригнись, дочка, не старайся умереть раньше своего часа.
– Бабушка Ану, а может человек умереть раньше своего срока?
– Ибрагим-хаджи говорит, что человеку дано восемь сроков.
– Как это?
– Семь раз, если быть разумным, смерти можно избежать. На восьмой раз от нее уже не уйти.
– Ну, значит, один мой срок только что истек…
– Иди сюда, ляг в телегу рядышком со мной… Вот так… смотри, если хочешь, в щели.
– Ану, гляди, лежит кто-то.
– Тпру, стой! Ну-ка, подержи вожжи… Кто это?.. Это же Шида… Да, он… Достойный был мужчина… Хвала тебе, Всевышний, за то, что дал ему сил доползти со столькими ранами. Поднимай его… Не дрожи и не плачь. Такая вот она, жизнь-то… Настоящий был мужчина… Клади осторожней. Вот так. Теперь трогай. Пригнись, спрячься. Не бойся, если прикоснешься к нему, это не страшно…
– Ану, там еще кто-то лежит.
– Останови-ка. Так, шевелится… Не изменило ли тебе мужество, парень?
– Ану… ты… откуда здесь?..
– Оттуда… Иди сюда, дочка, нам надо положить его на вот эту бурку и поднять на телегу. Иди к голове. А парень-то, гляди, хоть бы что, улыбается, лежит… Ты что, девушка?! Зачем ты отпустила бурку? У тебя что, руки отнялись?
– Он не раненый.
– Как это не раненый, разве ты не видишь ран?
– Он ко мне тянется.
– Правильно, тянется, на то он и мужчина. Бери бурку, не умрешь, если он тебя коснется. Осторожнее клади, осторожнее. Вот так… Теперь трогай.
– Ану… Ану…
– Что, Кайсар?
– Как зовут эту девушку?
– Разве ты не знаешь ее, Кайсар? Это Совдат, дочь Эдилсолты, чей дом стоял на вашей улице. Теперь она живет со мной.
– Совдат… Я ведь редко бывал дома… Совдат…
– Что?
– Осенью, когда начнутся кукурузные белхи, вспомни меня, спой песню, ту самую, в который поется: «Поднимаясь на гору высокую…»
– О чем ты говоришь, Кайсар?.. Ты выздоровеешь…
– Ты меня… прости… я пошутил… да… прости… спой песню, Совдат, у меня нет сестры, чтобы спела в память обо мне…
– Ану, Ану… Он умирает!
– Не плачь, дочка. Лучше прочитай молитву.
Они, изнуренные голодом и стужей, едва державшиеся на ногах, много раз натыкались на жилье. Но человека, который принял бы их, накормил и приютил до конца зимы, так и не встретили, пока не пришли в Гойты. В тяжкой дороге они потеряли многих своих товарищей, а в одном ауле у них отняли последнюю одежду и сапоги… Тогда, обмотав замерзшие ноги тряпьем, продолжили они свой путь по чужому краю.
Когда Сергей вступил в Красную Армию, он не сомневался, что старую жизнь можно уничтожить с размаху, за несколько дней, получат люди вдоволь земли, дети будут сыты и одеты, и заживет он со своей Акулиной счастливо. Как она там, Акулина?.. Уже, наверное, оплакивает его. Теперь пути назад нет, теперь нужно биться до последнего.
На глаза Сергея навернулись слезы. Если бы гойтинцы выдали их деникинцам, он понял бы их и не упрекнул. Чего ж ради губить себя и свой аул ради этих чужих людей?! Но случилось неожиданное. Не выдали. Вместо того аульчане пошли на верную смерть, не позволив своим гостям даже взяться за оружие. За свою жизнь он повидал немало разных людей и в последнее время уже не ждал от них ничего хорошего. Каждый, казалось, готов убить другого, чтобы отнять последний кусок хлеба. Не раз видел он, заглядывая в человеческую душу, бездонную пропасть. Но здесь, в Гойтах, открылись ему и ее вершины. И над этими вершинами человеческого духа властвовали законы, с трудом доступные его пониманию. И сейчас, стоя у окна и прислушиваясь к звукам боя, Сергей понял, что не имеет права живым увидеть победу, завоеванную ценой стольких жизней. Даже если ему не дадут оружия, он будет сражаться голыми руками. И будь что будет!
– Хаджи, наши гости не остались в доме, они вступили в бой. Я не смог удержать их…
– Раз так, да поможет им Аллах.
– Хаджи, враги подошли к самому краю села.
– Я знаю. Дальше забора Умхи они пройти не смогут. Иди, скажи людям, что дальше они не пройдут.
– Хаджи, люди просят, чтобы ты молился…
– Я молюсь беспрестанно, Сардал.
– Люди хотят, чтобы ты молился громко, так, чтобы они слышали. Чтобы ты просил Всевышнего помочь нам победить.
– Великий и всемогущий Аллах…
Когда Ибрагим-хаджи закончил молитву и наступила тишина, слепой Элад почувствовал на себе взгляды стариков, не покинувших так же, как и он, аул. Все они были готовы подхватить его илли и вознести высоко в небо, не давая опуститься на землю. И все-таки он, собираясь с духом, медлил, приложив ладонь к уху. Он знал, как ему следует петь, – так же, как Чайнин Чийрик играл на пондаре21 для сестры семи братьев.
Около месяца делал Чийрик пондар, потом настраивал его, слушая песни соловья, и после этого заиграл. Он играл весь день, до вечера.
Услышав песню пондара, замолчали птицы в лесу, замерли звери, затихли люди. Но сестра семи братьев даже не посмотрела в сторону Чийрика. И тогда, разбив свой пондар о камни, он ушел домой. Потом…
– Ибрагим-хаджи, бой идет совсем уже близко от дома Умхи, – мысли Элада прервал раздавшийся неподалеку голос Сардала.
– Дальше они не пройдут, – как отрезав, ответил Ибрагим-хаджи. Это было знаком, чтобы начать песнь. Голос Элада взвился неожиданно звонко и чисто:
Небогатые наши дома, что с любовью мы строили,
Полыхают, и в окнах бушует огонь в этот день.
Проторенные дедами улицы наши просторные
Переполнены так, что нам некуда встать в этот день.
Певца могучим хором поддержали старики, тотчас мелодию подхватили и понесли над землею сражавшиеся, и взвилось, полетело над миром начало песни о взятии Дады-Юрта.
Элад спел начальный байят, вложив в него силу первого пондара Чайнин Чийрика.
Потом сделал Чайнин Чийрик новый пондар, заиграл так, что остановились реки и обрушились вершины гор (но и тогда не взглянула на него сестра семи братьев – крепким было ее сердце) – такую же силу должен был иметь второй байят:
Дорогие невестки, в дома к нам недавно вошедшие,
Называют своих деверей имена в этот день.22
И родители наши, к спасенью пути не нашедшие,
Понапрасну взывают о помощи к нам в этот день.
Вы сегодня к аулу родному прислушайтесь, братья,
Вы услышите плач детворы по своим матерям!
Ваши девушки ждут и надеются, что возвратятся
Их любимые, путь заслонявшие наглым врагам.
Элад на какой-то миг замолчал, вслушиваясь в голоса хора и часто вдыхая холодный воздух. Теперь песня должна была подняться к своей высшей точке…
В третий раз сделал пондар Чайнин Чийрик. В третий раз отправился он к башне, где жила сестра семи братьев. В третий раз запели струны. Мощь их звучания ошеломила мир, возвратила души мертвым, и они восстали из могил:
Будем, братья, рубить потерявшего совесть врага,
Будем, братья, громить не имевшего чести врага,
Высоко мы поднимем разящие сабли свои,
Высоко их поднимем, круша и кромсая врага,
Мастерами чеченскими кованый, жаркий булат
Беспощадно вонзим в ненавистное тело врага.
Нет, не могла песня Элада воскресить мертвых, но тем, чьи пробитые груди коченели на последнем вдохе, она продлевала жизнь на какой-то миг, достаточный для того, чтобы спустить курок. Враг не смог выдержать удвоенной силы – силы человеческого духа, к которому прибавилась сила песни, и стал отступать…
Офицеры метались в бесплодных попытках остановить бегущих. Но звучание илли крепло и ширилось, заглушая грохот выстрелов и крики отступающих врагов.
6
Одно мучило Дану, перехватывая ему горло невыносимой тоской, – то, что он никогда не ласкал своих сыновей. Даже когда они были совсем маленькими. Его любовь к ним была безграничной и тайной. Проявление нежности казалось ему слабостью, а Дана никогда не позволял себе расслабиться. Маленькие дети росли в отдельной комнате, он видел их только тогда, когда они уже начинали ходить.
Как-то самый младший, четвертый, да, тот самый, который сейчас лежит, стонет…
– Не стони, ты же не девушка! Постыдись этих троих… умерших молча…
Успокоился… Да, это был он. Жена, прибирая в комнате, переставила его колыбель в комнату Даны.
Разъяренный таким самоуправством, Дана выкинул колыбель в окно. Нельзя же пренебрегать обычаями предков и не считаться с отцом.
«Вы оставили мне много ружей, волчата мои. Когда одно раскалится, я смогу стрелять из другого… А ты и стонать уже перестал, волчонок мой…»
Дана положил винтовку, сел у изголовья умирающего сына и в четвертый раз стал читать последнюю молитву – «Ясин» 23. Когда он дочитал ее до середины, душа сына оставила тело. Дана, наклонившийся, чтобы закрыть ему глаза, лица сына не увидел. Неужто уже смеркается? Отчего так темно? Он потер глаза и тогда понял, что последнее его солнце закатилось навсегда, оставив Дану в черном, беспросветном мраке, – он понял, что ослеп. Сердце сжала боль. Дана с трудом сдерживал подступающие рыдания. «Совсем я ослаб», – с горечью подумал он.
И, касаясь непослушными пальцами лиц своих сыновей, Дана гладил их высокие лбы, непослушные волосы…
– Мой Ида, мой Ича, мой Ахмад, мой Мада, – четыре имени назвал он. Впервые в своей жизни он приласкал своих сыновей – мертвых.
И перед стариком, лишившимся будущего – своих детей, сидевшим на промерзшей земле, в отчаянии уронившим голову на ствол ружья, предстала вся его жизнь.
В пятнадцать лет Дана начал воевать за свободу, за эту вот землю, на которой сейчас сидит. Все надеялся – вот-вот кончится война, и он заживет по-человечески… А годы летели. Потом, когда война наконец кончилась, жизнь все равно продолжала держать его, словно натянутую тетиву, в напряжении, приходилось всегда быть готовым дать отпор врагу; когда он женился и пошли дети, душу стало томить новое, неведомое прежде чувство – страх за своих детей. Он никому не говорил о нем, скрывая даже от самого себя. Но страх существовал, жил в нем. Теперь-то он понял почему – уже тогда, много лет назад, душа предчувствовала сегодняшнюю беду. И все же все эти годы он жил надеждой на то, что для него, потерявшего семерых братьев, родителей и многих близких, наступит время успокоения. Иногда приходила мысль – уйти куда угодно, в любую сторону света, и идти, идти, пока не придешь в такой край, где не надо ни с кем сражаться и никого бояться. Но он продолжал жить так же, как и жил, во-первых, потому, что был убежден: нет на свете земли, у которой нет хозяина, кроме той, что скрыта под вечными льдами и холод которой, соединившись с холодом лишившейся родины души, превратил бы и его самого в мертвый кусок льда; во-вторых, он и месяца не прожил бы, расставшись с этим краем, с матерью Чечней. А потому, решил он, надо жить и умереть на той земле, которая досталась от предков, тем более что здесь есть кому его похоронить…
Дана стыдился навалившегося на него отчаяния, стыдился перед временем, в котором жил, перед своими сверстниками, оставившими этот мир и отправившимися на суд к Всевышнему. Не его первого настигло тяжкое горе жизни. Даже самые мужественные из мужчин, те, о которых рассказывают илли, знали горечь потерь.
Предание говорит о Шихмирзе, сыне Зайты. Когда погибли все его друзья, сам Шихмирза упал от множества ран, кинжалом рассек себе грудь и, вырвав свое сердце, воскликнул: «Будь ты неладно, сердце! Когда пали все друзья мои, все лучшие мужчины наши, ты не разорвалось от горя… Я думал, что ты булатное, а ты оказалось обычным – из плоти и крови». С такими словами ушел Шихмирза, сын Зайты, из этого мира. Да, раньше были люди…
– Дана, да успокоит Аллах их души, да ниспошлет Он тебе силу и терпение.
– А, это ты, Ану… Благослови тебя Всевышний… Ты одна?
– Нет. Со мной Совдат, дочь Эдилсолта.
– Скажи Ибрагиму-хаджи, чтобы он похоронил их сам. Передай, что я прошу его поминать имена моих сыновей в молитвах.
– Хорошо, Дана. Пусть Аллах даст тебе терпение… Терпение… Вот в чем всегда нуждается человек до конца своих дней. Только терпением можно одолеть любое горе, злобу и слезы. Но и тогда и горе это, и слезы, и злоба не исчезают бесследно, а копятся в душе долгие годы, зреют, как нарыв. И этот нарыв в душе Даны прорвался.
– А-а-а-а, – с криком вскочил Дана. – А-а-а-а! – зажав кинжал в трехпалой руке, он бросился туда, где, судя по голосам, шел бой. Он бросался на врагов в страшной, неодолимой ярости, рубя направо и налево, не давая врагу опомниться. Солдаты не успевали перезаряжать винтовки, удары кинжала Даны обрушивались на их головы градом. Дана, проложив широкую просеку, далеко углубился в их ряды, когда раздалось несколько выстрелов. Но ни одна пуля не пробила двойную кольчугу Даны.
– Хей-хей, – кричал он, повергая врагов наземь.
– Его не берут пули! – с ужасом кричали вокруг.
– Берегитесь, это же дьявол!
– Это их бог, дикарский бог!
– На штыки его! – первым опомнился ОФИЦЕР. Дану подняли на штыки, но нажать курки не успели, рухнули, изрубленные кинжалом, а Дана вновь вскочил на ноги. Так повторялось дважды.
– Пушку сюда! Пушку разверните! – крикнул ОФИЦЕР.
Дана ощутил жуткое дыхание направленного на него жерла, дыхание, исходящее из бездонной пропасти смерти.
– А-а-а-а, – ринулся он на пушку, и тут оружие рявкнуло, раздавив его крик и изрыгнув из утробы ослепительно-желтое пламя.
Но Дана в наступившей вдруг страшной тишине все махал необычайно легким кинжалом, но от ударов его уже никто не падал.
Потом он услышал голос младшего сына:
– Дада, дада, не утомляй себя понапрасну… – И тогда Дана понял, что он умер.
7
Айда бился с тремя врагами одновременно, когда до него донесся крик Даны. Ему стало ясно, что на Дану обрушилась самая страшная в жизни беда, и если на земле есть хоть какая-то сила, способная спасти его, она должна поспешить на помощь. Это придало Айде мужества и ловкости. Двоих он поразил шашкой. Третий, дав ему дорогу, отпрянул в сторону.
Конь Айды, прижав уши и натянувшись как струна, летел над землей по просеке, вырубленной Даной. Еще не стих пушечный грохот, когда Айда обрушился на двоих суетившихся у орудия солдат. Их радость оттого, что уничтожен дикарский бог, не успела проявиться – солдаты рухнули, зарубленные шашкой Айды. Но ничего больше сделать он не успел, сраженный дюжиной пуль. И все же удержался в седле, ухватившись за гриву рванувшегося прочь коня.
Но не суждено было Айде вернуться к своим, разжались его слабеющие руки, и рухнул он головой вниз, и конь какое-то время тащил его за ногу, застрявшую в стремени. Потом, заржав, скакун неожиданно остановился, Эламха выскочил из окопа, подхватил едва живого Айду и, оттащив в сторону, уложил его на землю.
Там, где еще недавно от ударов Даны падали поверженные враги, раздавались крики:
– Убили, убили дьявола!
– Дикарского бога убили! Ура!
Тесня гойтинцев, они бросились в атаку и прорвались к первым домам аула.
И тогда над полем боя раздалась призывная дробь барабана и понеслись звуки гармони, зазвучали высокие, чистые голоса. Оглянувшись, воины увидели стоящих полукругом на вершине холма девушек. Одна из них, словно стремясь оторваться от земли и взлететь в небо, кружилась, изгибаясь, в плавном танце, словно осенний лист, подхваченный порывами ветра.
– Что это, Эламха? – прошептал Айда.
– Девушки поют танцевальную, Себила танцует…
– Хорошо танцует?
– Хорошо.
– Знай, Эламха, она должна достаться достойному парню.
– Да.
– Помогает танец?
– Да. Отбросили врага.
– Знаешь, Эламха, что говорил мой отец?
–Что?
– Говорил… человек виден в день его смерти. Все, что бывает до этого дня, – так… шутка.
– Да, шутка.
– Достойно ли я умираю, Эламха?
– Да… Что это ты говоришь, Айда? Ты поправишься! Еще сколько ночей скоротаем с тобою: ты будешь петь – я слушать…
Айда, собиравшийся что-то ответить, промолчал, затих, глядя в небо широко открытыми глазами. Узкое, бледное лицо его показалось Эламхе совсем белым, еще более заострившимся. Его маленькие, только начавшие чернеть усы были покрыты инеем.
«Нет, больше не придется нам сидеть вместе на овчинных шкурах, покрывающих широкий пандар, долгими зимними вечерами, слушая твои песни, восклицая время от времени от нахлынувших чувств: «Эй, жизнь-кручина!», пряча слезы, навернувшиеся на глаза, когда герой илли попадает в беду, и улыбаясь, согреваясь душою, когда он одолевает врагов…
Да, все это ушло безвозвратно. Подумать страшно – не стало лучших из лучших. Кто теперь споет илли вместо Айды? Кто станет ковать железо вместо Цаниного Шиды? Кто заменит Кайсара? Он, Эламха, неумеха, остался жить, а самые лучшие ушли навсегда…
Прервав свои мысли и взглянув на Айду, Эламха вдруг увидел, что тот улыбается.
– Айда, Айда, отчего ты улыбаешься? – спросил он, наклонившись к уху друга.
– И ты бы улыбался, Эламха, если бы видел то же, что и я, – шепот Айды был едва различим.
– Что ты видишь, Айда, что?
Но Айда молчал, продолжая глядеть в небо, и улыбался.
– Эламха, – слабо позвал он через какое-то время, – человек может одолеть любую силу, если захочет… если сильно захочет… если он готов ради этого даже расстаться с жизнью, понимаешь? Я дождался того, о чем мечтал… хотя… и умираю теперь… поэтому я… улыбаюсь.
Голос Айды, слабея, стих. Эламха, сидевший рядом, придерживая его голову, понял, глядя на него, что каждый человек – это не просто живое существо, а нечто, связанное невидимыми цепями с великой силой, с непознаваемой тайной, скрывающей какую-то неведомую ему суть. Оказалось, достаточно увидеть смерть одного единственного человека, чтобы понять высоту каждой человеческой души, открывающуюся в последние минуты жизни.
Захлебывается стремительная мелодия танца, летит в поднебесье. За околицей аула гремят выстрелы, раздаются крики команд, стоны раненых, ржанье коней – идет бой, а на вершине холма сменяют друг друга картины иной жизни, полной музыки, любви, радости.
Для девушек, окружавших Себилу на вершине холма, оставалось загадкой, как удается ей скользить, словно по льду, по бугристой, мерзлой земле.
Под широким платьем угадывалась каждая линия ее изгибающегося в танце тела, полного огня и крови, открывалась его первородная, словно у самой всерождающей земли, материнская сущность; лицо сияло, как бы озаренное светом улыбок всех счастливых людей. Черные огромные глаза, до сих пор стыдливо прятавшиеся от людей, открывали потаенные движения души. Свет жизни, отпущенный ей природой при рождении на весь век, она, не скупясь, выплеснула сейчас в этом танце. Этот свет озарил все вокруг. Его навсегда запомнят те, кто останется жить, чтобы потом, незабвенным, унести с собою в могилу. Так велось издревле: девушки, женщины вставали позади сражающихся братьев, отцов, мужей, возлюбленных; так же становились и старики.
Воины, зная о том, что на них смотрят близкие, становились бесстрашнее и сильнее. Так сражались они с налетавшими когда-то полчищами кочевников, так сражались с монголами, а потом – с войском хромого Тимура…
Однажды, говорят, во время битвы с хромым Тимуром, некто оставил поле брани и побежал, предпочтя свою жизнь чести. Навстречу ему бросилась молодая жена с маленьким сыном на руках.
– Вернись! Подумай хотя бы об этом мальчике, которому надо жить среди людей!
Но трус не остановился, не вернулся. Страх застил ему глаза, а страх порождает трусость. Тогда женщина бросила своего сына на камни, воскликнув:
– Из тебя получится лишь такой же мужчина, как твой отец!
Потом, распустив волосы и взяв оружие, она бросилась в бой и погибла в том бою.
Тогда же, говорят, другая женщина по имени Седа, переодевшись в мужское платье, воевала наравне с мужчинами.
Много позже того, при взятии Дады-Юрта, сорок девушек бросились в Терек, не дав врагу прикоснуться к себе, навсегда оставшись свободными и чистыми. Себила и ее подруги без колебаний сделали бы то же самое.
А сейчас она танцевала, чтоб придать еще больше мужества аульчанам, приумножить их силы, пробудить звуками музыки и жаром танца радость и силу жизни. Руки ее языками пламени кружили в морозном воздухе, и снежинки таяли на них, и она была пылающим пламенем.
И аульчане, и их враги ошеломленно смотрели на нее, забыв, зачем они этим холодным, сумрачным днем, вооружившись саблями и винтовками, стоят друг против друга. Зачем длиться этому смертельному противостоянию, когда в мире живет такая красота?!
Аульчане до сегодняшнего дня и не подозревали, насколько богат их аул. Они знали: эту красоту надо сберечь любой ценой, если же сберегут, они останутся непобедимыми, ростки их жизней будут пробиваться сквозь оттаивающую землю всегда.
Танец достиг своей высшей точки. Казалось, если он будет продолжаться, развеются тучи, оттает мерзлая земля, утихнет бой и наступит тишина.
Танец словно околдовал сражающихся. Недолго продолжалось затишье. Первыми пришли в себя нападавшие.
– Это что за театр? Ведите прицельный огонь, угомоните ее! – приказал офицер, тот самый, который приговорил к смерти Дану.
– Так то ж баба, ваше благородие!
– Не баба, а ведьма. Ведьма!
– Красивая ведьма-то…
– Огонь!
Аульчане не успели заслонить собою Себилу. И сама она не успела ускорить свой танец настолько, чтобы пуля не настигла ее.
На какое-то мгновение застыли вознесенные к небу руки. Потом она рухнула на землю, лицом вверх, кровь из раны на груди стекала на стылую землю и не хотела замерзать. Падающий снег скроет ее, и примет ее земля, вбирающая в себя все: умерших своей смертью и убитых, невинных и грешников, добрых и жестоких, и зачахшие кусты, и опавшие листья, и тающий снег, и пролитые слезы. И с каждым весенним обновлением прорастет все сущее в земле молодой травой, цветами на лугах, робкими деревцами – новой жизнью.
Страшный единый стон обороняющихся, охваченных великим и праведным гневом, разорвал тишину.
И тогда, не останавливаясь под свинцовым градом, они ринулись на врага. Следом за ними бросились женщины, окружавшие Себилу, старые и молодые, вооружившись тем, что подвернулось под руку: вилами, лопатами, кинжалами, топорами… Распустив, как в старину, волосы, женщины ворвались на поле боя.
Совдат, схватив кинжал, спрыгнула с телеги и устремилась за ними.
– Вернись, дочка, ты нужна здесь! Но она не слышала крика Ану.
Эламха мчался на вытянувшемся струною коне, как клинок, рассекая бурлящую, стонущую, хрипящую, окровавленную человеческую массу, не замечая ничего вокруг, лишь когда кто-то преграждал ему путь – работала
шашка. И он-таки добрался туда, куда так яростно стремился. Голос офицера был хриплым от страха:
– Разверните пуш…
Закончить своего приказа он не успел – шашка Эламхи решила его участь.
8
Нанося страшные удары, рубя и кромсая, не падая даже от ран, пока не будет повержен противник, бились аульчане, доведенные до состояния сокрушительного гнева гибелью близких и всей нечеловеческой несправедливостью, веками преследовавшей и ожесточавшей их. Отступать было некуда – за их спинами остались старики и женщины, в пустых домах догорали угли в очагах, всегда так заботливо оберегавшихся, а теперь оставленных без присмотра. Но враги теснили аульчан – там, где падал один, поднимались двое, там, где падали двое, – вставали четверо. И отступали редеющие ряды сражающихся.
Наблюдая за всем этим, беспрестанно шепча молитвы, выслушивая вестников, прискакавших из самой гущи боя, по майдану у мечети ходил Ибрагим-хаджи.
Элад весь обратился в слух. Глядя незрячими глазами в пространство, он напряженно вслушивался, не стучат ли копыта мчащейся на помощь конницы, чтобы первым сообщить радостную весть.
Но ничто не нарушало тишины на ведущих в Гойты дopoгax…
– Ибрагим-хаджи, бой снова докатился до дома Умхи, – сказал старый Сардал.
– Дальше они не пройдут, – ответил Ибрагим-хаджи, скрипнув зубами и взбугрив желваки.
Сардал, впервые за все время усомнившийся в словах Ибрагима-хаджи, взглянул растерянно.
– Не сомневайся, Сардал, не позволяй дьяволу так легко обмануть себя, – мягко сказал Ибрагим-хаджи.
– Я не сомневаюсь, – Сардал, смутившись, опустил глаза.
Бой тем временем продолжался возле дома Умхи – у нападающих не было уже сил одолевать жестокое сопротивление аульчан. Разъяренный, обезумевший от крови, враг нападал снова и снова, подобно дикому зверю, обнажив клыки и выпустив когти. Но стена, вставшая перед ним, была несокрушима. Раз ударилось обезумевшее вражье стадо об эту стену, второй, третий, и тогда над рядами аульчан пронесся крик:
– Маржа! 24 Мать Чечня! Неужто настолько оскудела ты мужчинами, что сегодня, в миг страшной беды, некому прийти на помощь?!
Услышав этот крик, Ибрагим-хаджи почувствовал, как в душу к нему впервые закрадывается сомнение, но он раздавил это чувство, не позволив стоявшим рядом уловить его. Нет, не могут аульчане оказаться побежденными. Должна поспеть помощь. Не может быть, чтобы в окрестных селениях не слышали шума боя. «Неужели они все оглохли?!» – мысленно упрекнул он соседей.
– Помощь! Помощь! – неожиданно раздался крик Элада. – Помощь идет! Держитесь, идет помощь!
– Откуда?
– Со стороны Мартана!
Но те, кто посмотрел в ту сторону, увидели лишь пустой горизонт.
– Где? Ничего не видно!
– Скачут, вот-вот покажутся…
Элад слышал то, чего не слышали другие, в сознании его отчетливо звучал стук копыт со стороны Мартана.
Потом присоединилась такая же дробь с другой стороны, еще с одной, так, что все пространство, казалось, наполнилось этими звуками.
«Похоже, сила идет немалая», – подумал Элад, и он был прав.
На рассвете ветер дул с гор, и жители окрестных аулов, не слыша шума боя, отправились по своим делам. Однако вскоре те, кто чуток слухом, уловили шум сражения. Тотчас жители Мартана и двух хуторов – Олхазаран и Саадин – отправились на помощь; с другой стороны мчались шалинцы, чечен-аульцы, шатойцы…
И пришла наконец помощь гойтинцам. Напрасно сомневался Сардал. Он умолял Ибрагима-хаджи взглядом простить его минутную слабость. Однако тот уже не обращал на него внимания – он смотрел в сторону боя. Пришедшая помощь, стремительной лавиной скатившаяся в аул, была только первой волной могучего потока. Она, с ходу наткнувшись на свинцовую метель и ощетинившиеся штыки, на какой-то миг замерла, но подоспела вторая волна, и лавина подмяла под себя и штыки, и пушки.
Неожиданно ударившие с горки два пулемета, скосив передние ряды, остановили пришедших на помощь. Частая дробь, треснувшая по коннице свинцовым веером, многих швырнула в холодную, бездонную пропасть смерти.
– Стойте, стойте! – крикнул Хату, сын Девли. – Так мы погибнем все.
– Что же делать?
– Надо захватить эти пулеметы.
И сразу к холму, с которого били пулеметы, устремилось несколько конников, но ни один из них не доскакал до цели.
И тогда Эламха вспомнил слова Кайсара.
– Я знаю, что надо делать, – сказал он.
– Что?
– Надо стать молнией.
– В своем ли ты уме?!
– Человек может стать молнией! – крик Эламхи поднялся к самому небу.
– Ну так стань, чем тратить попусту слова!
И ударил гром, и сверкнула молния – так сильно крикнул Эламха.
Крикнул и, рассекая сгущающиеся сумерки, молнией метнулся к вершине холма, а правая рука Эламхи точно выполнила привычную работу. Подоспевшие воины, спрыгнув с коней, захлестали из двух пулеметов по бегущим прочь от аула врагам.
– А-а-а! – ликующе кричали аульчане.
Этот крик подхватили, он разросся, покатился над землей. Клич возмездия поверг противника в еще большее смятение. Деникинцы продолжали стремительное отступление и тогда, когда преследователи, достигнув Бухан-Юрта, остановились, бросив свои вырытые на берегу Сунжи окопы.
– Давайте нагоним их! – крикнул Эламха.
– Как долго ты собираешься преследовать?
– До края света, чтоб никогда уже не смогли вернуться сюда!
Чода посмотрел на него с удивлением:
– Нет. Нам еще нужно хоронить убитых.
9
Души, светлые души моих земляков, что же вы кружитесь в тоске над покинутыми вами телами? То не волк голодный здесь бродит, чтобы обглодать ваши кости, и не черный стервятник над вами кружит, чтоб выклевать мертвые глаза, это я, старая вдова Ану, хожу, наклоняясь с коптилкой над каждым из вас. Каждого положу на свою телегу. Не одна я здесь – вон как много горит огоньков в этом поле. Вы, наверное, знаете, что разбили врага, прогнали с позором. Может, это известие принесет последнее успокоение вашим душам.
Да, вот она, Себила. Сейчас, сейчас бабушка поправит платье своей девочке, так, теперь хорошо, прилично. Знаешь, бабушка тайно завидовала тебе. Такая ты была пригожая да ладная, что умом, что речами, что телом. Уж ничего ни добавить, ни отнять нельзя было, окрепшей была в благородстве своем. Если б, как в старину, выбирали у нас Девушку Края, ни одна не сравнялась бы с тобой. Если знающие люди говорят правду, а они всегда говорят правду, ты и на том свете будешь среди самых достойных, красивейших девушек.
Как же иначе-то? Если на этом свете пришлось тебе несладко, должно же найтись счастье на твою долю хотя бы на том.
Я тоже, Себила, радости особой не видела. Всего-то недельку и пожила с отцом моего ребенка. Гордые, славные юноши были в нашем ауле. Отправились они как-то в набег, и он с ними. Говорил, мол, вернусь – не будем жить в такой беспросветной нищете. Уехал он и пропал со своими товарищами в голых чужих степях, сгинул бесследно.
Так и стала я жить на краю аула, сына растила, а земляки помогали. Вся жизнь моя была в сыне, но вот однажды поехал он в Солжа-крепость дрова продавать. Не поладил, видно, с царским приставом, тот его и застрелил, так и привезли мертвого.
И что ты думаешь я сделала? Виду не подала, не склонилась перед судьбой. Похоронила, как положено. Если уже что случилось, ничего не поделаешь. Сколько ни возвращай в мыслях прошлое, его уже нет, миновало. Днем крепилась, а ночами плакала. Потом и слезы у меня кончились. Я стала окаменевшей печалью, слезы запеклись в этом камне. Так и стала я одинокой – жера-бабой25. Аульским детишкам сказки рассказывала, пекла для них лепешки, носки вязала, когда шерсть приносили, а иначе-то где мне взять ее столько? Когда кто-нибудь заходил в мой дом, ставила на стол что было – воду да чурек, постель всегда чистую держала на тот случай, если путника ночь в дороге застанет. Каждого юношу, погибшего где-нибудь на чужбине, как мать, оплакивала, сиротам, как могла, помогала… И Совдат вот забрала к себе, упросила родственников, чтоб отдали сироту. Жила, радуясь ей, мечтала о том, как выйдет она замуж, как появятся на свет молодые ростки человеческие. Знать бы, как она, – может, не погибла, может, раной обошлось…
– Это же… это… Совдат! Совдат!!! Умереть бы мне, матери твоей, не родившей тебя! Что мне делать теперь, зачем жить на этом свете, если ты на другом?.. Великий, Всемогущий, почему ты оттягиваешь возмездие, почему не покараешь тех, кто убил созданных тобою молодых и красивых людей, предназначение которых создавать новые жизни и радоваться миру?!
Прости меня, Всевышний, я принимаю волю твою, знаю, что терпение твое безгранично. Ты все видишь, все запоминаешь.
Бедная моя Совдат! С кем теперь станет баба разговаривать вечерами, для кого станет копить деньги, продавая творог и масло? Кого буду готовить к замужеству, рассказывая о девушках, прославившихся на всю Чечню умом, красотой и добродетелью? Кого буду учить шить, для кого готовить? Кого буду учить быть благородной, как супруга Шихмирзы Зайты?
Нет, Кайсар, не споет Совдат для тебя осенью, как ты просил… Не услышишь ты ее песни:
Поднимаясь на гору высокую,
Уходя в луга, ото всех таясь,
По тебе, по любимому, плакать бы…
Не споет уже так Совдат, вспоминая тебя. Кто бы теперь ее вспомнил… Только мне теперь и вспоминать ее…
Вечерам я печаль поведаю,
Я рассветам печаль поведаю.
Все, подруги, им я поведаю,
Потому что любимого рядом нет.
Нет, не споет моя девочка больше. И никогда не заговорит. И не встанет на рассвете, не подоит корову, не выйдет на край села, выгоняя ее пастись. Она будет приходить ко мне ночами, в сновидениях. Каждую ночь. Тогда я расскажу ей все, что накопится на душе. И песни ей спою те, что нравились. Те, которые так и не спела она сама.
И ту спою, Кайсар, что ты просил. Буду носить и тебя в своем сердце вместе с Совдат, и Себилу, и Айду…
Иди сюда, девочка моя, иди… Баба уложит тебя рядом с Себилой. Вот так…
Но-о, пошел, мерин старый. Устал? В такую ночь не говорят об усталости. Шагай, шагай. Можно и так, потихоньку. Или ты забыл, что родился от славного, пригнанного из ногайских степей скакуна? Хоть и состарился сейчас. Вспомни-ка молодость. Вспомни, как обошел на скачках, на десятом кругу, жеребца, принадлежавшего Шамилю из Шали, тому самому, заплывшему от достатка жиром и сгибающемуся под тяжестью собственного тщеславия Шамилю. Помнишь? А хозяин твой, Эдисолта, был достойный мужчина. Кто я была ему? Никто, только соседка. А вот ни одного блюда, приготовленного в его доме, он не съел, не поделившись со мной. И тебя мне отдал. В молодости ты был неплохим скакуном и мне стал хорошим помощником…
Умерли и Эдисолта, и жена его, Марха… от мора. Теперь вот и Совдат не стало… Оборвался род Эдисолты…
В-а-ай-й, умереть бы мне, не родившей вас матери вашей!..
Сколькими жизнями заплатили мы за эту власть! Даст ли она землю и свободу людям? А если все кончится пустыми разговорами? Что тогда? И подумать-то страшно…
Стой, мерин, стой. Кто эти двое? Мовла и Коврнак. Зять и шурин. Коврнака в голову ранили. Ийт, жизнь! Смотри-ка, Мовла и умирая не нарушил обычаев вежливости – хотел подложить под голову шурина свою папаху, так и умер, протянув к нему руку. Славные молодцы ушли сегодня на тот, справедливый, свет. Но если все отправятся туда, кто же останется здесь? Кто станет беречь обычаи, кто даст новые ростки, кто будет поминать отцов, пасти скот, помогать овдовевшим женщинам?.. Что ж вы кружите, тоскуя, светлые души?! Это не волк, отбившийся от стаи, воет в холодном поле, это я, старая вдова Ану, оплакиваю вас, рву себе волосы, царапаю лицо, горюю о вас. У-у-у-у! У-у-у! У-у-у!
10
Всю ночь скрипели телеги, непрерывно возившие раненых и убитых, голосили женщины, плакали дети, выли собаки. Мертвых укладывали перед мечетью в ряд. Ибрагим-хаджи был здесь же, на площади. Наступал рассвет, горе и скорбь проступали все явственнее с первыми лучами солнца. Нет, то был не жуткий сон, который бы развеялся вместе с ночным мраком. Страшное утро пришло в аул.
Ибрагим-хаджи понимал, что это горе, бездонное, как пропасть, поселится в его душе навсегда. Нет и не будет спасения от него до тех пор, пока и он сам не исчезнет на дне этой пропасти.
Еще большее горе постигло когда-то Цуру, предводителя цергахоевцев. Когда пришли на их землю полчища гуннов-кочевников, он поднял свой тайп на борьбу.
Перед каждым боем Цура, поднявшись на вершину холма, кричал:
– Слушайте, люди! Слушайте внимательно! – и держал речь, от которой кипела кровь и весь род яростно бросался на врага. Бились все: женщины, дети, старики.
И вот в какой-то день, когда Цура, глядя, как обычно, на вершины гор, произнес свою речь, он не услышал ни криков людей, ни звона оружия.
Ошеломленный тишиной, он посмотрел вниз и увидел пустой майдан. Тогда он понял: ни одного цергахоевца, кроме него самого, не осталось – всех поглотила война, род пресекся.
Тогда он крикнул Аллаху:
– Всемогущий! Имел ли я право погубить этих людей, отправляя их на смерть? Или, может, следовало покориться и сохранить жизни людей, заплатив за них свободой, честью и обычаями? Какая из этих двух дорог вернее?
Но не услышал Цура ответа на свой вопрос. Не нашел он его сам, сколько ни искал. И лишился рассудка. Теперь среди чеченских тайпов не найти такого, который называется цергахой. Он бесследно исчез.
Ибрагим-хаджи, проведя рукой по осунувшемуся лицу, зашептал:
– Ниспошли нам, Всемогущий, терпения и спокойствия, чтобы вынести это горе…
Тут он заметил пристально смотрящего на него Сардала.
– Ты что-то спросил, Сардал?
– Что делать с гостями, Ибрагим-хаджи?
– Как что? Хоронить вместе с аульчанами.
– Но ведь они другой веры. Может быть, похоронить их отдельно?
– Нет, Сардал. Равны они перед Богом. Хоронить их надо вместе. Ты понял меня, Сардал?
– Да, Ибрагим-хаджи.
– Хорошо, что понял.
Сардал следом за Ибрагимом-хаджи вошел в мечеть.
Не наступай, прекрасный вечер, закатной мглы не приноси –
Когда приходим на закате, родителей не видим мы.
Не наступай, рассвет прекрасный, лучей зари не приноси –
Когда выходим утром ясным, друзей своих не видим мы.
Не надо, солнце золотое, наш мир сияньем озарять –
Когда восходишь ты, сияя, не можем грусти мы унять.
И ты, весна, в кипенье красок на землю к нам не приходи –
Приходишь ты, и боль сильнее становится у нас в груди.
Долины, вы не хорошейте, надев наряд зеленый свой, –
Вы расцветаете, и слезы мир застилают пеленой.
Такую жалобную песню не пой ты, одинокий волк, –
Брат, кровных братьев потерявший, не меньше в мире одинок.
«В могиле темной одиноко», – твердят нам старики порой,
Но одиночество страшнее, когда очаг погас родной.
Не плачьте, серые кукушки, печалью наполняя лес, –
Мы о друзьях скорбим сильнее, когда ваш плач стоит окрест.
Скворцы весенние, не пойте вы песнь свою у родника,
Когда поете вы, нам души терзает яростней тоска.
Меж трав над яркими цветами не нужно, мотыльки, порхать –
На вас глядит и горше плачет по сыновьям седая мать.
Меж трав над яркими цветами вам, пчелы, лучше не летать –
Ваш плач похож на плач ребенка, который не увидит мать.
Лев старый, не таись в засаде – тебе не добывать зверей.
Вот так же немощен мужчина, оставшийся без сыновей.
Ты не пытайся, старый сокол, взлететь, как некогда взлетал, –
Вот так же юноша ослаблен, когда он сиротою стал.
Олень, не подзывай подругу – ты стар и немощен давно,
Ты слаб и старец, если сына увидеть больше не дано.
Ты, голубь сизый, не пытайся со сломанным крылом взлететь –
Вот так же и сестра бескрыла, когда настигла братьев смерть.
Печальная эта песня парила в весеннем воздухе. Луга вокруг Гойт зеленели свежей травой. Солнце, становясь день ото дня все теплее, подсушивало насытившуюся влагой землю, раны которой укрыла, затягивала трава, радующая глаз всего живого. Природа никогда не изменяет своим привычкам, она проходит извечные круги, безучастно внимая и добру, и злу человеческому.
Иногда человеку, застигнутому бедой, кажется странным, что солнце по-прежнему восходит и заходит, месяц зарождается и убывает, идут дожди, дует ветер – все происходит так, словно ничего не случилось. У природы свои законы, постичь которые до конца человек не в силах.
Эта мысль пришла к Эладу много лет назад, когда его зрение поглотил мрак. Раньше, в юности, природа казалась ему жестокой.
Элад допел свою песню. Он сидел спиной к заходящему солнцу, прислушиваясь к наполняющим весенний мир звукам: ударам копыт возвращающегося по дворам скота, гаму играющей ребятни, шуму пламени в печах, постукиванию просеивающих муку сит, гуденью вьющейся над травой мошкары, плеску воды в реке.
Зачарованный этими звуками, он погрузился в ожившие в памяти картины.
– Ваши, ваши, – позвал его мальчик, – спой еще.
Элад погладил его по голове:
– Подойди ко мне поближе… Нравится тебе, как я пою?
– Да.
– Э, да ты, никак, босой. Так нельзя, – он взял мальчика на руки и снова запел.
Так, от старших к младшим передавая илли, запрягая по весне волов или коней и сея хлеб, сражаясь с теми, кто хотел покорить его, не ища покоя ни душе, ни телу, не давая угаснуть искрам достоинства и мужества, делая все, чтобы в стремительном потоке времени, за которым не поспевает взгляд, воспитывать мужчин, равных ценою миру, строить башни, не оставлять зло безнаказанным, слагать илли, давать новые ростки жизни – живя так, как и должно жить на своей земле, согревая землю быстрыми своими танцами, чтобы не дать холоду Вселенной заморозить ее, одолевая преграды, которые ставила перед ним судьба, воздвигая на земле горы добра, очищая сердца свои и мысли, – шел от самых истоков бытия народ. И сгинуть бесследно он не мог.
1986.
1 Паднар – деревянный настил, топчан.
2 День встречи зимы и весны – 23 марта.
3 Шали – самое большое село в Чечне. Статус города приобрело в 1990 г.
4 Тайп – род.
5 Доа – завершающая религиозные обряды молитва, содержащая просьбы о благе, отпущении грехов и др.
6 Унхой – кочевники, гунны.
7 Зумсой – один из чеченских родов.
8 Меджлис – здесь: сход.
9 Балшаки (искаж.) – большевики.
10 С о л ж-К а л а – чеченское название г. Грозного.
11 Тапа Чермоев – чеченский промышленник, миллионер.
12 Урус-Мартан – большое село в Чечне. Статус города приобрело в 1990 г.
13 Шерипов Асланбек – герой Гражданской войны, революционер, командующий чеченской Красной Армией.
14 Гикало Николай – участник Гражданской войны в Чечне, революционер, один из руководителей грозненских большевиков.
15 Илли – чеченские народные героические и лиро-эпические песни.
16 Белхи – коллективная помощь односельчан своему сородичу в строительстве дома, в уборке кукурузы и т. д.
17 Дарго, Жугурта – чеченские аулы.
18 Ламаро – житель гор.
19 Шихмирза, Таймин Биболат, Харачоевский Зелимхан – исторические личности, герои илли.
20 Ваши – уважительное обращение к старшему.
21 Пондар – чеченский трехструнный музыкальный инструмент.
22 Обычаи запрещают женщинам произносить имя родственников мужа, здесь подчеркивается трагизм событий.
23 «Ясин» – отходная молитва.
24 Маржа – возглас отчаяния.
25 Жера-баба – добрая старушка-вдова в чеченских сказках.
Перевод А. Магомедова.
После землетрясения
Идет густой снег, засыпая крыши домов и сараев, деревья и кусты, изгороди и тропы. Сейчас, в ночи, он полновластный хозяин и распоряжается на земле по своему усмотрению. Но это ненадолго. Стоит выглянуть солнцу, как все изменится: посереют и осядут сугробы, закапает с крыш вода. И постепенно привычная картина, как фотография, проявится во всех мелочах.
Так и в жизни. Прошлое кажется прочно укрытым забвением, но вдруг словно свет вспыхнет в темноте, и воспоминание станет рельефным, обретет плоть, обрастет забытыми подробностями и деталями. И ты почувствуешь себя обязанным отчитаться перед прошлым, перед памятью, перед самим собой, перед тем, каким ты был когда-то.
Собственно говоря, Жамбик всегда чувствовал, что это – так. Пусть – неосознанно. Где-то в глубине души жила уверенность, что он не может, не должен изменить своим принципам, себе – прежнему. Как раз эта подсознательная вера и удерживала его от многих недостойных поступков. И Жамбик – теперь-то он понял это – постепенно успокоился, счел себя непогрешимым. А ведь каждый новый день требует новых усилий от души, а достойное прошлое не является залогом будущей добропорядочности. Теперь он опомнился – на самом краю, на грани. Опомнился и ужаснулся: ничего не осталось в нем от прежнего Жамбика.
Небо кое-где прояснилось. Лунный свет залил окрестности, и одинокая человеческая фигура отчетливо видна у изгороди. Пожилой мужчина вздыхает, смахивает рукой снежинки с непокрытой головы, надевает шапку. Он вглядывается в притихший аул, окруженный лесом. Огонь мерцает лишь в двух-трех домах, в остальных темно – люди спят. Спит и семья Жамбика. Он один бродит в ночи по двору, занесенному снегом, оставляя под окнами цепочку глубоких следов. Он должен многое обдумать, и он все равно не сможет уснуть – покой покинул его душу. Он идет по едва заметной тропе в сад. Все укрыто снегом, но мужчине хорошо знакомо каждое деревце. И, прикоснувшись к веткам, стряхнув снег, он припадает лбом к холодному шершавому стволу, и думает о своем, и бормочет вслух. Деревья – его собеседники – слушают в суровом молчании. А он говорит, говорит:
– Холодно вам? Зима в этом году холодная, а я не нашел времени позаботиться о вас. Давно я не приходил сюда, все мне было немило, ничему я не радовался и разучился, как прежде, обхаживать вас: окапывать, обрезать сухие ветки, летом скашивать траву. Я ослеп в последние годы, не желал видеть людские беды и трудности, не видел и вашего бело-розового цветения. Мне не нужен стал сад, тенистый в жаркую пору, и плоды, налитые соком. И осенью сад не был нужен мне – продутый ветром, с трепещущими листьями и порыжевшей травой. И, наконец, этой зимой, этой долгой ночью – я пришел к вам. Я всегда торопился. Чего хотел от жизни? Куда спешил? Теперь я опомнился…
Мужчина оторвал голову от ствола, попытался обхватить его пальцами.
– Вот видишь, груша. Ты-то времени даром не теряла. А я помню тебя крохотным, хилым саженцем. Для колхозного сада тебя сочли негодным, решили, что ты не сможешь стать сильным, плодоносящим деревом. Я принес тебя домой и посадил. Пришлось, конечно, потрудиться – поливать, окапывать. Но, видно, чем больше отдаешь любви и терпения, тем больше любишь сам. Так-то, моя груша.
Мужчина оглянулся, уверенно прошел по глубокому снегу, прикоснулся рукой к другому дереву.
– Труженица! Яблонька… Я помню, как ты цвела в первый раз и сколько желто-красных яблок взрастила.
Твои ветви опускались до самой земли под тяжестью плодов, и я ставил подпорки, пытаясь облегчить твою ношу, и все же одна ветвь сломалась.
Снег все шел, и в саду, среди деревьев, смутно чернел силуэт мужчины, но пусто было вокруг, и некому было видеть его, некому было услышать глухое бормотание.
– Здравствуй, айва. Ты так близко стоишь к изгороди, что соседская корова два раза объедала твои ветви. Я думал, что у тебя не хватит сил воспрянуть, но когда увидел зеленые листья – рад был безмерно! У тебя можно поучиться мужеству, айва!
Еще некоторое время мужчина стоит в саду, а затем выходит на улицу. На западе – там, где в речку Аргун спускается горный кряж, – едва различимы в падающем снегу развалины башни. Люди рассказывают, что в незапамятные времена Турпал[1] сложил ее из камней в честь погибшего в бою друга и, уходя из этих мест, говорил, что башне этой стоять, пока живы в людях благородство, честь и любовь, а значит – стоять ей вечно. Груды больших и малых камней – вот и все, что осталось от башни. Жамбик горестно качает головой. Землетрясение поколебало не только башню, но и его, казалось бы, устоявшуюся жизнь. Что осталось от его собственной незапятнанной совести? Горечь подступает к горлу. Жамбик берет с изгороди горсть обжигающе-холодного снега. Вкус талой снежной воды уводит его к горьким воспоминаниям, и другая ночь приходит на память, в который раз расстилая перед ним покрытое грязным снегом, изрытое воронками поле, пунктирные огоньки трассирующих пуль над ним. Да, именно в тот день он выиграл свой главный бой – с самим собой. Вновь в ушах Жамбика звучит артиллерийская канонада. Все его существо стремится вжаться в спасительную землю, сравняться с ней, выжить.
«Что, тебе больше всех надо? – будто слышит Жамбик назойливый голос. – Куда ты рвешься? Зачем строить на вершине башню, зачем тащить в гору огромные камни для нее?! Ведь так легко оступиться и свалиться в пропасть. Лучше ходить по равнине; хватит тебе и тола,2 чтобы выжить. Не глупи, не лезь под пули – другой жизни у тебя не будет». Но там, вдалеке, где рвутся снаряды, лежит его друг, тот, с которым вместе играли в детстве. Может быть, он убит, а может, только ранен. И другое чувство, сильнее страха смерти, поднимает Жамбика с земли и заставляет бежать, а затем ползти бесконечно долго, пока он наконец не находит Жанарали, не выносит его на себе. От нечеловеческого напряжения нервов и мускулов постоянно пересыхает горло, и во время взрывов он припадает к земле и хватает ртом тающий грязный снег.
Много позже Жамбик осознал, что той самой ночью, когда раненого Жанарали увезли в медсанбат, он заложил краеугольный камень своей собственной башни. Преодолев себя перед лицом смертельной опасности, он почувствовал уверенность в душе. Но уже тогда понял, что легкой жизни ему ждать нечего.
«Да, тогда я еще мог услышать голос своего сердца, а теперь? Я и сам не заметил, как стал глухим. Мое сердце молчит, у него уже нет сил докричаться до него, глухого…»
Жамбик потоптался на месте. Ноги зябли, в лицо летел снег, слепя глаза, но он не уходил домой.
Протекли другие военные дни и ночи, хотя порой казалось, что они не имеют конца. Каждое малое дело, каждый пережитый час приближали к победе. И никто бы не мог упрекнуть Жамбика – воевал он достойно. Весь аул знал – трусом Жамбик никогда не был.
Раны у Жанарали зажили, но ему не суждено было вернуться в аул – за три дня до конца войны он погиб. И все, что осталось у Жамбика на память о друге, о той ночи, о краеугольном камне – пожелтевший листок письма, которое Жанарали написал из госпиталя.
Башня чести Жамбика поднималась все выше и когда он вернулся в аул. Старики здоровались с ним, почтительно глядя на награды, добрая молва о нем прочно поселилась в ауле. Он был молод, хотел работать, строить, жить в полную силу. Вскоре его выбрали председателем сельсовета, и он с головой окунулся в проблемы и трудности послевоенного, разоренного хозяйства. Но за крупными делами – строительством моста через речку или ремонтом дороги – Жамбик никогда не забывал о другом – подвезти старикам сено или дрова на дом, расспросить о здоровье, подбодрить теплым словом.
Но шло время, Жамбик и сам не заметил, как забыл о своей башне, как стали привычными похвалы и льстивые слова…
И вот уже он охотно принимал приглашения выпить и закусить после трудов праведных. Провозглашались заздравные тосты, вино лилось рекой, столы ломились от зелени и мяса. Раздобревший, он все позже возвращался вечерами домой и уже не кивал без разбору каждому встречному-поперечному. Впереди себя он нес свое непробиваемое достоинство. В правлении видел только преданные – льстивые или робкие – просящие глаза и лишь изредка натыкался на другие взгляды – презрительные, осуждающие. Но постепенно у этого немого осуждения прорезался голос – сначала неясный слушок за спиной, а потом – молва, прокатившаяся по всему аулу: «Заплыл жиром Жамбик – катается как сыр в масле». Когда он услышал это впервые? Кто сказал ему эти слова? Может быть, кто-то из прихлебателей донес, а может, старая Зезаг крикнула их ему прямо в лицо? Жамбик мучительно старался вспомнить, но, видно, память тоже заплывает жиром и хранит только то, что ей приятно, а то, что тревожит, – забывается моментально. Прочно он увяз – ни рукой, ни ногой не двинуть, глаза пелена застлала. Неужели нужно было землетрясение, чтобы он очнулся? Жамбик провел рукой по глазам, словно отгоняя тяжкие видения.
В тот самый день неподвижный аул спал так же глубоко, и, казалось, ничто не может нарушить его спокойствия. Не предвещал несчастья долгий летний день и наступивший вслед за ним тягостно-душный вечер. Истома висела в воздухе. Аул был полон обычных вечерних звуков. Еще мычали отбившиеся от стада коровы, но уже во многих дворах звонкие белые струи молока ударили о дно ведер. Доносились крики играющих детей, но вот матери позвали их ужинать, и постепенно шум стих, смолк говор. Недолго горели огни в домах, вскоре темная летняя ночь плотно окутала аул. Чернел ствол могучего столетнего дуба посреди утоптанной площади, едва слышно шелестела листва. Несколько часов длилась тишина.
Но вдруг в природе что-то оборвалось, и в тот же миг ожила и страшно задрожала земля, в глухой, нарастающий шум сорванных с места камней и гигантских осыпей ворвались пронзительные женские крики, застывшие на высокой ноте, отчаянный лай собак, тревожное мычание коров. Земля-твердыня уходила из-под ног. Содрогался столетний чинар посреди аула, мощные ветви его склонялись до самой земли, словно стыдясь своего бессилия перед стихией.
«Старый чинар, наш защитник, под твоими ветвями не страшен был и холод, за твоим необхватным стволом не страшен был и ветер… Сколько бурь обходило тебя стороной?! Что можем мы противопоставить силе, терзающей тебя?! Как перенести этот леденящий ужас, это бессилие изменить что-то?!»
Босые, полураздетые люди с маленькими детьми на руках бежали сюда, на площадь. Слышался звон разбитых стекол, треск ломающихся досок, крики и плач детей.
Жамбик, стоя среди людей, словно заново увидел их – тех, с кем долгие годы жил рядом, увидел, как все одинаково беззащитны перед грозной силой, сотрясающей основы основ. Всем, как детям, нужно утешение и помощь. Мгновенное чувство единения, родства с этими людьми, жалости пронзило его.
«Люди, люди… Что сделать мне, чтобы успокоить вас, спасти от беды?! Как помочь вам?!»
В тот самый момент, когда все грохотало и сотрясалось вокруг, словно шоры спали с глаз Жамбика. Отяжелевший, седеющий мужчина внезапно ощутил себя тем маленьким, тщедушным ребенком, которым был когда-то. Руки и ноги как хворостинки; одна болезнь приходит за другой. Его лечили старинным способом: когда разделывали тушу коровы, посадили во вспоротый живот. Тогда верили, что, стоит ребенку уснуть там, все хвори как рукой снимет. А он, маленький, не понимал, в чем дело, орал в голос, сопротивляясь рукам взрослых. И постепенно успокоился, уснул в теплом, склизком животном нутре. А теперь люди говорят про него: «Живет как почка в жиру…»
Жамбик, стоящий на заснеженной улице, пожимает плечами, оглядывает свою дородную фигуру, словно удивляясь происшедшим с ним переменам, с трудом вспоминая себя слабым, тщедушным мальчиком.
После землетрясения минул месяц, жизнь вошла в прежнюю колею. Забылись тревога и боль тех страшных минут… Текучка, повседневные дела и заботы не оставляли времени на раздумья. И то чувство, которое обожгло Жамбика в страшный миг землетрясения, когда он словно после долгого сна взглянул вокруг открывшимися глазами, – это чувство как-то стерлось, померкло, растворилось в обыденности. И все же больше ему не пришлось жить по-прежнему.
Он проснулся в то утро рано с каким-то смутным беспокойством в душе. Должно быть, оттого, что разбудили его крики журавлей, летевших над аулом. Он напряженно прислушался, и горькое, щемящее воспоминание ожило в его памяти. Много лет назад так же летели над крышами журавли, и вместе с ними покидали родные места вчерашние мальчишки, ставшие солдатами, курилась пыль на дороге, и вослед им плакали женщины.
Жамбик отогнал печальные мысли, сел. Диван жалобно заскрипел под тяжестью его грузного тела. Он нашарил ногами тапочки, прошел в кухню. Рассеянно умылся и так же, словно глядя внутрь себя, оделся. И, только надев пиджак, вспомнил, что не побрился. Он наклонился к зеркалу, провел рукой по обозначившейся щетине и сказал вслух: «Ну ладно, сегодня можно обойтись».
Раннее утро было по-осеннему прохладным и ветреным. Рваные белые облака неслись по небу. Трава у обочин выцвела, кое-где пожелтела. Леса вокруг аула пламенели.
Отперев дверь, он вошел в сельсовет. Как всегда, было чисто, вымытые окна блестели. Жамбик постоял на пороге своего кабинета, словно раздумывая – войти или нет. Прошел к окну, побарабанил пальцами по подоконнику. «Орехи в лесу, должно быть, уже поспели». Наконец, он сел за стол, достал папку с бумагами. Но работать не смог. Долгий час провел в тишине и одиночестве, подперев голову руками. В соседней комнате зазвучали голоса.
– Ну так вот, с одной стороны, конечно, это несчастье, – Жамбик узнал голос Маккала – председателя комиссии по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения, – а с другой – не так плохо для умных людей…
Ему ответил Махма – бухгалтер сельсовета:
– Я совершенно с тобой согласен.
Жамбик отчетливо представил себе лицо бухгалтера с выразительной ухмылкой. Он продолжал прислушиваться.
– О чем это вы тут толкуете? – послышался голос старухи Зезаг.
– Ты, Зезаг, вряд ли это поймешь. Ты безнадежно отстала от времени.
– Постыдись, Маккал, хотя бы моих седых волос, я раньше тебя начала ходить по этой земле.
– Нет, Зезаг… Тут дело не в том, кто сколько прожил. Некоторые и за тысячу лет так и не научатся жить. Я вот, например, во всем стараюсь находить хорошие стороны, – Маккал явно входил во вкус, но старуха перебила его:
– И что хорошего ты отыскал в землетрясении?
Маккал замялся, но его выручил Махма:
– А вот, бабушка, например, Беччарка с окраины аула и Берса, который живет за речкой, испокон веков враждовали между собой, а в ту самую ночь, видно, от страха, – Жамбик услышал усмешку в голосе Махмы, – помирились. Что же это – плохо, по-твоему?
Зезаг, должно быть, растерялась, и ответ ее прозвучал как-то неуверенно:
– Нет, это хорошо.
– Вот об этом Маккал и говорит. Старики действительно безнадежно отстали от времени, на это нечего обижаться. Нужно смотреть правде в глаза. Вот признайся, Зезаг, ты ведь сама ходила по аулу и рассказывала эту глупую сказку, будто землю держит на рогах бык, а когда он качает головой, бывают землетрясения, – Махма постучал счетами. – Ну кто же этому поверит? Сейчас каждый школьник знает, почему происходят землетрясения.
– Так объясни и мне.
– А все потому, бабушка, – начал Маккал, – что в глубине земли смещается магма…
Старуха уже не могла отличить насмешку от правды и подозрительно переспросила:
– Кто смещается? Махма?
– Ха-ха! Махма! Что с тобой говорить, Зезаг… Распишись лучше вот здесь и получай свои деньги: двадцать семь рублей десять копеек.
– А что это за деньги?
– Государство тебе выделило помощь после землетрясения. Расписывайся в этой графе и скажи, пожалуйста, ты сама-то хоть верила своим россказням? – голос Махмы звучал почти ласково.
Старуха не спешит отвечать, видимо, расписывается, с трудом удерживая ручку в заскорузлых пальцах. A потом говорит:
– Я слышала это от своей бабушки и ничего не убавила и не прибавила от себя. Какая мне разница, на чем держится земля? Лишь бы держалась. А вы вот выучились и все знаете, так и не позволяли бы этому Махме смещаться.
– Да, бабушка, – это опять Маккал, – ты бы пoразмыслила немного, прежде чем говорить. А что, если твоему быку порезвиться захочется? Побегать по травке? Что случится с нашей бедной землей?
Но миролюбиво настроенный Махма не хочет ссоры и успокаивает старуху:
– Не обижайся, бабушка, такие уж у него шутки.
Память прокручивала разговор, как магнитофонную ленту. Жамбик отчетливо помнил каждое слово. Но вспоминать дальше становилось невыносимо. И снова, ища защиты и понимания, он обратился к заснеженным деревьям, словно был уже не в силах удержать в себе то, что копилось так долго. И слова, выплескиваясь, облегчали душу…
– Видишь, яблоня, снежинки кажутся такими легкими и воздушными, но их – множество, и они все летят и летят. Они укрыли тебя плотной снежной шапкой и ветви твои сломают, если не стряхнуть вовремя.
Жамбик трясет яблоню, снег летит с веток. И он, весь запорошенный, отряхивает шапку и тулуп.
– Вот и мне было сначала легко, приятно, а потом я почувствовал тяжесть, от которой трудно освободиться.
По сугробам Жамбик пробирается к другим деревьям, стряхивает с них снег и бормочет:
– Груша моя! Айва! Сейчас я освобожу вас. Как же вы до сих пор стояли? А я сам? Как жил все эти годы?
Мой груз не стряхнуть так просто. Трудно мне, деревья мои!
Съежившись от холода, Жамбик вновь погружается в свои мысли.
В соседней комнате некоторое время царило молчание, которое прервал голос Махмы:
– Что же ты молчишь, наша секретарша?
– Она не может говорить, Махма. Она моя сноха. Мой племянник женился на ней две недели назад. Так что,она обычай соблюдает – молчит в присутствии родственника. Уважает.
– Ну, довольно ей молчать. Сейчас мы ее быстро разговорим.
Жамбик догадался, что все утро там, в комнате, тихо сидела Заза. Он вспомнил, что недавно Маккал просил за нее. Вот, значит, почему: она его родственница. Эту девушку Жамбик знал и раньше. Недалеко от его дома стоял дом вдовы Хавы. Судьба забрала у нее мужа, но оставила сына. Лет пятнадцать назад, когда Жамбик чувствовал себя еще достаточно молодым и бодрым и улыбался гораздо чаще, чем теперь, куда бы он ни шел – в колхозный сад, в правление, к реке, где строился новый мост, – его нередко сопровождала ватага мальчишек. Так повелось еще с послевоенного времени, когда дети бегали за ним, глядя на его награды и, должно быть, представляя себе своих отцов такими же героями. Одни ребятишки подрастали, их сменяли другие, и Жамбик всегда находил время расспросить ребят про их дела. Нередко он видел возле себя сына Хавы, его пытливые, смышленые глаза. Жамбик и сам заходил иногда по-соседски к Хаве сделать какую-нибудь мужскую работу: поправить изгородь, спилить сухие ветви в саду – да мало ли забот в хозяйстве. Потом Жамбик возвращался домой, и мальчик провожал его. В один из таких вечеров, глядя на четкий, в закатном солнце, силуэт башни, Жамбик вспомнил легенду: «И до тех пор будет стоять она на земле, пока живы в людях благородство, честь и любовь. Значит, стоять ей вечно…» – так заканчивалась эта легенда. А люди, видя их вместе, говорили: «Второй Жамбик растет». Шло время, мальчик взрослел. Несколько раз Жамбик заставал во дворе Зазу и юношу, замечал их смущение и поэтому не был удивлен, когда общая молва связала имена Зазы и сына Хавы.
Но что же произошло, если вдруг Заза вышла замуж за племянника Маккала? Жамбик вздохнул. Он давно уже не интересовался семейством Хавы, не заглядывал в ее двор. Да никто уже и не просит помощи Жамбика, а он ее никому не предлагает. И ребятишки тоже давным-давно не бегают за ним следом. Его размышления прервал голос старухи Зезаг:
– Эй ты, обогнавший время, – обратилась она к Махме, – ты почему мне так мало денег выписал?
– А ты мне что – в долг давала? – возмутился тот.
– Да как же? Вот соседу Сулейману выдали шестьдесят рублей…
– Остальные, бабуся, тебе твой бык пришлет!
И вдруг впервые в этот день прозвучал юный голос:
– Как шестьдесят? Но в ведомости выписано сто двадцать рублей.
– Во-первых, Заза, с какой стати ты заговорила при мне? А во-вторых, нечего объявлять при посторонних, что там у нас в ведомости написано. Это служебный документ, – Маккал говорил почти угрожающе.
– А, так, наверное, шестьдесят рублей ему выдали, а шестьдесят между собой разделили.
– Потише, бабушка! С тобой по-хорошему, а ты разошлась – честных людей очернить хочешь. Любительница сказок! И вообще – это дело комиссии, – однако уверенности в голосе Маккала явно поубавилось.
– Дело комиссии? Отлично! – вмешалась Заза. – Я как раз вхожу в комиссию – давайте разбираться конкретно. По какому принципу выписывались деньги? Вот Адамову Адлану – сто пятьдесят рублей, а Масаеву Бикату – сорок. Причем всем известно, что дом Бикату совершенно покосился, а дом Адлана целехонек. Что вы на это скажете?
– А скажу, что ты, девушка, чересчур прыткая. – Слышно было, как хлопнула входная дверь, и Маккал обратился к вошедшей женщине: – А вот как раз и матушка твоя пожаловала. Кебийрат, по обычаю твоя дочь обязана сидеть, не раскрывая рта в моем присутствии, а она его не закрывает! То ей – не так, это ей – не этак.
– Маккал, не обижайся на нее. Она ведь в школе училась, а жизни не знает, ума еще не накопила – молодая.
– Молодая да ранняя, – буркнул Маккал, – что там говорить о ее болтовне? Она вот меня – дядю своего мужа – собирается на отдых отправить.
– На какой отдых?
– На принудительный. Под конвоем.
– Вай! Да неужели моя дочь осмелится против родственников идти? Что ты задумала, Заза? Видно, ты ума лишилась!
– Нет, нана!3 Как раз теперь я и начинаю кое-что понимать.
– Замолчи! Язык у тебя без костей. Виданное ли ты дело затеяла?
– Ну вот, – голос Махмы стал удовлетворенным, – я смотрю, тут все решится тихо, без скандала, по-семейному. Иди, Кебийрат, возьми деньги и распишись.
– Нана, не прикасайся к деньгам. Сначала я съезжу в район и разберусь в этой истории.
– Да что она такое говорит? – вспылил Маккал. – Вот благодарность за то, что я ее пристроил на это место.
– Меня, между прочим, в комиссию люди выбрали.
– «Люди». Ха-ха. Расскажи это кому-нибудь другому, а еще лучше спроси у своей матери, какие тебя люди выбирали. А по начальству ходил я, обивал пороги, просил за тебя.
– Значит, вы для себя старались. Думали – я тут просижу молча, закрою глаза на все это беззаконие. А кроме того – я не просила за меня хлопотать.
– Ты-то не просила, зато твоя матушка…
– Послушай, Маккал, – не выдержала Кебийрат, – ты ведь не бесплатно услужил, а теперь – нечего языком трепать где попало.
Стоящий на снегу Жамбик чувствует, как кровь приливает к лицу и щеки начинают пламенеть. Эти люди даже не пытались скрывать от него свои дела, они были уверены, что Жамбик – на их стороне. А разве не так? На всевозможные застолья и приемы почетных гостей нужны деньги. Не из своего же кармана их выкладывать. Но, видно, льстивые речи превратили Жамбика в послушного ягненка, в неразумного младенца, и он просто боялся взглянуть правде в глаза. А вот Заза не испугалась. И прямо, не взвешивая «за» и «против», в глаза сказала, что думает. Жамбик помнил, как Маккал просил за нее, дескать, Кебийрат едва сводит концы с концами, а девушка вполне достойная. Да и район советовал включить в комиссию хотя бы одну женщину. А девушка действительно оказалась достойная, преподала тебе, Жамбик, наглядный урок. А Маккал просчитался, не ожидал, что Заза – девушка с характером и молчать не будет. Они бы с Махмой обделали денежное дельце, и все было бы шито-крыто, ведь он – Жамбик – давно перестал быть им помехой… и остановил их не он, а Заза.
Долгая зимняя ночь все длится. Снег почти перестал, стих ветер, и ничто не мешает Жамбику вновь мысленно возвратиться в тот день.
Он то порывался встать, выйти в соседнюю комнату, то вновь прислушивался к разговору, поглощенный происходящим. Скандал становился явным, его уже невозможно было скрыть, он втягивал в себя новых людей, высвечивая порой их далеко не лучшие качества.
Вот в правление вошел Докка. Всегда энергичный, он и в преклонном возрасте полон сил и здоровья.
– Добрым людям – поклон! О чем вы тут толкуете так горячо?
– А, Докка. Заходи, заходи. Ты как раз кстати. Ты – человек уважаемый, знаешь все обычаи. Послушай только, какие неподобающие речи говорит дочь Кебийрат. Обвиняет меня и Маккала в нечестности. Скажи, куда это годится?
– Заза, это правда? Посмотри-ка, бесстыжая, даже глаз не опускает. Ну, мы ее быстро образумим. А я зашел – тут вроде мне какие-то денежки полагаются.
Слышится шелест бумаг, и Махма говорит:
– И денежки имеются. Подходи, расписывайся.
– Что это здесь? Всего пятьдесят рублей? – благодушное настроение Докки моментально исчезло. – А моему соседу сто пятьдесят выдали. Чего ты глядишь на меня, Махма? И не стыдно? Видно, девушка права. Надо, надо, Заза, все получше проверить. А я свои деньги из вас вытрясу, я на вас управу найду. Грабеж среди бела дня, – и, стукнув кулаком по столу, Докка вышел из комнаты.
Маккал вздохнул.
– Они все умом тронулись, Махма.
– Видно, произошло не только землетрясение, но и головотрясение у некоторых.
Жамбик в своем кабинете смотрел прямо перед собой невидящим взглядом. Эх, Докка, Докка! Не только молодость ушла от нас. Каждый день ходил Жамбик мимо подворья Докки и прекрасно знал, что ни дом, ни другие постройки не пострадали. Как же так, Докка? Чтобы получить побольше денег, ты готов утверждать, что дом твой рушится? Тычешь пальцем на соседский дом и кричишь, словно правда на твоей стороне? Продаешь свою совесть? И ты забыл, каким был когда-то, Докка? Забыл молодость, удаль, лихость? Забыл, что не покупалась честь твоя за деньги? А помнишь, перед войной, зимой, ты шел по лесу. Мороз был крепкий, даже деревья трещали. А у тебя на голове была серая каракулевая папаха. Отличная папаха, в которой ты красовался перед девушками. И вдруг прямо из кустов высунулось дуло винтовки и коснулось твоей груди, и в спину твою тоже уткнулась винтовка. В то время много бродило по лесам всяких людей с оружием, которые называли себя абреками.
– Папаху или голову, – сказали тебе. Но ты не сплоховал.
– А мне и папаха, и голова одинаково дороги, и, думаю, ни того, ни другого вы не получите, – ответил ты и кинулся со всего размаха в глубокий, занесенный снегом овраг. Вслед тебе просвистели пули, и, судя по крикам, ты, отстреливаясь, тоже кого-то ранил.
Так и вернулся в тот раз ты, Докка, домой победителем. Куда же девалось то, что было прежде? Видно, время унесло не только нашу молодость, и седина не прибавляет нам почета. Нам с тобой есть о чем подумать, Докка, такими вот бесконечными зимними ночами. Мне, во всяком случае, это необходимо, чтобы как-то жить дальше, преодолеть зиму – встретить весну, дождаться цветения садов, обновления природы.
Взгляд Жамбика снова скользит по деревьям. И вдруг он, словно что-то вспомнив, поспешно направляется к яблоне и начинает подгребать снег к стволу. Потом старательно утаптывает его, приговаривая при этом:
– Теперь никакой мороз не страшен твоим корням, яблоня. – И он переходит от дерева к дереву, нагребая сугробы и утаптывая их, пытаясь отвлечься, заслониться от того навязчивого, что преследует его душу.
Между тем, скандал в соседней комнате разгорался, а Жамбик не имел мужества выйти туда и сидел, пряча горящее лицо в ладонях.
– Ты, Кебийрат, уйми свою девчонку. Ты думаешь, со мной можно так просто справиться? Не на того напали. На мою защиту все родные встанут. А твоя Заза не задержится в доме моего двоюродного брата.
– Послушай, не Маккал,4 а ворон, придержи язык! В чем ты можешь упрекнуть дочь Лом-Али, сына Арснаки? Да твой племянник должен быть благодарен, что она согласилась за него замуж выйти.
– Смотри – осчастливила! А ведь всем известно, что твоя дочь таскалась всюду с сыном Хавы.
– Не смей говорить плохо о моей дочери, Маккал. Она всегда вела себя достойно. Ты лучше вспомни свою племянницу, которую ты продал дезертиру Даме. Хоть и прошло время, но люди этого не забыли. А тебе, дочка, – она обратилась к Зазе, – нужно одуматься.
Молчавшая до сих пор Зезаг не выдержала:
– Что ты говоришь, Кебийрат? Вовсе не ей нужно одуматься, а этим вот – не имеющим стыда. А дочь моей сестры оставьте в покое хоть сейчас… Бедная девочка не вынесла позора, бросилась с обрыва… Был бы у нее брат, он бы не дал ее в обиду, да и ты, Маккал, не ходил бы сейчас с поднятой головой…
– Она не из-за этого прыгнула с обрыва, ей просто жить надоело… – оборвал старуху Маккал.
– Как солнце светит над тобой? Как носит тебя земля, как трава вырастает там, где ступала твоя нога?.. Люди, я знаю теперь, почему бывают землетрясения. Потому что такие ходят по этой земле…
– Знаешь что, Зезаг, – Кебийрат уже не сдерживала гнева, – не лезь не в свое дело. Нечего нам распри между родными заводить, а Зазе нужно и мужа, и родственников мужа почитать. Я с ней сама управлюсь – нечего тут советы давать.
– А ты, Кебийрат, видно, боишься правды. Значит, и тебе есть, что скрывать. Чего от тебя требовать? Ты во всем свою выгоду ищешь! Недаром ты и года не стала ждать мужа с войны, выскочила за первого встречного…
– Я не жалею, что вышла замуж. Мне раскаиваться не в чем. Я теперь не одна, у меня – семья, дети. А ты даже ребенка не родила, живешь, как колдунья. Завидуешь чужому счастью да еще других попрекаешь. Жди, жди! Вернется твой муж через столько-то лет!
В голосе Зезаг зазвучали слезы:
– Пусть я колдунья, дура одинокая. Я от времени отстала… А я и не хочу поспевать за ним, за вами всеми, не хочу быть такой, как вы. Потому что честь моя мне дороже всего. И никто не скажет, что дочь Абдуллы Зезаг не сохранила своей чести, что она была неверна, не сдержала своего слова, соврала… Никто не скажет!
Вот и ты, Зезаг, преподала мне урок мужества. Твоя жизнь всем может служить примером. Ты никогда не требовала от судьбы больше, чем она давала тебе. И одиночество свое, и верность погибшему мужу ты несла достойно. А это тяжелая ноша. В тот день из правления ты, Зезаг, ушла в слезах. И, должно быть, плакала долго, сидя на краю грубого паднара, в невыносимой тоске. И плач твой был безутешен. А люди, походя оскорбившие тебя, просто выместили на тебе свои неудачи, озлобление. И что им за дело до того, что они разбередили твою незаживающую рану, что боль и обида мучают старую Зезаг в пустом холодном доме…
Жамбик задумался. Что принесла эта глухая, долгая ночь Зезаг? Коротает ли она время, глядя в темное окно, не в силах уснуть из-за скорбных, гложущих душу мыслей? Или в скупом сне видятся немногие солнечные дни, выпавшие в ее жизни? Все эти годы не гаснет свет в ее дворе, разгоняя по ночам густую черноту… Зачем? Какого путника поджидает Зезаг? Для того, кто идет к ней столько лет, приветно горит огонь, чтобы знал – его ждут.
– Заза, извини, что мы сразу не предупредили тебя, но мы думали, ты современная девушка и сама все поймешь, – начал Махма, – разумеется, часть денег причитается тебе.
– Дело вовсе не в деньгах. Мне они ни к чему.
– Ни к чему? Впервые вижу человека, которому помешали бы деньги. А впрочем, нет – вот старуха Зезаг, ей они тоже ни к чему. А, Заза? Но ей ведь ни к чему и бельгийское пальто, и фирменные тряпки, и японская аппаратура. А ты-то красивая девушка. Ты, наверняка, хочешь хорошо одеваться и вообще хорошо жить. На копейки существовать невозможно. Да и зачем, когда деньги сами плывут в руки? Тебе даже не нужно прикладывать никаких усилий, мы сами обо всем позаботились. Тебе нужно просто промолчать, в крайнем случае сделаешь вид, что ничего не знала – и только. Чего проще? И знаешь, после всех этих передряг, нервотрепки – махнем к морю. Скинемся и поедем, а? Ты ведь еще там не была? Ну вот: волны плещут, солнце светит. Отдохнем. И вообще, это только в книгах положительному герою – почет и уважение за то, что он всю жизнь стоит у станка или гнет спину на колхозном поле. Нет, Заза. Только тот, у кого деньги, – хозяин жизни, только он может разнообразить ее, позволить себе удовольствия. И я, между прочим, из этих людей. Если жизнь дает – я беру. Я вовсе не хочу прозябать на зарплату, как большинство. И вот теперь ты – девчонка – становишься поперек дороги. Ты думаешь, тебе медаль дадут за длинный язык? Да на тебя все пальцами показывать будут: «Доносчица, родных упекла». Тебе жизни в ауле не будет. И что за судьба у меня? Постоянно мне вставляют палки в колеса. Я бы уже давно был главным бухгалтером в каком-нибудь крупном хозяйстве, деньгами бы ворочал, если бы из-за никчемных принципов такого же вот сопляка-практиканта не отправился лес рубить на пару лет. Все пошло прахом. И вот теперь – опять…
Слышно, как Махма ходит из угла в угол. В разговор вступает Маккал:
– Послушай, Заза, мы ведь не безродные с тобой, вспомни, что наши предки были связаны кровным родством.
– Оставь ее, Маккал Даудович, – Махма пытается разыграть равнодушие, – ты видишь: она уперлась и уговоры бесполезны. Пусть едет, прокатится. От чьего имени она будет говорить? Кого защищать? Старуху Зезаг? Эту мракобеску, которая даже не произвела на свет ребенка, не принесла обществу никакой пользы, а теперь ходит и болтает небылицы, что мир стоит на быке? И считает себя при этом мудрой…
– Нет, я должен ей сказать, – перебивает Маккал, – ты, Заза, не представляешь, как были близки наши предки. Твой дед Арснака и мой отец Дауд были красными партизанами, дрались в Чахкари с деникинцами, вместе проливали кровь. Твой отец и я тоже были друзьями, делили каждый кусок сискала.[1] Да мы… Эй, Заза, ты уходишь? В тот момент, когда я говорю о твоем отце?
Увлеченные разговором, Маккал и Махма не заметили, как открылась входная дверь.
– Пусть едет, Маккал Даудович. Опозорится и вернется ни с чем. Нам бояться нечего, мы делали все, как положено, поделились, с кем надо, да и к бумагам не подкопаешься.
Махму прервал незнакомый мужской голос:
– Если девушка собирается в район, то ехать не нужно. Я из района.
В комнате стало так тихо, что слышно было взволнованное дыхание людей. Оторопевший Маккал пролепетал:
– Как из района?
– Да, из газеты. В редакцию пришли кое-какие письма. И меня послали посмотреть, что тут у вас творится, есть ли злоупотребления.
– Товарищ, так ты из газеты? – уверенность Маккала мгновенно испарилась. – Но я не виноват. Не слушай никаких поклепов, у меня семья, дети. Не губи.
– Эй, Маккал! Не спеши разуваться, пока до воды не дошел. Сначала взглянем на его документы. Так… Действительно из газеты.
Жамбик явственно услышал шум – это Маккал тяжело осел на пол. Послышался его едва слышный шепот: «Дайте воды».
– Довели человека, – вскрикнул Махма. – Если с ним что случится, ты будешь виновата, Заза.
– Дада здесь? – прозвучал вдруг детский голос. У Жамбика болезненно сжалось сердце, меньше всего он хотел бы, чтобы его внук слышал то, что сейчас говорится, и видел таким своего деда. Но на мальчика никто не обратил внимания, должно быть, суетились около Маккала.
– Приходит в себя.
– Подумайте, какой слабонервный оказался, – Махма попытался пошутить, отступил в сторону и случайно опрокинул стул. Маккал приоткрыл глаза:
– Махма! Что это гремит? Опять землетрясение?
– Не землетрясение, дорогой, а крушение мира.
– А чей это мальчик? – наконец спросил журналист.
– Внук нашего начальника Жамбика, – Махма, казалось, вновь обрел утраченное спокойствие, – и для твоего дедушки – крушение мира, – обернулся он к мальчику.
– Какое крушение? Мой дедушка ничего не боится!
– Ха-ха. Вот оно – нынешнее воспитание. Уже с пеленок понимают, что к чему. Конечно, мальчик, дедушке твоему не страшно – он известный человек, у него награды и знакомства – к нему с голыми руками не подступишься.
Этого Жамбик вынести уже не мог. Он встал из-за стола, решительно распахнул дверь. Все взглянули на него, но лишь на секунду – вдруг послышался отдаленный грохот. Мальчик, показывая рукой в окно, закричал:
– Смотрите! Смотрите!
Жамбик взглянул туда и онемел. Башня, стоявшая на обрыве, рушилась на глазах.
Жамбик и корреспондент разговаривали поначалу спокойно. Но Жамбик чувствовал, что порядком устал, и опустился на стул. А молодой журналист принялся расхаживать от окна к двери, затем заговорил поучительным тоном:
– Хорошо, что у нас есть возможность поговорить наедине. Если честно, то я ваше поведение объяснить не могу. Люди все силы прикладывают к тому, чтобы наладить хозяйственный механизм. Душой болеют за страну. Борются за экологию, за мир. Вот и вы бы внесли свой вклад.
– Да я готов внести! Все, что потребуется. Свою жизнь!..
– Жизнь? – молодой человек саркастически улыбнулся. От этой улыбки Жамбика передернуло. Что этот младенец, ничего не испытавший в жизни, может понимать? Все, что он умеет, – писать передовицы для газеты. Жамбик уже собирался разразиться гневной речью, но в кабинет вбежала плачущая Зезаг.
– Аллах свидетель, Жамбик, я не хотела причинять тебе никаких неприятностей. Лучше бы мне умереть, чем заговорить об этих несчастных деньгах. Я во всем сама виновата, я все сама затеяла. Я не перенесу этого стыда. В нашем роду не было доносчиков. А я посрамила имя своего покойного отца, посрамила свои седые волосы. Несчастная я! Горе на мою голову!
Едва они успокоили Зезаг, на пороге появился Докка и тут же завопил:
– Вот теперь посмотрим, как вы будете разговаривать со мной и с тем, у кого красные погоны на плечах. Доку, сына Аду, еще никто не обвел вокруг пальца, – он выглянул в окно. – Эй, где ты там застрял?
Сейчас, – донеслось со двора, – только грязь очищу. Жамбик взглянул на обувь Докки.
– И тебе, Докка, следовало бы сделать то же самое.
Докка выпятил грудь, чтоб вся его независимая поза подтверждала сказанное:
– Пусть обувь у меня – грязная, зато руки и дела – чистые. Не то что у некоторых.
В комнату вошел высокий светловолосый милиционер и оглядел присутствующих нарочито строгим взглядом. Докка представил его:
– Это сын моей сестры. Как видите, пользуется уважением у власти: ему дали форму, доверили оружие. Так что, с ним шутки плохи. Когда он еще был мальчишкой, я знал, что из него вырастет настоящий волк. Он не даст в обиду своего дядю.
– И откуда прибыл этот «настоящий волк»? – спросил Жамбик.
– Приехал погостить. Вообще-то, я работаю в городе участковым. Но это – совершенно неважно. Для меня нет разницы – село или город. Я не потерплю несправедливости. – Докка одобрительно кивнул.
– И с какой же несправедливостью ты собираешься бороться?
– А вы не знаете? – возмутился Докка. – Начислили мне какие-то жалкие копейки…
– Но комиссия установила, что постройки на твоем дворе практически не пострадали, – Жамбик перелистал бумаги.
– Как не пострадали? Все стены в трещинах и фундамент тоже. Шифер с крыши сорвало. Сарай развалился.
Сайдулла, корреспондент из газеты, открыл блокнот, чтобы записать фамилию Докки.
Но тут к Докке обратилась Зезаг, сидевшая в уголке на стуле:
– Постой, – сказала она, – ты говоришь, что сарай развалился от землетрясения?
– А почему бы и не говорить, ведь это – чистая правда.
– Но я же своими глазами видела, как ты собственноручно разрушал его через три дня после землетрясения, да еще сказал, что новый хочешь строить.
– Опять ты вмешиваешься не в свое дело, Зезаг. Твои глаза ослепли на старости лет, а разум ослабел.
– Мои глаза ясно видят твои плутни, Докка, а разум пока еще отличает правду от лжи!
– Доносчица! Кем ты еще могла стать? Ваш род черт проклял, вот он и прервался, и потомства у тебя нет.
Докка выскочил из комнаты. Вслед за ним прогрохотали по ступеням крыльца милицейские сапоги.
Опять на какое-то время стало тихо, только поскрипывали половицы под грузным телом Жамбика – теперь он мерял шагами комнату, а Сайдулла примостился на краешке подоконника. Наконец их разговор продолжился с того самого момента, на котором прервался.
– Вот вы сказали, что жизнь готовы отдать. Так ведь в этой ситуации никто не требовал от вас жизни. Достаточно было нескольких слов. А вы и на это не отважились. Что же говорить о других случаях, когда действительно перед вами мог бы встать выбор: честь или жизнь?
И тут Жамбик, несмотря на раздражение, вновь охватившее его, смутно почувствовал правоту этого неоперившегося юнца. И все же жгучая обида сдавила виски, встала комом в горле. Он дрожащими от волнения руками достал из внутреннего кармана пиджака пожелтевшие листки. Протянул журналисту, выдохнул:
– Читай…
Сам он знал это письмо наизусть, и знакомые строки вновь ожили перед его глазами: «Брат мой! Я живу. Живу благодаря тебе!..»
Когда Сайдулла прочел письмо, Жамбик сказал:
– Не суждено было Жанарали вернуться. Он погиб за три дня до конца войны.
Словно стыдясь охвативших его чувств, Жамбик отвернулся к окну, вынул из кармана платок. Однако Сайдулла подошел к нему, тронул за локоть:
– Мой отец тоже воевал. Пропал без вести…
Но этот миг, объединивший их, прервал вошедший без стука Махма.
– Что я вижу? Жамбик, ты расстроен, ты плачешь? Плачь, Жамбик, тебе есть, что терять. Попробуй разжалобить товарища корреспондента. Посмотри, юноша, – Махма взмахнул рукой, – тебе не жаль этого старика? Он прошел войну, закалился в боях, но ты заставил его плакать. Однако я, кажется, опоздал со своими советами. У тебя, корреспондент, глаза тоже на мокром месте. Ай да Жамбик! Какой искусный актер! Тебе просто в театре играть! Ты, оказывается, и камень можешь разжалобить. А может быть, журналист просто мягкий, сердечный человек? Тогда вы тем более договоритесь! Милосердные люди – редкость в наши дни. Я бы сказал – возник некий дефицит человечности. Но нужно быть гуманистом вопреки обстоятельствам. Гуманист – это звучит гордо.
– Махма, если ты кончил, оставь нас.
– Разумеется, оставлю. Только одна маленькая деталь, одно замечаньице по ходу дела. Когда будете статейку писать, товарищ журналист, не забудьте упомянуть, что я всего лишь бухгалтер, исполняющий волю своего начальника, бывшего фронтовика.
– Нет, моя груша, – Жамбик погладил рукой ствол, – я не удивился, когда услышал это. В тот день я уже достаточно много узнал, чтобы не удивиться его словам. Я только пожалел его отца – он достоин был лучшего наследника. Когда-то, много лет назад, Атаби – его отца – пригласили с приятелем на вечеринку в аул на равнине. Товарищ не мог удержать свой язык – сболтнул не к месту что-то обидное для хозяев. Дело дошло до ссоры, слово за слово – сверкнули кинжалы. В потасовке один из жителей аула был смертельно ранен. Он упал, истекая кровью, а тем временем Атаби с приятелем попытались убежать. Однако на полпути Атаби настигли, привели обратно и спросили:
– Не от твоего ли кинжала умер этот человек?
И Атаби, не желая солгать, глядя в разъяренные, дышащие яростью лица, ответил:
– Не знаю. Все произошло слишком быстро.
Две недели он пробыл в том селе, готовясь к смерти. А те, которые так жаждали мести, все решали, когда удобнее убить его – сегодня или завтра. Наконец вмешались почтенные старцы, сказав, что не подобает настоящим мужчинам мстить безоружной жертве. Их веского слова послушались. Атаби отпустили… Но это был уже другой человек. Бесконечные дни ожидания помутили его рассудок… Но сказать неправду он так и не смог… А Махма? Наследник достойного имени? Не задумываясь и не стыдясь, перекладывает собственную ношу на чужие плечи.
– Но нет, груша моя! Я не о том думаю, не о том говорю. Моя вина ничуть не меньше. Ведь когда Махма подошел ко мне и просил назначить Маккала председателем комиссии, сердце мое сразу почувствовало неладное. Я знал, что нельзя этого делать. И все же – сделал. Но видно, чему быть, того не миновать. Все уже совершилось, деревце мое!
Жамбик дышит на руки, разминает окоченевшие пальцы, глубоко вдыхает морозный воздух и снова застывает в молчании, опершись на ствол груши.
Жамбик и Сайдулла испытывали какую-то неловкость, казалось, приход Махмы разрушил что-то неуловимое, то, что могло бы помочь понять друг друга. Когда Сайдулла заговорил, Жамбик удивленно поднял голову, прислушиваясь к его словам. Странно все же, как человек может измениться за несколько минут.
– Знаете, я бы сравнил вас с альпинистом. Вы взбирались на горы и покоряли недоступные вершины. И вдруг вам встретился небольшой холмик. Вы не пожелали лезть на него – предпочли обойти. А оказалось, что обойти невозможно – кругом болото, вот вы и увязли, уважаемый Жамбик. Разве не так?.. Но я почитаю вашу старость, да и вам, я думаю, не хочется ворошить это дело. Попытаемся уладить. Но это, как вы понимаете, зависит не только от меня. Вам придется приложить кое-какие усилия – кому-то позвонить, кому-то поднести небольшой подарок в знак признательности…
Жамбик удивленно глядел на корреспондента, он только и нашелся что сказать:
– Молодой человек, не рано ли ты изучил обходные пути?
– Так ведь я не навязываюсь. Я – от чистого сердца. И вообще – я человек маленький. Вот съездил в командировку и напишу теперь хлесткий фельетон, а может быть, статью на морально-нравственную тему. И назову ее так: «Цена чести». Так что, дешевле было бы сделать подарки. Ну, как хотите, как хотите! Цену своей чести вы назначили сами… Всего хорошего!
– До свидания, молодой человек, до свидания.
Жамбик вышел во двор. Хотелось на воздух, глотнуть осенней прохлады. Он обошел сельсовет и, не торопясь, направился в сад. Ветер то и дело срывал с веток желтые листья, бросал наземь. Пахло прелью. Огненный шар солнца катился к горизонту. Из поднебесья донеслись прощальные крики журавлей. Жамбик поднял голову, но увидел лишь стремительно несущиеся облака, подсвеченные заходящим солнцем.
Неужели и Заза через пару лет станет такой же, как этот парень, который отлично усвоил, что передовицы – это для газет, а для жизни – связи и деньги? Неужели она вспомнит сегодняшний день и скажет: «Ну и дура я была! Чего артачилась? Что хотела доказать?» На чем же тогда будет держаться мир? Жамбик невольно улыбнулся – твоему быку, Зезаг, не справиться с этой задачей. Вот и башня рухнула. Жамбик внезапно остановился, словно только сию секунду осознал, что произошло. Пока она привычно возвышалась на западе, он мало думал о ней. Не суждено, значит, простоять ей века. Должно быть, действительно оскудели люди добротой и благородством, растеряли честь и достоинство. Жамбик взглянул вокруг и по влажной, уже слежавшейся листве повернул обратно, к сельсовету.
Едва войдя, он увидел сидящую за своим рабочим столом Зазу с красными, припухшими от слез глазами. Словно устыдившись чего-то, Жамбик быстро прошел в свой кабинет. Вскоре из соседней комнаты донесся голос вошедшей Кебийрат:
– Дочка, я слышала, ты с мужем повздорила? Ну чего ради ты влезла в это дело? Ты бы лучше не перечила ему! Успокойся, придержи язык. Здесь можешь говорить, что хочешь, а дома – ты жена, знай свое место, молчи и терпи. Ведь они выгонят тебя из дому, опозорят. А я-то старалась, бегала, высунув язык, устраивала тебя на приличную работу, замуж – в приличную семью. Да если бы не я – ты сидела бы в лачуге и всю жизнь копалась в навозе. Или ты рассчитывала, что этот голодранец – сын Хавы – построит тебе дворец? Он никогда не научится жить… Ты знай, что это я, я придумала, как заставить тебя порвать с ним отношения. И мать Беслана помогла мне. Пришла к нам тогда и с притворными вздохами да ахами стала рассказывать, что, дескать, сын Хавы ходит и повсюду сплетничает о тебе, говорит неподобающие вещи. А этот простак – сын Хавы – тут вовсе ни при чем, он и не догадывается, почему ты его бросила. Это знаю я – твоя мать. А еще я знаю, что ты никогда бы не была с ним счастлива в нищете.
Заза, видимо, что-то пыталась сказать, но Кебийрат прикрикнула:
– Не перебивай меня! Твое возмущение гроша ломаного не стоит. Перебесишься, ума наберешься – будешь еще благодарить. Извиняться за свое поведение. Смотри – как бы поздно не было!
Яростно хлопнув дверью, Кебийрат вышла.
Жамбик, невольно ставший свидетелем разговора, думал о Зазе. И вдруг он услышал ее шепот. Жамбик приоткрыл дверь кабинета и увидел, что девушка стоит, отвернувшись к окну.
– Вот, оказывается, как… А я-то думала – что произошло? Как я могла попасть в семью Беслана? Значит, я за все должна благодарить собственную мать. Но я не желаю жить так дальше. Я уйду из их дома. Я попытаюсь жить иначе. Я хочу заново научиться радоваться простым вещам: первому солнечному лучу, утренней росе, чистой родниковой воде…
Заза провела пальцами по стеклу, пожала плечами:
– А может быть, все это зря? Может быть, только и осталось высокого на свете, что это небо?
Воцарилась пустая звенящая тишина. Всем своим существом Жамбик почувствовал ответственность за эту хрупкую девушку, стоящую у окна. Он был старше, опытней, мудрее. Он обязан был хоть как-то помочь ей, прервать натянутую тугой тетивой тишину. Еще не решив, что сказать, он окликнул:
– Заза! – Девушка обернулась, и, когда Жамбик взглянул в ее светлые, заплаканные глаза, слова пришли сами собой:
– Заза! Я расскажу тебе о Зезаг! Хочешь? Она была настоящей красавицей. Молва о ней дошла и до соседних аулов. Множество парней торили дорожку к ее окнам. Ей приглянулся Нажа – шутник, балагур, лихой наездник. Родные были против, но Зезаг спрашивала совета только у своего сердца. Да вот счастье, выпавшее на ее долю, было слишком коротким. Началась война. И все мы, молодые парни, и среди нас – Нажа, распрощались с мирной жизнью. Знаешь, Заза, была осень. Такой же вот прохладный день, и редкие облака плыли по небу, и улетал вдаль журавлиный клин. Мы все надеялись, что скоро вернемся, что не раз еще увидим летящих над аулом журавлей. Должно быть, и Нажа сказал Зезаг: «Жди, я вернусь, когда возвратятся эти журавли». Но судьба решила иначе. Нажа не вернулся. С тех пор Зезаг успела состариться, но она по-прежнему ждет того парня, который уходил на войну, шутника и лихого наездника – Нажу…
Жамбик умолк, но молчание на этот раз было иным, словно таило в себе покой и исцеление.
Наконец Заза сказала, по-прежнему глядя в окно:
– Как странно, что башня обрушилась именно сегодня. Наверное, фундамент осел во время землетрясения.
Жамбик не успел ничего сказать, дверь распахнулась. На пороге появилась Зезаг, растрепанная, с совершенно побелевшими губами.
– Что же это делается, люди? Горе нам, горе… Погиб… Сын Хавы погиб… под развалинами башни…
Чинар, могучий столетний чинар. Чего только не повидал ты на своем веку! Каких страданий, каких страстей, радости и горя не насмотрелся! О чем шумит твоя листва?
Солнце скатилось к горизонту. В сумерках грозно темнеют вокруг аула горы, поросшие лесом. Людская толпа переливается, скорбно причитают женщины. А в центре утоптанной площади под самым деревом лежит сын Хавы. И, словно он может услышать их, люди говорят, спеша отдать ему те слова благодарности, которых ему, должно быть, недоставало при жизни:
– Добрый был парень. Обходительный.
– Сено мне домой привез.
– А мне дрова часто рубил.
– Единственный сын у матери…
– Он был не такой, как все.
Вдруг говор смолк. Толпа покачнулась, расступилась.
– Мать идет…
Она бежала, будто веря, что может что-то изменить. Толпа стояла в скорбном молчании, пока крик не вырвался из груди матери:
– Сыночек мой! Что же ты наделал?! Люди! Что делать мне?! Люди! Как же мне жить теперь?..
Плач матери поднимается к небу, к облакам, разносится над лесистыми горами, льется на землю, превращаясь в дождь. И ветер неумолчно шелестит листвой столетнего чинара.
– Нана, нана… Только ты у меня и была, отца я совсем не помнил. И у тебя я был один. Нана, ты помнишь, как в детстве рассказывала мне сказки про маленького сына доброй одинокой вдовы Жера-бабы. Мне всегда казалось, что ты и есть Жера-баба. Мы хорошо жили с тобой вдвоем. И больше всего на свете с самого раннего детства я любил время весенних сумерек.
Светило солнце, мы с ребятами играли на окраине аула, пока день не склонялся к вечеру. Ты окликала меня, но я не отвечал, я ждал, когда ты позовешь меня три раза. Так всегда поступал сказочный сын Жера-бабы, чтобы проверить, не черт ли его кличет матушкиным голосом. Я приходил домой, а ты сидела во дворе у горящей печи. Я садился рядом и смотрел на огонь. Ты пекла в золе лепешки из кукурузной муки, длинные или круглые. И не было еды вкусней, чем эти пресные лепешки с простоквашей. И когда я стал юношей, то ждал сумерек с замиранием сердца. И торопился на свидание с девушкой к роднику. И все во мне пело и ликовало, и казалось, знакомые вечерние будничные звуки сливаются в единую мелодию, прекрасную и вечную. И в наступающей тьме звучал где-то неподалеку чей-то пондар, и эхом отзывалось ему мое сердце… Я возвращался домой, открывал скрипучую деревянную калитку, прислонялся к косяку и долго стоял, наблюдая, как ты печешь лепешки, слушая, как мерно жуют жвачку коровы. Иногда мне казалось, что ничего нет в мире лучше этого времени на грани дня и ночи, когда горит огонь в печи, отбрасывая блики на лицо седеющей женщины, пахнет землей и свежеиспеченным хлебом, и нет слов выразить то, что переполняет душу. И можно было умереть от счастья в эту прекрасную минуту. Нана, нана… Теперь ты сидишь одна, и некого тебе ждать, и некому тебе печь лепешки. Ты ложишься спать без ужина, но ты не чувствуешь голода. Горем ты сыта, слезами умыта.
Нана, нана… Не упрекай меня. Я стал таким, каким ты меня воспитала. Маленькому сыну Жера-бабы всегда выпадала удача. Но жизнь не сказка, нана… Я ни о чем не жалею. Кто-то же должен беречь наши земные вершины, замазывать трещины и обновлять вековые башни… Иначе земля превратится в однообразную равнину… И если люди не будут стремиться стать вершинами, то темна будет жизнь… Я верил, что каждый из людей в силах стать вершиной, я надеялся, что мне удастся…
Сейчас так много говорят о крушении мира, о хрупкости жизни. И людям, и башням, и вершинам нужна опора… Нана, я задумал сделать много хороших дел. Ты бы гордилась мною. Но я не успел.
Нана, нана… Никогда больше не присесть мне с тобой рядом, не разгладить морщины на твоем лице, чтобы высохли слезы и ты утешилась… Не увидеть больше, как заходит солнце и сгущаются сумерки… Не увидеть, как зацветают сады и пробивается молодая трава… Не услышать вечерами, как стрекочут стрекозы… Люди должны нести в жизнь свет, почему же так темно кругом, почему, нана?
Нана, нана…
Жамбик, словно очнувшись, провел ладонью по лицу. Ночная тьма редела, и сквозь снежные покровы угадывались знакомые контуры окрестных гор. Вот и эта ночь проходит, да не избыть тяжести на сердце. Жамбик глянул на соседские дома – и то ли показалось ему, то ли впрямь – мерцал огонь в окне вдовы Хавы. Но даже солнечный свет бессилен разогнать тучи, собравшиеся над судьбой этой женщины.
Сердце Жамбика пронзила жгучая жалость, когда он явственно представил себе, как враз состарившаяся, совершенно седая женщина сидит под кровлей у своей печи. Бесцельно глядит она в потухший очаг, ведь, сколько ни пытайся развести огонь, – слезы зальют его. Она сидит, непричастная, чуждая жизни, и разоговаривает с сыном, уже без надрыва, без видимого отчаяния укоряет она его: «Что же ты наделал, сынок?» И в шорохе листвы, в шуме ветра ей чудится родной единственный голос, слышатся слова утешения…
Так и не вернулся к Жамбику утраченный в тот страшный день покой. Не может подолгу заснуть ночами, а когда засыпает, видит во сне сына Хавы или Жанарали.
Юноша из последних сил подпирает падающую башню, его ноги засыпаны камнями. А Жанарали кричит… Кричит долгим одиноким криком – он зовет на помощь, просит, чтобы не оставляли его одного на поле боя.
Жамбик открывает глаза, возглас горького отчаяния вырывается из его груди.
Между тем рассвет властно рассеивает тьму, и уже кое-где над домами курятся синеватые дымки. Ночь исчерпала себя. Жамбик одевается и выходит из теплого дома. Он поднимает воротник тулупа, по глубокому снегу идет к сараю. Отыскав стоящую у стены палку, выходит со двора. Он направляется туда, куда должен был пойти давно, сразу после землетрясения. Но, видно, нужна была эта долгая зимняя ночь, чтобы путь прояснился.
Тропа бежит вниз по склону, и ноги словно сами несут Жамбика. Пробравшись по занесенному снегом оврагу, он взбирается в гору. Теперь он идет трудно, часто останавливается, вдыхая студеный воздух. Каменистая тропа обледенела, и ноги скользят. Но Жамбик не смотрит вниз, он глядит прямо перед собой, делая шаг за шагом. Вот наконец и старый, хорошо знакомый орех, намертво вцепившийся корнями в крохотный клочок каменистой почвы. Жамбик прислоняется к нему спиной. Восток уже совсем светел, и линия горизонта вот-вот окрасится розовым. Жамбик пристально смотрит, находит взглядом свой дом. Жена встала – над крышей его дома тоже струится дымок. Жамбик вспомнил дочь, внука, и на душе стало теплей. Он снова идет вверх. Медленно, осторожно. Ему нельзя оступиться. И вдруг он понимает, почему в зимний день вспомнился ему стог свежескошенного сена, унесенный смерчем. Вот так же, как этот стог, исчезла и эта башня света, башня его чести…
Он всматривается в расступающийся мрак. Нет, не видно башни… Но он дойдет до развалин и посмотрит, что там случилось. А весной, когда растает снег и подсохнет земля, он вернется сюда с односельчанами, с теми, кто захочет пойти. Кто-то будет подносить камни, кто-то – мешать раствор, а он, Жамбик, должен из этой бесформенной груды камней сложить башню. Конечно, прежнюю башню уже не возродишь… Но все-таки, пережив многое, одолев эту бесконечную ночь, он верит в это. Потому и идет, отдыхая через каждый десяток шагов, по обледеневшей тропе вверх, к развалинам башни.
1985.
[1] Турпал – богатырь, герой.
2Тола – жилище наподобие землянки.
3 Нана – мама.
4 Маккал (маккхал) – коршун.
5 Сискал – лепешка из кукурузной муки.
Перевод А. Смородиной.
Идти, не сбиваясь с этого пути…
I
Яблоня и груша, растущие перед маленьким домиком с побеленными стенами, зацвели к весне, среди кипенно-белых цветов груши ярко выделялись бело-алые цветы яблони. В воздухе стояло непрерывное жужжание пчел, кружащих вокруг цветущих деревьев, неустанно собирая нектар.
На длинной, со спинкой, скамейке, стоящей под грушей, сидел старик Тайба. Рядом стоял его сын Хаваил. Отец был несколько полноватым, выше среднего роста, смуглолицым мужчиной, на щеках – короткая седая борода, он не брил, а остригал ее ножницами. Сын же, напротив, был высоким и худощавым, на светлой коже особенно выделялись черные глаза и брови.
Отец говорил:
– Неизвестно, сколько мне осталось жить, сын. После меня у тебя нет старшего, чтобы помочь советом. Поэтому слушай меня внимательно и не забывай мои слова…
– Я слушаю, отец…
– Ты не слушаешь: хотя тело твое и находится здесь, мысленно ты далеко отсюда, вон там, у родника, – недовольно сказал отец.
Лицо сына покрылось краской смущения, он был удивлен: откуда отец мог знать, что у него на сердце, ведь Хаваил на самом деле душой был там, у Ламан-шовда (видя, как, выходя, девушка открывает калитку, он дожидался, когда она, живущая неподалеку от родника, придет туда по воду)…
Юноша, смутившись, опустил глаза.
Он стал задумываться над словами отца, и неожиданно обратил внимание на часто повторяемое им: «Когда меня не станет…» Осознав истинный смысл этих слов, он растерялся, испугался, забыл о цветущей весне, о жужжании пчел, ему захотелось крикнуть: «Отец, отец, не оставляй меня здесь одного! Что я буду делать без тебя? Я не буду рад ни звенящей весне, ни опадающим с деревьев белым лепесткам…»
Хаваил опустил к земле глаза, полные слез. До его сознания стали доноситься слова отца:
– Бойся запретного как огня… Как бы ты ни суетился, стремясь к обогащению, не отличая дозволенное от запретного, помни: земных благ ты получишь лишь столько, сколько предписано тебе Богом… Береги свою честь – потерянную честь не восстановить! Всегда трудись честно. Обрати внимание на этих пчел – они все время в трудах. С деревьев, с цветов каждая пчела по мере своих сил собирает нектар. Понемногу улей наполняется медом. И, если ты будешь честно трудиться, не пытаясь все сделать в один день, и богатство накопишь, и уважение среди людей обретешь… Ты слушаешь?
– Да, отец, слушаю, – ответил сын, не поднимая головы.
Хаваил как-то странно, остро ощущал парадоксальность этой жизни: с одной стороны, весна, с кружением белых лепестков, с взыгравшей молодой кровью, с бурными потоками тающего снега, с черноглазой, постоянно влекущей к себе девушкой, а с другой – старость отца, его приближающийся закат…
«Отец! Отец! Тогда, в моем детстве, все было не так… Помнишь, мне было пять лет… Ты ставил перед собой меня и моего ровесника – соседского мальчишку Ваху… Как и сейчас, ты сидел на этой скамье… И заставлял нас бегать наперегонки… На старте ты меня слегка придерживал… Я обижался – ты смеялся… В следующий раз ты придерживал Ваху… Он обижался – ты опять смеялся… Смеялся… А сейчас ты не смеешься, отец…»
– Ну, давай, иди по своим делам, мне надо готовиться к молитве, – Тайба, опираясь на трость, тяжело поднялся. Но, не сделав и двух шагов, упал, выронив трость.
– Отец! Отец! – заметался вокруг него Хаваил.
На крики сына прибежала и его мать Хазан – очень худая, легкая как перышко старуха.
Они вдвоем подняли Тайбу и, занеся в дом через открытую веранду, уложили на нары. У него из носа двумя струйками безостановочно шла кровь. Хазан не успевала ее вытирать. Хаваил позвал старика соседа, а сам побежал в центр села за врачом. Когда вернулся с врачом, старик Ауд читал Коран, сидя у изголовья Тайбы, а Хазан меняла салфетки: кровь, хоть и не так интенсивно, но все же шла. Врач, тихо поздоровавшись с присутствующими, стал измерять пульс больного, затем послушал его сердцебиение… Через некоторое время он, взглянув на Хаваила, сказал:
– Из-за высокого давления крови лопнули капилляры в носу… Это очень хорошо… Если бы лопнули сосуды в мозгу, беды бы не удалось избежать… Скоро ему полегчает…
Ауд, сидевший с Кораном в руках и уже успевший прочесть «Ясин»,1 попрощавшись ушел, с каждым шагом сливаясь с вечерними сумерками.
Вслед за ним ушел и врач, оставив рецепт и предписание. Они оба исчезли, словно их и не было, а в этом доме и в сознании этих двух людей остались сказанные ими на прощание слова: «Да поможет Бог выздороветь Тайбе»!
Скоро пришедший в себя Тайба едва слышным шепотом спросил:
– Что это за шум на улице?..
А с улицы доносился весенний шум – в основном, кваканье лягушек, населяющих многочисленные болота вокруг этого села.
– Отец, это шум вечеринки, устроенной в честь тебя, когда ты молодым человеком съездил в Сората… Девушки поют песню… танцевальную песню под музыку и барабан.
Тайба слабо улыбнулся.
– Ты все шутишь, – прошептал он.
Светлым и сладостным был этот вечер. Хазан приготовила на ужин кашу, чтобы Тайбе легче было есть.
Хаваил окружил отца вниманием и заботой, помогая ему сесть, подкладывая ему за спину подушки.
Тайба едва притронулся к ужину. А потом он уснул…
II
Открыв дверь на веранду, Хаваил вышел в весеннюю ночь. Лягушки беспрестанно квакали. В небе виднелись полумесяц и редкие звезды. Ноги постепенно привели его к дому, где жила Кесира.
Они держали коров под навесом, рядом с хлевом… Их доили после наступления сумерек: коровы возвращались домой с пастбищ только после захода солнца.
– Не пришел к роднику – не приближайся и к навесу, тебя могут покусать волкодавы отца, – заметила Хаваила Кесира, несмотря на то, что сидела к нему полубоком.
– Если бы не мог усмирить волкодавов твоего отца и приручить ягненочка твоей мамы, разве подходил бы я к этим воротам? – вопросом ответил Хаваил.
– Пока ты будешь усмирять волкодавов отца, мамин ягненочек может убежать в другой двор, – закончив доить, Кесира повернулась к нему.
– Не такой уж и слабый волк, как ты считаешь, стремится стать зятем твоей мамы. Узнав, что ягненочек думает о другом, нежно, безболезненно схватив его зубами, быстро-быстро куда-то… куда-то… – запнулся Хаваил.
– Если волк оступится, то ягненочек может больно упасть, – тихо засмеялась Кесира.
– Быстро-быстро доставлю этого ягненочка на гору, где много цветов и нежной травы, где много чистых родников, – наконец сумел закончить свою мысль Хаваил.
– Оставь эти загадки, лучше расскажи, что случилось, почему сегодня впервые ты не смог прийти к роднику? Об этом говорит все село…
– Ты разве не знаешь, Кийса, что без уважительной причины я бы не остался?.. Отец заболел… Я ходил за врачом… Сейчас ему лучше… Я не упрекаю тебя… В чем твоя вина?.. Откуда ты могла знать?..
Хаваил успокаивал извиняющуюся Кесиру. Но он в этот же вечер почувствовал: Кесира, его златовласка, его ягненочек, его горная косуля, взрослеет быстрее него, она не может никого, даже его, ждать, единственный пропущенный им вечер она не перенесла, она торопится познать жизнь, у нее уже выросли крылья; сравнения, приводимые им Кесире до сих пор, сейчас уже не годятся, она – весенняя птица, соловей. Горную косулю не так трудно приручить, а птицу – в сотню раз трудней.
Хаваил шел домой сквозь звездную ночь и чувствовал боль и тоску, незнакомые ему до сих пор.
III
Солнечный весенний день. Поправляющийся Тайба сидел во дворе на стуле и смотрел на свой огород сквозь жерди ограды.
В этом году пахота запаздывала. Уже выросла зеленая бархатная травка, кое-где пестреющая цветами. До сих пор такого не было. Тайба всегда начинал пахоту первым, нанимая для этого коней и пахарей.
Он долго ждал этого дня, заранее готовил отборное посевное зерно, подвешивая его в мешке под крышей навеса, чтобы уберечь от мышей. Рано утром, после молитвы, он шел в огород. Читая про себя священные суры из Корана, обходил огород по меже и после этого, с именем Бога на устах, начинал разбрасывать зерно. Сразу же собирались стайки разных птиц. Приходила жена:
– Мужчина,2 какая польза от того, что ты разбрасываешь зерно, если эти птицы все выклевывают?
Тайба в ответ грустно улыбался.
– Ничего. Съедят лишь столько, сколько им дано, – отвечал он.
С восходом солнца приходили нанятые пахари. Начиналась пахота, а земля бывала влажной, черной. Птицы не улетали, на этот раз они, чирикая, собирали дождевых червей с уже вспаханной земли. К обеду огород был вспахан более чем наполовину. Пахари шли в дом пообедать и помолиться. Обед состоял из отваренных сушеных ребрышек барашка (специально для этого запасаемых Хазан) и галушек из кукурузной муки…
К чаю на стол ставили толокно с маслом и мед. За непринужденной веселой беседой, сопровождавшейся шутками, угощаясь чаем с медом, отдыхали Токказ и Мохамбек – оба были веселого нрава… Токказ постоянно шутил, смеялся, а Мохамбек молча улыбался, изредка вставляя слово. Но шутил он метко и к месту. Сейчас их нет, оба умерли, и ушло веселье, тепло взаимоотношений. Тайба остался один, а с ним – и смерть, и страх неизбежности предстать перед Богом…
Пока Тайба сидел погруженный в свои размышления, наступило обеденное время, Хаваил и его товарищ, отпустив стреноженных коней пастись, вошли во двор.
– Отец, наступило время молитвы, – сказал Хаваил.
– А-а? Время молитвы? Хорошо.
Помолившись, Тайба вернулся во двор и сел на свое место.
Тайба чувствовал изменения, происходившие в душе: раньше, увидев пласт свежевспаханной земли, у него улучшалось настроение, взяв в руку горсть земли, перебирая ее пальцами, он проверял влажность. А сейчас эта земля рождала в сердце смутный страх, ему тяжело ее видеть… Предстоит уйти в эту землю. Когда? Когда бы то ни было, но это близко.
Тайба еще сидел на своем стуле. Хаваил и его товарищ вновь запрягли коней и продолжили пахоту. С каждым кругом зеленый островок в центре огорода уменьшался, зелени становилось все меньше и меньше, а чернота увеличивалась. В конце концов лужайка стала столь маленькой, что ее не хватало на круг для лошадей, они копытами вытаптывали нежную траву, смешивая ее зелень с чернотой земли.
Тайба сравнил поросший травой огород со своей жизнью. Раньше она была безгранична, а теперь уменьшается с каждым часом. И черная земля, уменьшая ее, сжимается все теснее и теснее, когда-нибудь она скроет под собой и его жизнь, и его самого. Как же это тяжело – уйти под землю, оставив этот мир, принять смерть.
Тоскливо стало на душе у Тайбы, он не видел ни заходящего солнца, висящего над вершинами хребтов, ни белых, словно слепленных из снежинок, облаков, плывущих по небу, ни их темных теней, стелющихся по земле, не слышал ни ржания лошадей, освободившихся от хомутов, ни звонких криков детей, собиравшихся на окраине села. Покружив по двору, повернувшись спиной ко всему этому, Тайба вошел в дом.
IV
– Конечно, знаком, как не знать Тайбу? Мы же вместе очень хорошо жили в Мартане, когда учились в медресе Хакима. Вернее, под предлогом учебы весело проводили время. Юность такова. В юности кажется, что весь мир создан для тебя, радуешься всему… Проходи, присаживайся, – говорил старик Уса, усадив Хаваила на почетное место и сам опускаясь на нары.
– Говоришь, нездоров мой брат-мусульманин… Чем же он заболел? – черные глаза старика уставились на гостя.
– Да, болен… Тоска у него, постоянно думает о смерти, говорит о ней…
– В таком случае сейчас совершу предмолитвенное омовение и тронемся в путь…
Старик завел машину. Автомобиль был старый, сейчас такие и не выпускают. «Эта машина хотя бы доедет, дорога же в горы?» – подумал Хаваил.
– Несмотря на изношенный вид, мотор у этого агрегата сильный, – сказал Уса, словно угадав его мысли. А потом всю дорогу молчал, думая о чем-то своем.
Приехав, они застали Тайбу сидящим на веранде.
– Ассалам алейкум, – поздоровался с ним Уса.
– Ва алейкум салам… Уса, ты что ли?.. – тяжело встал Тайба.
Старики пожали друг другу руки, обнялись, притихли.
– Эх, Тайба, увы!
– Да уж, Уса…
– Эх, мир, увы!..
– Увы, прошедшее время…
Из глаз Тайбы хлынули слезы, он плакал молча, печально, губы его дрожали. Уса громко, как-то странно смеялся.
У Хаваила похолодело сердце: он никогда не видел отца плачущим, даже не думал, что такое возможно, и он никогда не слышал, чтобы старик так странно смеялся…
Уса раньше пришел в себя, отвернувшись к окну, он тайком смахнул свои слезы. Хаваил понял его: он смеялся, чтобы не заплакать.
– Алхамдуллиллах! Хвала Господу. Хватит, Тайба! Хватит! Мы же ведем себя недостойно перед этим юношей… Как мало мы думали там, в Мартане, в медресе, что мы с тобой так состаримся, когда со словами: «Мать, торопись, мы спешим», – собирали подаяние для школы или в стихотворной форме писали девушкам записки, – заговорил Уса.
Тайба, плача, опустив голову и дрожа всем телом, махнул рукой:
– Это прошло… Все прошло… Было бы лучше, если бы я тоже ушел…
– Уйдем и ты, и я, и все в свой срок… Нельзя переживать до срока… Ты же это лучше меня знаешь… Да приветствует его Аллах, пророк сказал: «Молись, как будто умрешь завтра, живи, словно никогда не умрешь», – произнес Уса, не сводя глаз со своего друга.
– Конечно, я это понимаю… Но все же сердце гложет постоянная тоска… Тоска смерти… В этом мире для меня не осталось другого вкуса, кроме горького, – продолжил Тайба, тыкая в пол тростью.
– Да, да, знаю я эту болезнь. Джинны тебя преследуют, делая твою жизнь горькой… Надо избавиться от них… Сейчас мы начнем лечение. Мне сначала… нужен будет камыш… и еще семь вещей: сера, овес, пшеница, уголь, свинец, железо, медь. Ты собери все это, Хаваил… Также нужны будут два гвоздя для конских подков… и марля, чтобы обернуть ею камыш. Пока ты будешь это собирать, я начну другое лечение… Сначала, Хаваил, зарежь черную курицу…
Хаваил вышел, чтобы выполнить это поручение.
Вошедшая в это время Хазан почувствовала себя очень неловко: она не смогла встретить гостя у ворот – ее не было дома, когда он приехал, Хазан ходила по воду.
– Добро пожаловать! – приветствовала она гостя. Потом расспросила о житье-бытье, здоровье, работе, семье.
– Алхамдуллиллах! Хвала Богу… Хорошо живем! Если Аллах и дальше будет милостив… Оказывается, мой брат приболел… Но все же тебе нельзя слишком переживать. Выздоровление в руках Всевышнего, а мы будем стараться помочь, – сказал Уса. – А сейчас, Хазан, принеси в блюдце муки… немного, чтобы хватило на пару лепешек…
Хазан ушла за мукой, а Уса, присев на нары у окна, вытащил из черной матерчатой сумки священную ученую книгу крупного формата на арабском языке и начал читать.
Тайба полулежал, опираясь спиной на подушки и прикрыв глаза.
– Странно все-таки…
– Что странно?
– С тех пор, как ты вошел в этот дом, моя тоска заметно ослабела…
– Милостью Бога, уйдет насовсем… Во имя Бога Милостивого, Милосердного! – начал замешивать тесто Уса, не переставая читать про себя священные аяты из Корана.
Тайба удивленно наблюдал за ним, не понимая, что он собирается делать. Уса слепил из теста некое подобие человека: круглая голова, тело, две руки, две ноги.
В это время Хазан занесла зарезанную Хаваилом черную курицу. Уса смочил кровью курицы куклу из теста в трех местах. Потом, обращаясь к Хазан, сказал:
– Курицу отдай нуждающемуся, пожертвуй за Тайбу. А сейчас принеси марлю, чтобы завернуть куклу.
Хазан быстро принесла марлю.
– Эту куклу зовут Тайба… Тайба умер, сейчас мы завернем его в саван. Его надо похоронить на кладбище. Во имя Бога Милостивого, Милосердного, – продолжая что-то шептать, Уса начал заворачивать куклу из теста в марлю.
У Тайбы, наблюдающего за ним, по седой бороде скатились две слезинки. Хазан тоже оторопело замерла. Тут вошел Хаваил. Увидев на столе завернутую в марлю куклу, растерялся. Видя его состояние, Уса сказал:
– Не задавай вопросов… Это Тайба. Он умер. Возьми его, отнеси на сельское кладбище и похорони в каком-нибудь уголке, вырой яму глубиной с рост куклы.
Хаваил ушел выполнять это задание.
Уса начал писать на камышовой тростинке, часто макая перо в чернила. Его арабские письмена ложились каллиграфически ровно, словно след муравья на влажной земле. Закончив писать, он взял полоску марли и проткнул гвоздем один ее конец, а потом этот же гвоздь воткнул в один конец тростиночки, полностью обмотав ее полоской марли. И, проткнув вторым гвоздем свободный конец полоски, прикрепил ее к другому концу тростиночки.
Пока Уса совершал эти приготовления, вернулся Хаваил. Уса вручил ему камышовую тростиночку, завернутую в марлю:
– Отнеси ее на перекресток четырех дорог, вырой яму глубиной в две пяди и закопай… До того, как засыпать землей, с именем Бога на устах, брось на тростиночку эти семь вещей: серу, овес, пшеницу, уголь, свинец, железо, медь. Потом разбей над всем этим яйцо, при этом скажи, чтобы болезнь Тайбы ушла от него, разбившись, как это яйцо.
Хаваил вновь вышел. Перекресток был и в центре села. Но он не хотел, чтобы его видели люди, поэтому окольными тропами вышел на окраину села. Там, у самой опушки леса, находился еще один перекресток.
Вернувшись оттуда, Хаваил задержался у дверей, услышав веселые голоса стариков.
– Конечно, Тайба, тогда было очень хорошее время, во всем находили радость. Помнишь, когда учились в медресе, в Мартане, мы написали письмо ученикам медресе Новые Атаги: «Зачем вы глубоко шарите кусками чурека в подсоленной прозрачной сыворотке, хотя видно, что в ней ничего нет?»
– Конечно, помню, – улыбнулся Тайба. – Даже помню их ответ: «Надеемся на милость Божью, может, и найдем кусочек творога».
– Веселое было время, хотя и нелегкое… Сейчас живется легче, а веселья меньше… – говорил Уса.
– Это потому, Уса, что наше время ушло. Молодым и сейчас весело, – отвечал Тайба.
– Сын, по-моему, послушный у тебя, – сменил тему Уса.
– Это верно…
– Когда ребенок послушен родителям, это великое благо, Тайба… Давным-давно (мы были еще маленькими) в гости к отцу приехали очень благородные старики. В процессе беседы один из них задал вопрос о трудности в этом мире, столкнувшись с которой мужчине тяжело будет ее пережить. Один сказал: «Для мужчины тяжелее всего на этом свете потерять жену и остаться одному с малыми детьми».
– Правильно, – кивали головами присутствующие.
Но через короткое время другой старик сказал:
– А мне кажется, что тяжелее всего, когда мужчина теряет взрослого сына и остается без наследника… – Присутствующие согласились и с этим утверждением.
И тут заговорил седобородый старец, молчавший до сих пор, перебирая четки:
– Все, что вы сказали, действительно тяжело, но мне кажется, что тяжелее всего, когда сын, которого он вырастил, не слушается отца и поступает вопреки его воле.
– Ты прав, – единодушно согласились с ним все. И в этой истине я убедился сам, Тайба, – сказал Уса.
– Почему ты так говоришь, Уса?
– Да потому, что два моих сына мотаются по всему свету. Изредка присылают деньги и приветствия… А зачем мне нужны их деньги, если их не бывает здесь в горе и в радости?
– Исправятся они, Уса. Сын, как бы далеко ни ушел от отца, все равно возвращается к своим корням, – говорил Тайба.
Обрадованный услышанным, Хаваил, войдя, остановился у порога. На расстеленной на полу поверх ковра скатерти лежала снедь: чурек, сливочный соус, толокно, чай из душицы с молоком.
Как радовалось сердце Хаваила этой картине: его отец, как когда-то, сидел, ведя непринужденную беседу за трапезой со своим сверстником-стариком.
После предзакатной молитвы, когда солнце уже стояло низко над горами, Уса попрощался. Тайба далеко проводил его и стоял, пока машина гостя не скрылась за поворотом. Обернувшись, заметил у себя за спиной Хаваила и Хазан, пристально наблюдающих за ним.
«Что они так пристально смотрят на меня?» – подумал Тайба. Потом понял сам: за три месяца болезни он впервые вышел за ворота, незаметно для себя перейдя границу, обозначенную для него неизвестными силами.
V
Струя родника, вытекая из керамической трубы и ударяясь о гладкие плиты, разлеталась на тысячи серебряных брызг. Около часа назад солнце зашло за горы. В это время Кесира ходила по воду. Со двора Тайбы прекрасно был виден и дом, и улица, где жила девушка. Их деревянная калитка, если не придержать рукой, захлопывалась с громким стуком. И этот стук эхом отлетал от гор, тянущихся за домом Тайбы.
Впервые Хаваил обратил на это внимание еще в школе, в четвертом классе. Он и его товарищ Ваха, возвращаясь из школы, останавливались у калитки дома Шаамана (отца Кесиры) и начинали кричать: «Эй! Эгей!» Нет, кто-то один кричал: «Эй!» Потом оба прислушивались. Через мгновение в ответ слышалось эхо: «Эй!» Ваха: «Хаваил!» Через миг в ответ: «Хаваил!» Потом они начинали перечислять по очереди все слова, которые приходили на ум: «Мушмула!» В ответ звучало: «Мулла!» «Крапива!» – «Пива!», «Волк!» – «Волк!», «Космонавт!» – «Онавт!», «Лягушка!» – «Гушка!», «Мяч!» – «Мяч!», «Гав-гав!» – «Гав-гав!»…
Они бы долго так стояли, если бы каждый раз Шааман или его жена Кебират не прогоняли их палкой, крича, чтобы они искали себе другое место для лая.
Мест было немало и в селе, и за селом, но они не знали другого, где было бы такое же звонкое эхо. Поэтому всегда по дороге в школу или домой останавливались у калитки Шаамана, чтобы хоть несколько раз крикнуть и послушать отклик эха. Так продолжалось несколько лет, а потом, повзрослев, перестали.
Но они продолжали ходить мимо этого дома, ведь в нем росла красивая девушка Кесира. Оба были влюблены в нее, и поэтому оба были подчеркнуто вежливы с ее родителями.
Хаваил услышал, как однажды Шааман спросил у жены:
– Что с этими двумя, они стали так вежливы?
– Как бы ни было, хорошо, что вежливы…
– Хорошо-то хорошо, а вот с чего бы это?
– Если вырастает красивая дочь, то и улицу знают, – засмеялась Кебират.
– А-а, вот оно что!
– Не хватало мне иметь зятя из этих двух, лаявших собаками у наших ворот.…
Последние слова Кебират кольнули сердце, но не ослабили любовь к ее дочери. У Вахи был такой же, как у Хаваила, вкус: он тоже стал ухаживать за Кесирой.
– Это как? Мы же с тобой друзья, – удивился Хаваил.
– Наши предки советовали не уступать девушку даже родному брату, – прозвучало в ответ.
– Я-то говорю на всякий случай, вдруг ты обидишься, когда я заберу этого ягненочка к себе домой…
– Это посмотрим… Девушка принадлежит тому, кто ее завоюет, – улыбаясь, опять привел пословицу Ваха.
Этот разговор между друзьями состоялся, когда, встретив зарю на окраине села после школьного выпускного вечера, они шли домой.
Девушка все еще училась в школе – в девятом классе… Как быстро пролетит этот год! Хаваил-то хотел жениться на ней, не дожидаясь, пока она окончит учебу, но Кесира так не торопилась. Правда, она была не против дружбы с ним и даже дала предварительное согласие. Несмотря на это, Ваха не собирался отступать. По этому поводу он тоже привел пословицу – даже не пословицу, а целую притчу: «Однажды царская дочь отдыхала у окна. Она заметила: на улице несколько кобелей гоняются за собакой… Один из кобелей хромал, и остальные псы отгоняли его. Глядя на хромого пса, принцесса сказала:
– Не отступай! Если будешь упорным, добьешься цели.
Эти слова услышал один бедный молодой человек. Он был влюблен в царскую дочь, стал следовать услышанному совету и, упорно преследуя свою цель, добился руки и сердца принцессы».
– Ты, как Мулла Насреддин, всегда найдешь, что ответить, – сказал ему на это Хаваил.
Ваха промолчал. В тот год он отправился на сезонные работы в Сибирь вместе с бригадой «шабашников». Хаваил хорошо понял тактику Вахи: хочет купить любовь за деньги. Но получится ли? Пока он будет бегать за длинным рублем…
Дождливая весна, знойное лето и теплая осень пролетели незаметно.
И однажды ясным осенним днем (уже три дня, как опавшая листва оголила деревья) Ваха вернулся в село на белых «Жигулях». Это стало большим событием для сельчан: «Говорят, Ваха приобрел машину!» Во всем этом маленьком селе не было и десятка частных автомобилей, и одним из таких автовладельцев стал Ваха.
Было утро первых заморозков, когда пришедший к роднику Хаваил застал там друга на новеньких «Жигулях». Поставив машину у родника (из салона лилась тихая музыка), Ваха разговаривал с Кесирой.
Сердце Хаваила кольнула боль, и он даже разозлился, словно кто-то отнял у него вещь, действительно ему принадлежащую. Но он совладал с собой. Сделал вид, что очень обрадовался встрече:
– Ассалам алейкум, гость издалека! Что ж ты так рано встал?
– Ва алейкум салам, сын достойных родителей! Слышал я как-то: кто рано встает, тому Бог подает. И, надеясь на это, поднялся на рассвете, когда звезды гасли… Теперь мое время прошло, я собираюсь покинуть вас, оседлав своего скакуна, чтобы путешествовать по миру… Счастливо всем оставаться! – сел в машину Ваха.
– Счастливого пути! И чем дальше отъедешь, тем счастливее он да будет, – крикнул Хаваил ему вослед.
Ваха рванул машину с места с пробуксовкой, словно стремился поднять ее на дыбы.
Прекрасная Кесира слушала их, улыбаясь. Когда автомобиль скрылся за поворотом, она сказала:
– Кого он хочет удивить своей машиной?
– То-то же… машин на свете много… а этот родник только один.
– И наша сказка тоже только одна.
– Конечно.
– Расскажи ее.
– Не надоела она тебе?
– Она мне никогда не надоест.
– Правда ли… говорят, что мнение девушек меняется так же быстро, как погода весной?..
– Это не обо мне… Расскажи нашу сказку…
– У старых родителей была единственная дочь, – начал, как всегда, Хаваил.
– У нее не было ни братьев, ни сестер. Она скучала. Ей очень хотелось иметь белоснежного козленочка – козлика с белоснежным пухом, – продолжила Кесира. Они всегда рассказывали эту сказку так, перехватывая друг у друга.
– И однажды единственный сын одинокой матери привел откуда-то с высоких гор белоснежного козленочка. Он купил этого козленочка у чабана, пасущего отару на зеленых альпийских лугах, заплатив ему пуд серебра и фунт золота.
– Однажды козлик, выбежав через оставленную кем-то открытой калитку, убежал в лес и потерялся.
– Девушка впала в тоску, переживая за козленочка: волки ли съели, в пропасть ли упал?
– И тогда отец девушки объявил, что выдаст свою дочь за того, кто найдет и вернет козленочка.
– И молодые люди отправились на поиски козленочка.
– Но нигде не могли его найти. Его нашел единственный сын одинокой вдовы. Испугавшись волка, козленочек залез на высокое деревце на самом краю пропасти. «Чухи, чухи», – позвал его юноша. «Бе-е», – откликнулся козленочек. Юноша вернулся с козленочком. И прекрасная девушка, единственный сын и белый козленочек стали жить втроем.
Эту сказку Хаваил рассказал Кесире пять лет назад. В то весеннее утро Хаваил догнал Кесиру по дороге в школу. Он, как всегда, произнес шуточную скороговорку:
– Кесира-Сира.
Ваш ослик серый!
Она не ответила по обыкновению:
– Хаваил-ил-ил…
А где ты жил-был?..
Молча, опустив глаза, шла она впереди. Когда Хаваил дернул ранец за ее спиной, она вновь промолчала, даже не оглянулась. Удивленный, Хаваил забежал вперед и пристально взглянул ей в лицо: девочка плакала беззвучно, безудержно.
Ему стало очень ее жаль, возникла мысль: «Как же обидели ее мои слова!»
– Почему ты плачешь?
В ответ – молчание.
– Больше я не скажу…
Она опять промолчала.
– Тогда ты скажи на меня, что хочешь… – не отставал он.
– Папа с мамой не рассказывают мне сказку… А учитель задал сказку… Сегодня должна ответить… – наконец поведала о своем горе девочка.
– А-а, и всего лишь? Сказку я тебе расскажу…
И тут же, сочиняя на ходу, Хаваил поведал ей сказку о белом козленочке. А Кесира получила в тот же день «пятерку». С тех пор они часто вспоминали эту сказку, она сблизила их, зародив в сердце тягу друг к другу, желание часто встречаться.
Прошло полгода с тех пор, как состоялся разговор у родника. Ваха был в Сибири на «шабашке» уже два месяца. Приезжая домой, он ежедневно встречался с Кесирой, как бы она его ни принимала.
– Зачем ты зря стараешься? – спросил у него Хаваил.
– «Если семь раз встретиться с любимой девушкой, ее мнение не может не измениться», – говорит старец Жагаш.
– Ты-то, наверное, встретился уже семь тысяч раз… Ха-ха-ха… Какие-то изменения заметил? – засмеялся Хаваил.
– Кое-какие изменения есть, – не сдавался Ваха.
Эти слова задели Хаваила за живое. В сердце родилась тревога: «Может, что-то происходит?» Надо действовать решительнее. «Оставшаяся на ночь каша к утру научилась говорить», – так думал Хаваил, подходя к роднику.
Сливы уже отцвели, зелень в лесу стала гуще. Вслед за весной торопилось лето.
Ему показалось, что Кесира не такая, как прежде. Она стала какой-то тихой, словно скрывала что-то. Видя ее такой, ему еще больше захотелось забрать Кесиру, исполнив тем самым почти ежедневную просьбу матери.
Но не говоря ей об этом прямо, он начал читать речитативом строчки из одной народной песни:
Послушай меня,
Моя любимая,
Свой утренний сон
Хочу тебе поведать:
У вашего дома
Я старцев увидел…
Эту песню знала и Кесира, ее можно было петь двояко: если парень девушке нравится, то одним образом, если нет – по-другому.
Кесира улыбнулась и ответила:
Добро предвещает –
Руки моей попросят.
Хаваил прочел дальше:
У вашего дома
Увидел я юношей.
Кесира:
Добро предвещает –
Свадьбу сыграют.
Хаваил:
У вашего дома
Варились котлы.
Кесира:
Добро предвещает –
Торжества состоятся.
В голосе Хаваила чувствуется тревога:
В кунацкой кромсали
Белые ткани.
Черные подозрения юноши Кесира окончательно рассеивает:
Добро предвещает –
Мне сошьют свадебный наряд.
– Если это так, – сказал Хаваил, – мы должны воплотить мой вещий сон в жизнь. Определи день нашей свадьбы.
Кесира долго стояла, глядя в землю, потом от души захохотала. Он впервые видел ее так звонко смеющейся… Ее смех – брызги родниковой воды, разбивающейся о камни.
– Знал бы, что тебе станет так весело, предложил бы раньше, – засмеялся и Хаваил.
– Конечно, это весело. Но все же не торопись… Я же еще не окончила школу…
– Осталось два месяца… Ты должна определить время свадьбы после выпускного вечера.
– Быстрая река до моря не дошла, говорится.
– Ты начала отвечать пословицами, как и мой друг Ваха.
– А разве не так?.. Я спокойно окончу школу, а ты тем временем подумаешь о необходимом для нашей совместной жизни…
– Ты же говорила, что ничего не нужно, кроме нашей сказки…
– Я и сейчас это говорю, но мама…
Хаваил, попытавшийся что-то сказать, умолк на полуслове.
Они оба молчали довольно долго. Виновато улыбаясь, Кесира разглядывала брызги воды, разбивающейся о камни, словно видела их впервые.
– Смотри, как они прекрасны…
– Что?
– Эти брызги в лучах заходящего солнца…
– Они бывают прекрасны и в лучах восходящего солнца…
– Не так красивы…
Опять наступила тишина, наконец, улыбаясь, Хаваил сказал:
– Научилась говорить…
– Я давно научилась говорить, – обиделась девушка.
– Я не про тебя, Кесира, – вновь улыбнулся Хаваил, – я про кашу.
– Про какую кашу?
– Про оставшуюся на ночь кашу… Если оставить кашу на ночь, к утру она научится говорить…
– Что?
– Это чеченская пословица… Думаешь, пословицы знаешь только ты?
– Ничего я не думаю, – взяв свои ведра, она ушла, не оглянувшись ни разу.
Хаваил стоял, пока не услышал громкий стук захлопнувшейся калитки.
Пытаясь упорядочить разбегающиеся мысли, он до самых сумерек бродил по безлюдным окраинам села. Потом стал анализировать свое сознание, пытаясь понять причину смятения мыслей.
Внешне ничего не было заметно, но терзало предчувствие: Кесира изменилась. Их союз, казавшийся ему раньше надежней камня, не так уж и нерушим. Он с каждым днем слабел на глазах и, если так будет продолжаться, грозил рассыпаться в прах. А в мутном стремительном потоке трудно ловить рыбу руками, даже пойманная выскакивает из рук. Однажды, будучи в горах гостем, он пытался таким образом ловить рыбу. Его друг Докка хорошо справлялся с этим, а у него рыба ускользала из рук. Докка смеялся, говоря, что Хаваил и счастье будет ловить так же. Потом они, собрав хворост, разожгли костер и зажарили рыбу на углях…
Неужели она собирается выскользнуть из его рук, как тогда эти рыбы?
Если это так, то в ответ на его слова: «У вашего дома я старцев увидел…» – она должна была сказать: «Горе предвещает – мою смерть предрекает». Но она не сказала так, она ответила по-другому. После этого на слова: «У вашего дома я юношей видел», – она не сказала: «Горе предвещает – мою смерть предрекает». Когда он вновь упомянул о белой материи, не сказала: «Горе предвещает – мне саван готовят». Если бы захотела, могла же она сказать в конце, когда речь зашла о варящихся котлах: «Горе предвещает – меня поминают». Но она и этого не сказала. Да, хотела бы прекратить с ним всякие отношения, ответила бы так. Тогда, выходит, каша не очень бойко научилась говорить, но процесс уже начался.
Он до самой темноты бродил, не возвращаясь домой. Спустившись по руслу речки, углубился в лес. Быстро стемнело так, что хоть глаз выколи. Чтобы не заблудиться, он вернулся. Увидев отражение звезд в прозрачной воде речки, успокоился: кроме леса и мрака, есть еще и звездное небо.
VI
Прошло два месяца, как Хаваил приехал сюда, в один из районов Омской области. Мысль поехать на «шабашку» у него возникла впервые в тот весенний вечер, после разговора с Кесирой…
Ему бы это и в голову не пришло, если бы мать, услышав от него содержание беседы с Кесирой, не сказала:
– Конечно, сын, трудно найти девушку, которая не соблазнилась бы богатством. Может, и тебе поехать на заработки в Сибирь? А вдруг ты тоже сможешь заработать, как люди.
Похоже, мать была права, но сезонные рабочие уже уехали. Ему, покинувшему родное село за всю жизнь лишь несколько раз, трудно было уехать на край света и устроиться на работу среди чужих людей.
И все же судьбой ему было предназначено приехать сюда в этом году. Их односельчанин Эмир, уехавший на заработки, вернулся домой по какому-то делу. Ему требовался еще один рабочий, и Хаваил отправился с ним. Правда, он пожалел об этом еще в начале пути, когда Эмир предложил ему спрятать папаху в чемодан, чтобы не шокировать людей. Парень очень удивился, когда Эмир предложил ему такое. Но ответил достойно: «Не то что эти люди, даже если весь мир от удивления будет стоять на карачках, я папаху не спрячу».
Приехав после недельного путешествия по железной дороге к месту работы Эмира, Хаваил еще больше пожалел об этом.
Какое-то время он никак не мог приспособиться к окружающей обстановке, у него кругом шла голова, он тосковал.
С Эмиром на заработках была его жена Дошубика, ее братья – Дарта и Далхад и их двоюродный брат Морис. Последние трое были молодыми людьми примерно одного с Хаваилом возраста. Они занимали одну комнату, а Эмир со своей женой жил в двух других. У них был мальчик лет пяти, очень одаренный, по словам Эмира, ребенок, который уже, несмотря на свой возраст, обыгрывал всех в шахматы. Правда, ни о чем не подозревающий Хаваил легко взял у него партию. Отец очень огорчился. Оказывается, другие работники специально поддавались «вундеркинду», чтобы порадовать его родителей. И те даже строили большие планы насчет будущего своего сына: к десяти-двенадцати годам, выиграв у А. Карпова, Г. Каспарова и других известных гроссмейстеров, их маленький Аламбек станет мировой знаменитостью и будет зарабатывать много денег для них… И вот Хаваил, приехав в своей высокой папахе, свел на нет все их красивые мечты…
Для него поставили койку в комнате с молодежью. Уже на второй-третий день он поссорился с Морисом. По правде говоря, Хаваилу он не понравился с первого взгляда, да и имя у него было какое-то странное. Морису в свою очередь странным казалось имя новичка. Об этом он сказал Хаваилу в лицо на русском языке:
– Откуда у тебя такое имя?
Хаваил разозлился на него:
– Что значит «откуда»? Отец нарек. Истинное чеченское имя. Лучше скажи, откуда твое имя?!
– Мое?! Мое имя интернациональное. Слышал про Мориса Тореза?
– Нет.
– Как не слышал? Известный во всем мире лидер коммунистического движения – Морис Торез. В честь него и назвал меня мой отец…
Неожиданно прекратив разговор, он захохотал, указывая на Хаваила пальцем.
– Что с тобой? – зло прикрикнул на него Хаваил.
Но тот укатывался со смеху, не обращая на него внимания. Дарта и Далхад, привлеченные хохотом, стояли, улыбаясь во весь рот. Наконец, насмеявшись, но еще показывая на Хаваила пальцем, Морис сказал:
– Вчера иду по центру села… Две телки меня останавливают… «Этот новенький – вождь вашего племени?» – спрашивают. Ха-ха-ха! «А почему вы так думаете?» – говорю я. – «У него такая высокая шапка. И он такой важный, ни на кого не смотрит…» – «Нет, – отвечаю, – он шаман нашего племени». Ха-ха-ха… Парень, хоть иногда гляди по сторонам, говорят, не мужчины не нужны и в раю… Ха-ха-ха. Ха… – Тут смех Мориса оборвал удар, пришедшийся в зубы. Хаваил сам не понял, как он ударил – как-то само собой получилось. Морис не упал, а ударился о стену. Потом он вцепился Хаваилу в горло, папаха последнего упала с его головы. Дарта и Далхад разняли их.
– Я отомщу за этот удар! – кричал Морис.
– Я отомщу за оброненную папаху! – наступал Хаваил.
Прибежавший Эмир примирил их: удар кулаком и оброненную папаху сочли равнозначным ущербом, и они подали друг другу руки.
Но с тех пор Хаваил не жил в этой комнате, из двух своих комнат Эмир уступил ему одну.
– Из-за него я должна ютиться, – словно специально для него, на повышенных тонах говорила Дошубика в соседней комнате. – Какого черта с ним возятся?.. Огородное чучело… Ходит в этой папахе на потеху людям.
– Тсс… Не шуми… Знаешь, кто его отец?.. Уважаемый не только в селе, но и во всем крае человек… Ради него нужно терпеть… Потерпи! Не выдавай своих мыслей…
Услышав этот разговор, Хаваилу захотелось вернуться домой, с рассветом тронувшись в путь. Но денег не было даже на дорогу. Надо было подождать хотя бы до первой зарплаты.
Однажды к нему обратился Далхад:
– Пойдем заберем выписанное нам мясо с совхозного склада.
Они принесли мясо. В тот день Хаваил не притронулся к мясному супу, съел бутерброды с чаем.
– Это не свинина. Будь она свининой, мы бы тоже не ели. Это говядина, – сказал Эмир.
– Не зарезана по мусульманскому обряду, – медленно проговорил Хаваил.
– Ага, не зарезана, это правда, – странно улыбнулся Эмир.
Остальным хватило его улыбки, они начали хохотать.
Хаваил злился, но терпел, пытаясь сдержать себя. В комнате нарастало напряжение, готовое вот-вот взорваться.
– Что с вами? – прикрикнул на них Эмир. Хоть это и родственники жены, иногда он по праву старшинства одергивал парней, но далеко не заходил.
Те затихли на короткое время. Но Хаваил видел, как эти трое с трудом сдерживают смех. Особенно мучился Морис. С куском во рту, пытаясь не расхохотаться, он раздулся, как мяч. Однако ничего не вышло: с фырканьем выплюнув изо рта кусок, он выскочил во двор и начал хохотать:
– Ха-ха-ха! Музейный Экспонат! – слышалось со двора.
Услышав это, следом выскочили и Дарта с Далхадом. Хохот раздался с утроенной силой.
– Я вам сделаю «музейный экспонат!» – грустно сказал Хаваил, поднявшись. Но в этот момент заговорил Эмир, и он вынужден был сесть.
– Хаваил, дорогой! Ты сын прекрасного человека, уважаемого и мной, и всем селом… И ты прав… Но время другое, оно изменилось. Это не Морис назвал тебя Музейным Экспонатом. Увидев тебя в чеченском национальном костюме, директор совхоза спросил меня: «Что это за музейный экспонат?» Этот костюм можно носить и дома…
Не переча ему, Хаваил вышел, разговаривая сам с собой: «Если жизнь моих предков – музей, то я согласен быть экспонатом в этой жизни… И ни перед кем не стыжусь этого…»
Прошла неделя, как Хаваил не притрагивался к мясному. Однажды утром он сидел у окна, перебирая четки после утренней молитвы, когда во двор заехал «УАЗик». Сошедший с него Эмир, открыв багажник, вытащил оттуда крупного барана.
– Хаваил! – окликнул его Эмир. Тот, положив на подоконник четки, вышел.
Из салона машины Эмир взял большой нож.
– На, зарежь этого барана… С этого дня будем питаться мясом животных, зарезанных по мусульманскому обычаю, – сказал он.
Хаваил, не говоря ни слова, развернул барана в сторону Каабы и приготовился его резать…
Дошубике и трем молодым людям это очень не понравилось. «Какого черта ему угождать?.. Мы что, должны потакать его прихотям?..» – слышал он часто. Но молчал из уважения к Эмиру, столь терпимо относящемуся к нему.
Однажды, глубокой ночью, в комнате молодых людей поднялся сильный шум: «Ай-вай! Будь проклят твой отец… твою мать! Гоп-гоп-гоп!»
Перед глазами прибежавшего на шум Хаваила предстала безобразная картина: в нижней одежде с окровавленными лицами Дарта и Морис остервенело лупили друг друга.
– Это моя телка, что ты крутишься возле нее, тварь?! – кричал Морис, засунув палец в рот Дарте и изо всех сил оттягивая его щеку.
– Она сама пристает ко мне, потому что ты слабак… – просвистел Дарта, пытаясь освободиться от захвата.
Тщетно пытавшийся разнять дерущихся, Далхад в отчаянии прокричал:
– Ребята! Если бы мы были сговорчивее, ее хватило бы на всех, прекратите драку!
Но те двое, не обращая ни на кого внимания, продолжали остервенело мутузить друг друга. И предмет их спора – «телка» – пышнотелая блондинка, довольная происходящим, возлежала на диване, улыбаясь во весь рот. Видимо, еще до начала ссоры она готова была принять любой итог этого «турнира».
– Перестаньте оба! – крикнул Хаваил. – Как вам не стыдно?!
Дерущиеся разошлись. Блондинка незаметно выскользнула во двор.
– Чем вы тут занимаетесь? Совсем стыд потеряли…
Далхад и Морис начали одеваться.
– Только не начинай теперь читать свои нравоучения, Экспонат Лувра… Мне не стыдно ни перед тобой, ни перед кем-то еще!.. – говорил Морис, застегивая брюки.
Хаваилу захотелось врезать ему. Такая мысль приходила ему в голову не впервые, и раньше неоднократно хотелось проучить его. Но каждый раз, хоть и с трудом, он сдерживал себя: где ссора, там и вражда. А как жить в одном доме с врагом, питаясь за одним столом?.. Но сейчас этих причин оказалось недостаточно, чтобы прощать ему, на этот раз он отведет душу. Он шагнул к Морису. В этот момент в ясном лунном свете Хаваил заметил, что в дверях упала чья-то тень. Оглянувшись, увидел Эмира в желтом ореоле лунного света.
– Хаваил, – окликнул тот его, – пошли, это нас не касается.
Хаваил вышел вслед за ним. Эмир, присев на скамью у ворот, закурил сигарету. Парень остался стоять рядом. Он видел, что Эмир хочет ему что-то сказать, поэтому задержался.
– Присядь, – предложил тот.
Хаваил остался стоять. Эмир предложения не повторил, начал говорить:
– Во всем виноват я. Если бы я заставлял их пахать, как ишаков, никого бы не тянуло ни на выпивку, ни на гулянки… Я привел бичей пахать вместо них и пытаюсь дать этим бездельникам возможность заработать копейку, полагая, что делаю добро… А они?.. – сплюнув в сторону родственников жены, он глубоко затянулся.
«Бичи», о которых говорил Эмир, были глубоко несчастными людьми, обретшими смысл жизни в водке, без дома, семьи и имени; они бродяжничали по вокзалам, иногда, если повезет, устраивались на сезонные работы. Трудились не покладая рук за трехразовое питание и выпивку раз в неделю. Эмир сказал, что ежемесячно он откладывает для каждого из них по сто рублей зарплаты, которую намерен отдать после окончания сезона: если выдавать им ежемесячно, пропьют, а ему чужого не надо, и он будет соблюдать условие устного договора с этими бедолагами.
В задачу же родственников входило следить за их работой и помогать по мере сил. Веселящиеся до рассвета молодые люди, братья Дошубики, не в состоянии бывали ни работать, ни контролировать что-либо, засыпая на ходу, целый день бродили, как сомнамбулы. Когда Эмир отлучался по делу, все заботы по руководству рабочими ложились на плечи Хаваила. Правда, он и трудился наравне с ними: лепил саман, делал кровлю, клал фундамент…
– Хаваил, это место, где многие теряют достоинство, – далеко отшвырнул окурок Эмир. – Многие чеченцы приезжают сюда, вроде, на заработки, а потом ведут себя безобразно: пьют водку, гуляют, увеличивая количество ублюдков… Не дело, если ты не у себя дома… Имея там хоть какой-то шанс добыть себе пропитание, нельзя сюда приезжать…
Коротко кашлянув, Эмир зашел к себе. Хаваил долго сидел, вслушиваясь в ночные звуки. Он сильно затосковал, захотелось домой: «Я копаюсь в грязи здесь, на краю света, а там, дома, идет настоящая жизнь. Надо ехать домой!»
На следующий день, после обеда, Эмир пригласил его к себе.
– Нам заплатили за два месяца, – сказал он, – твой заработок – тысяча пятьсот рублей.
Хаваил удивился: столько денег он не видел никогда в жизни.
– Не много ли?
– Сколько тебе положено.
Получив деньги, Хаваил отошел и задумался. У школьных учителей зарплата была только сто двадцать – сто тридцать рублей… Больше всех получал директор – двести рублей. А ему за два месяца заплатили тысяча пятьсот, в месяц это выходит семьсот пятьдесят рублей. Правда, он и работал от зари и до самых сумерек, прерываясь только на молитву и обед. Но все же, как ему казалось, этого недостаточно для того, чтобы заработать столько денег.
Тогда он взял ручку, листок и начал делать расчеты:
– Допустим, моя зарплата – двести пятьдесят рублей. За два месяца выходит пятьсот рублей… А-а… Деньги, потраченные на дорогу сюда (билет, еда), – сто рублей, на обратную дорогу – столько же, всего – двести рублей… Это максимальная сумма… Здесь на мелкие расходы ушло (белье, зубная паста, щетка и т. д.) сто рублей. В итоге, если сложить все это, выходит восемьсот рублей. Все остальные деньги – неправедные.
Хаваил разделил полученную на руки сумму на две части: честно заработанные положил в правый карман, а неправедные – в левый.
Деньги в левом кармане жгли его. «Что же с ними делать? – думал он. – Если вернуть Эмиру… И без этой суммы у него немало неправедных денег, заработанных трудом этих несчастных… Зачем мне увеличивать и так немалые его грехи, отдав ему еще и эти деньги? А если раздать этим несчастным? Они купят водку и уйдут в запой. А пророк (да благословит его и приветствует Всевышний) проклял пьющих спиртное, купивших его, продавших, угостивших – всего десять человек, причастных к спиртному… Тогда… что же делать?.. Не могу же я ходить с деньгами, обжигающими меня… А если выбросить в болото? Нет… Это чей-то труд, чье-то пропитание… У меня нет права поступать так… Надо отнести деньги директору совхоза, заплатившему их Эмиру. А тот пусть распоряжается ими, как хочет. Меня это уже не касается».
Когда Хаваил вошел в кабинет, директор совхоза – лысый, толстый человек лет пятидесяти, с пронзительным взглядом синих глаз – сидел за столом с сигаретой в зубах, просматривая какие-то бумаги.
– А-а, это ты… – улыбнулся он, увидев его, – Музейный Экспонат.
– Это я, уважаемый Динозавр, и пришел я к тебе по делу…
Какие бы обидные слова директор ни говорил, ни один сезонный рабочий до сих пор не перечил ему. Потому он удивился, но не разозлился:
– Ну, выкладывай свое дело.
– Мне сегодня дали зарплату.
– А-а, ты недоволен суммой? Разберемся. Пиши заявление… Как звали твоего бригадира – Турецкий Султан или Иранский Шах? Ха-ха-ха…
– Эмир.
– А-а, Эмир, арабский Эмир в Омских степях устроился… Я ему сделаю!
– Никому ничего не надо делать. Мне, наоборот, заплатили больше положенного. Я посчитал, мне положено только восемьсот рублей. Заберите эти лишние семьсот рублей.
– Как?! Что?! – не понимая, удивленно округлились глаза директора, словно собирались вылезти из орбит. Потом он громко расхохотался, тряся огромным животом, а вместе с ним трясся стол и графин с водой, стоящий на нем. Неожиданно его смех оборвался, он побледнел, руки начали дрожать еще сильнее:
– Убери… убери свои деньги…
– Не мои – твои… Недозволенное, запретное мне не нужно, – быстро вышел Хаваил.
Он еще не успел прилично отойти, как мимо него промчалась директорская «Волга». Подняв тучу пыли, машина устремилась в сторону расположения их бригады.
Когда Хаваил вернулся, его уже ждал Эмир.
– Если тебе эти деньги лишние… Или тебе некому было отдать их дома?..
– Мне не нужно неправедное…
– Почему они неправедные?.. Эти гроши, которые ты берешь у власти, уничтожившей всех твоих предков, депортировавшей твой народ…
– Из этого месть не получится.
– Ты очень напугал этого директора… Он утверждал, что тебя прислал КГБ… Я с трудом убедил его, что ты не их агент… Ха-ха-ха…
– Я завтра возвращаюсь домой…
– Пусть Бог тебе даст силы пройти так до конца. Правда, бывает, что такой праведник, как ты, через какое-то время, теряя все приличия, неистовствует.
Хаваил в ответ промолчал.
О случае с зарплатой Эмир рассказал Дошубике, а она всем остальным, и таким образом это стало известно всем. Морис безудержно хохотал, и, отвечая на предложение прекратить смех: «Не могу, я поймал «приход», – смеялся до самого утра. Потом заснул, но время от времени он смеялся и во сне, повторяя: «Какой дурак!»
Хаваил, совершив утреннюю молитву, отправился в путь.
VII
Дома осень была в самом разгаре. Началась жатва кукурузы: то тут, то там, где раньше зеленели кукурузные поля, теперь виднелись целые просеки сжатой кукурузы. Листва на деревьях, золотистого и багряного цвета, опадала. Проследив, когда Кесира выйдет за калитку, он пошел к роднику. Предчувствие было недоброе. Соседка Човка рассказала ему, что Ваха, вернувшийся раньше, чем он, ежедневно приезжает к роднику на своем белом автомобиле. Еще она поведала, что Ваха в городе купил дом, а матери Вахи и Кесиры стали очень близкими подругами, не могли и дня провести без встречи, дружно обсуждая будущее своих детей, одна рассказывала о достоинствах своего сына, а другая – о благовоспитанности дочери… «Парень, пока ты ходишь, эта белая голубка может оказаться в чужих силках… Если ты не хочешь жить, завидуя чужому счастью, то пора, как сокол куропаточку… А потом переговорщики своим красноречием все уладят…» – вот что сказала Човка… А ему не нужна женитьба против воли девушки. Что это будет за жизнь?
С этими мыслями Хаваил ждал под грецким орехом у родника. Она шла вприпрыжку, держа ведра в левой руке и не замечая его. Она смачно откусила крупное желтое яблоко, которое держала в правой руке. Яблоко было спелое, налитое соком. Девушка тоже. Его томительно потянуло к ней, и он испугался, что она может быть не его. Заметив Хаваила, она споткнулась и остановилась как вкопанная.
– Это ты? – яблоко выпало из руки. Ему стало жаль это яблоко, спелое, налитое.
– Это яблоко… Жаль его…
– Яблок много… Счастливого возвращения! – ответила девушка.
Хаваилу показалось, что она изменилась. Не такая робкая, как раньше. «Окончив школу, повзрослела, – улыбнулся он своим мыслям, – детские шалости закончились».
– Чему ты улыбаешься?
– Рад встрече с тобой.
– Заработал? – сейчас уже она улыбалась.
Выходит, слух о его поступке с возвратом лишних денег дошел и сюда. Ну и что? Ему не стыдно. Стыдно должно быть тому, кто получает деньги нечестно.
– Заработал, сколько смог…
– На дом? На машину?
– Дом и хозяйство у меня есть… Машина в этом селе не нужна…
– Не знаю… но люди с этим считаются…
– Люди многое ценят… А нашу сказку ты забыла?
– Не забыла… Но все же мама говорит: «Сказками сапетку не наполнишь…»
– Чем наполнить сапетку, я и сам знаю…
– И чем же?
– Кукурузой… кукурузу надо посеять весной… осенью собрать…
Хаваил понимал, что речь его бессмысленна. Это были пустые, ничего не значащие слова, произносимые им лишь для того, чтобы нарушить тишину. Те зерна, которые он заметил в характере Кесиры тогда, весной, дали всходы, подпитываемые разговорами ее и Вахиной матери, как кукуруза под дождем.
Да, закончилась их сказка. Белый козленочек, заблудившийся в лесу, испугавшись волка, упал в пропасть, сколько бы ни искал, Хаваил не найдет его… Сейчас, даже если он и начнет, Кесира не поддержит песню, толкующую сон. Она оставила эти детские игры, она выросла…
Он видит, что Кесира шевелит губами, но, оглушенный мыслями, не слышит.
– Что ты сказала?
– Я… Сердце диктует одно, мама советует другое… Я не знаю, что мне делать… – опустив голову, она беззвучно плачет.
Ему жаль Кесиру: оказавшись меж двух желаний, она растерялась. Он забывает о запретах адата, забывает о людской молве, ему очень хочется своим милосердием остановить Кесиру, уходящую, разделившись на две части. Он гладит ее по голове, как ребенка, другой рукой обнимает ее за плечи. Девушка не сопротивляется его ласке, она не перестает плакать.
Жнущая кукурузу Минга, сгорбившаяся от бесконечного копания в земле, выпрямившись впервые за последние десять лет, заметив их, замирает, забыв о своей горбатости; старик Жагаш, косивший сено на склоне горы напротив (зрение у него отличное, до сих пор читает Коран без очков), застывает с поднятой для взмаха косой; старая Ажу, присевшая, чтобы подоить корову, бьет струю молока мимо ведра, уставившись на них; Ибади, скачущий верхом по тропе выше родника, резко дернув за узду и поднимая коня на дыбы, останавливается, удивленный увиденным.
– Ух ты, сын муллы!.. Ходил по воздуху, а с небес на землю спустился в навозную кучу. Даже если не лишится штанов, то затраты у сына муллы будут большими – как минимум стоимость трех коней, – конокрад Ибади все сравнивал с этим животным.
Ибади сказал это громко, как будто боясь, что кто-то не услышит. Хаваил тоже услышал и как ошпаренный отскочил от Кесиры. Он понял: случившееся все село увидело глазами Ибади, который на время забудет даже о краже и сбыте коней, пока не выяснится, чем все закончится.
Эх, мир! Почему ты на одно мгновение не ослеп, чтоб не видеть этот родник?! Эх, золотое солнце! Почему ты не закатилось за хребет, чтоб не освещать своими ясными лучами этот родник?! Эх, родник! Почему ты, остановив свою песню, на мгновенье не ушел в землю?!
А с другой стороны: что здесь произошло? Ничего такого, что могло бы дать людям повод для пересудов. Мысли Хаваила были светлы, как твои лучи, солнце. Они были чисты, как твои брызги, родник. Это была мысль милосердия, она, как сон ребенка, просто мысль, без всяких тайн. Солнце, мир, родник… Вы-то понимали Хаваила. А люди? Люди не понимали.
Хаваил стоял, пока Кесира, наполнив ведра водой, не удалилась на приличное расстояние. Потом пошел домой.
На сельских улочках, на каждом повороте он замечал людей, собравшихся по несколько человек. Уловив обрывки их разговоров, он понял: они обсуждают сегодняшний случай у родника. Как быстро успел Ибади об этом растрезвонить. Как бы там ни было, сплетня распространилась по селу со скоростью пожара.
Он услышал разговор женщин: «Да ладно, не убьют, не казнят и штаны не снимут… Если сучка не поманит, кобель не побежит… Выдадут ее за этого парня, и все обо всем забудут…»
В сердце затаилась тревога: «Говорят, если что-то долго обсуждать, то это не получится, надо поторопиться».
VIII
Да, велики они, тайны Бога, человек не может знать, что с ним будет и через что ему придется пройти. Сколько бы ты ни стремился, непредписанное Богом никогда не случится.
Слегший в тот вечер Тайба, проболев трое суток, так и не придя в себя, скончался. На Хаваила обрушилось небо, и ему невероятно трудно было выдерживать тяжесть этого неба. «О люди, зачем нужно было приходить в этот мир, чтобы видеть столько страданий?» – в отчаянии возникла мысль. И она показалась ему опасной: «Ни у кого не спрашивают, хочет ли он жить в мире или нет… Правда, говорят, что ангелы задают вопрос душам, сколько времени они хотят жить на земле, в теле… Но этот диалог забывается… Не знаю, помнят ли другие, но я точно не помню…»
Через три месяца после смерти отца умерла и мать. «Хазан недолго выдержала разлуку с Тайбой», – сказал Жагаш. «Как мне жить без них?!» –крик застыл в душе Хаваила. Потеряв мать, он почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Теперь он остался висеть между землей и небом. Он был подобен чертополоху, росшему у забора… Чертополох тоже стоял, терпя и дождь, и жару, покрытый пыльным прахом, поднимаемым проходящими скотиной и людьми. И он, Хаваил, тоже стоял у себя во дворе, переживая горе, людскую молву, нравоучения, беды… Но так не должно продолжаться всегда. Потихоньку надо было войти в колею обычной человеческой жизни. Несмотря на свое нежелание, это надо было сделать, надо было жить хотя бы ради памяти родителей, столь беззаветно любивших его… Нет, жить, как попало, нельзя было – надо жить так, как жили его отец и деды.
Было бы неправдой утверждать, что в те тяжелые дни похорон родителей он не вспоминал о Кесире. Вспоминал, и ему очень была нужна ее поддержка. Но у него не было возможности искать встречи с девушкой, а она, кажется, о нем вовсе и не думала.
Оказалось, что ей действительно было не до него. Об этом ему поведала соседка Човка, не забывая при этом часто добавлять: «Ничуть не огорчайся, женщин и лучше, и красивее – немало на свете». По ее словам, через неполный месяц после смерти его отца Кесиру выдали за Ваху. Когда упомянули о случае у родника, мать Вахи, Медни, сказала: «Золото невозможно запачкать чужими руками… Не надо поднимать шум… Надо сыграть свадьбу, не затягивая…» Это очень понравилось и матери Кесиры: «Как ты права, Медни… Услышав об этом, я металась в растерянности, не зная, что предпринять. Если узнает ее отец…» – «Не надо ждать, пока он узнает… Потом будет поздно… Поползут сплетни, мол, надо снять штаны, взять калым, выдать за него…» – горячилась Медни. «Как же ты все-таки права, Медни. Похоже, что сын Тайбы так и не станет жить, как люди», – сказала Кебират. «Не будет жить, как люди, Кебират, не будет. Ты разве не слышала, как он поступил… Вернул часть своей зарплаты, сказав, что дали незаслуженно много… Ха-ха-ха…» Човка рассказала, как они, выгнав коров на пастбище, остановились у плетеного забора и долго смеялись. А она, находясь у себя во дворе, слышала и их разговор, и их смех. И так как она, Човка, болеет душой за него, она все поведала ему, «не добавив и не убавив ни одного слова самостоятельно».
Правда, по словам той же Човки, Кесира очень противилась этому решению, мотивируя тем, что она пока не хочет замуж, а хочет поступить в университет в городе. Но те две давили очень сильно, при этом Кебират говорила: «Ты что? Неужели ты думаешь, что твой отец отпустит тебя учиться?..» А Медни увещевала: «И поступить сможешь, и жить, если захочешь, будешь в городе, в прекрасном, как дворец, доме».
Еще Човка сказала, что когда они так сильно на нее надавили, Кесира крикнула: «Как ему, потерявшему родителей, нанесу я еще один удар?!»
После этого, разозлившись, Кебират начала выходить из себя: «Удар в спину нанес мне он, и не стыдно ему – средь бела дня, на глазах у всего села, у родника дотрагиваться до девушки?.. Он должен радоваться и помалкивать, если его не убьют или не опозорят, сняв с него штаны… Если ты не поступишь, как тебе велят, а до отца дойдет людская молва, это с ним и случится. И тогда будешь сидеть до самой старости, никому не нужная…»
Кесира не сказала ни слова, она заплакала горько, как осенний дождь. Човка сказала, что она была очень похожа на рыдающую дождем тучу, когда через полгода она встретила ее на городском рынке… «Ничуть не счастлива… И жизнь ей не мила…» – Човка попыталась облегчить его боль. Но эти слова, напротив, еще больше усилили его тоску. «Лучше бы она была счастливой. Какая мне польза от того, что она несчастна?» – думал Хаваил.
Да, вот таким образом определили путь Кесиры. Та, которая вместе с ним придумала сказку о белоснежном козленочке, ушла, оставив его одного. Сказка какое-то время еще жила в его памяти, потом, когда дни перешли в месяцы, а месяцы растянулись в годы, забылась. Белый козленочек, заблудившийся в лесу, остался навсегда бродить по чащам и оврагам, и не было человека, который пошел бы его искать, а услышав его беспомощное «бе-е», привел бы его домой.
В тот вечер, когда Човка ушла, поведав ему обо всем этом, Хаваил с возгласом: «Увы, мир!» – лег на деревянный топчан под навесом во дворе. А мира и не осталось – тот мир, который состоял из весенних цветов, из пьянящих, прекрасных запахов, из свиданий у родника, из встреч с Кесирой, из лучей заходящего солнца, из света звезд, разгорающихся на рассвете, из милосердия и любви родителей, из сладких ожиданий, был перемолот жерновами беды и превращен в бесцветный, свинцово-тяжелый, мрачно-синий камень, лежащий теперь у него на сердце, и имя ему было – Печаль.
И печаль эта была вечером, утром, ночью, днем… Она была и едой, и питьем. Он иногда думал, что, кроме этой печали, в мире больше ничего и нет. Тогда вспоминались детские годы… Эти воспоминания еще больше усиливали печаль. Раздавленный ею, он часто лежал под навесом, пока весь двор не зарос сорной травой. И тогда, испугавшись, что навсегда застрянет в сорняках, он встал, побрился и вычистил двор. Вышел в свет. Он понял, что, пока отлеживался, раздавленный печалью, в селе о нем ходило немало слухов: что он сошел с ума; ему не хватило мужества справиться с бедами; жаль Тайбу, умершего, не оставив более достойного наследника, а одна женщина вообще сказала: «Со смертью родителей он бы справился, а слег он потому, что Кесира вышла замуж», – это все ему рассказывала все та же ЧОВКА. Дети в школе нарекли его новым именем – Бешто.3 Да, Бешто тоже постигли три беды: у него умерли мать, любимая девушка, конь. «Конь… Неужели смерть коня так же тяжело пережить, как и смерть близкого человека?.. Может, мне приобрести чистокровного коня?..» – подумал он.
Не желая общаться с жителями этого села, он по окраинным тропам уходил в лес. Прозрачная речка, протекающая внизу, образовала озерцо во впадине в лесу. Лет десять-пятнадцать назад это был довольно большой водоем, но постепенно, год от года теснимый кустарником и травой, он превратился в небольшую запруду.
Детьми, споря, кто дальше, они метали гладкие камушки по поверхности воды так, чтобы они скользили. Изредка ударяясь о поверхность воды, камушек долетал до середины озера, и, неожиданно потеряв скорость, замерев, с бульканьем уходил под воду.
Однажды, задержавшись на берегу этого озерца и, как в детстве, бросая камушки, Хаваил подумал, что и жизнь надо бы проскочить вот так, скользя по воде, как эти камушки, не принимая близко к сердцу беды, а то, как этот камень, потеряв скорость, уйдешь на дно озера жизни, а озеро жизни не такое прозрачное, как это, в котором отражаются небо, солнце, деревья, – оно полно мрака неизвестности, неясно, есть ли у него дно, нырнув, никто оттуда не вынырнул… Печально, что когда-то надо туда нырнуть. Печаль…
И Хаваил, пытаясь избавиться от этой печали, купив дечиг-пондур, начал бродить по всей Чечне, заведя себе друзей и в горах, и на равнине, и в притеречных селах, распевая песни на веселых пирушках, а на вечеринках заигрывая с красивыми девушками (но ни одну из них не пуская к себе в сердце, не рассказывая ни одной сказку о белоснежном козленочке – раз обожженное, сердце не желало обмануться вновь), изредка, когда какая-нибудь молодка, шутя, предлагала: «Девушка, за которой ты начинаешь ухаживать, быстро выходит замуж, поухаживай и за мной», – отвечая ей: «Не всем так везет, мне кажется, что тебе надо искать другое средство», – тоже в шутку; потом, неожиданно загоревшись, хватая дечиг-пондур и перебирая струны, запевал шуточную песню:
… Вечерняя печаль –
Дом без жены,
Утренняя печаль –
Растоптанная обувь.
Потом резко, с криком «Асса!», пускаясь в лезгинку, ловя взгляды девушек, но не позволяя себе отвечать этим взглядам; потом, когда очередной круг танца стихал, обращаясь к гармонистке: «Спой-ка песню… «Вокруг меня гора» – ее название», – и когда гармонистка, уступая его просьбе, начинала играть на гармошке, он подпевал ей:
Скажите, вокруг меня горы,
Скажите, что я среди гор,
Скажите красавцу,
Что любит меня,
Чтобы пришел он за мной.
И слыша, как девушки (достаточно громко, чтобы слышал он, и недостаточно громко, чтобы слышали люди), говорили: «Ей-богу, сколько ни предлагай, никак не придет», – до рассвета проводя время на вечеринке, после этого отсыпаясь до обеда следующего дня в доме у кого-то из друзей; в обед просыпаясь, едва притрагиваясь к блюду, приготовленному в его честь, потом садясь с молодыми людьми, пришедшими в дом его друга для встречи с ним, и настроив дечиг-пондур, напевая «Илли о Махтин Идарзе и грузинском юноше», – живя таким образом, став и гостем, и зятем всего края, он не заметил, как десять лет пролетели, словно десять дней.
И за эти десять лет изменилось многое – не изменился только Хаваил. Он, как и раньше, одевался в традиционной дедовской манере: бешмет, широкие брюки, черкеска, папаха. Весной нанимал людей для вспашки своего огорода, потом на прополку приглашал сельских женщин (соседка Човка говорила ему: «У нас говорят, что холостой мужчина – зять всего села, ты же стал свекром всего села»)… Выучившись плотницкому ремеслу, выполняя заказы людей на изготовление окон, дверей или же делая кровлю на домах, трудился несколько месяцев в году. Этих денег хватало на жизнь. На заработанный излишек купил себе верхового коня, и на нем ездил в гости по соседним селам.
Все его друзья уже имели семьи. Те, что были детьми в годы его юности, сами стали юношами, и Хаваил знал: они меж собой зовут его Гостем Из Прошлого. «Это прозвище лучше, чем то, которым прозвали меня тогда, в Омске», – улыбнулся сам себе Хаваил.
Хаваил жил бы подобной жизнью и еще десять лет, если бы однажды к нему не пришел Жагаш (удивительным было его здоровье: до сих пор у него были целы зубы, не пострадало зрение, он мог читать Коран без очков) и не сказал: «У тебя уже не тот возраст, чтобы проводить время на вечеринках, играя на дечиг-пондуре. Сейчас пора стать на путь своего отца и дедов… Человек должен жить, соответствуя своему возрасту…»
Эти слова заставили Хаваила крепко задуматься: «Через два года мне будет тридцать, не замечая, что повзрослел, я все еще живу жизнью юноши».
И тогда он изменил свой образ жизни: прибившись к мюридам, посещая похороны и мавзолеи праведников, проводя коллективные молитвы то в одном селе, то в другом, делая зикр, выступая запевалой в религиозном песнопении (об этом его просили мюриды: «У тебя голос хороший, запевай»), общаясь с единомышленниками, проводил дни, месяцы, годы.
IX
Славнее Тебя создания нет у Бога,
Престол Он светом озарил твоим,
Твоим избранием Бог явил прощенья много.
– Аллаха Вестник, приходи к нам в гости, как к своим!
Раз серна грусть свою поведала тебе,
Взывал к тебе надрывно голос странный,
Ты ей ответил, знаки уяснив себе.
– Аллаха Вестник, ты всегда наш гость желанный!
«Глазами, в коих свет живет, взгляни же, мой пророк,
Меня связал здесь и заснул араб, пленитель мой,
А дома детки у меня – кормить их надо впрок».
– Аллаха Вестник, приходи, для нас всегда ты свой!
«Руками, что добро творят, ты развяжи меня,
Пока он спит, я возвернусь, дай волю мне скорей,
Коль деток не увижу я, не проживу и дня».
– Аллаха Вестник, приходи к нам в гости побыстрей!
Степная серна – в путь, тогда сказал пророк ей вслед:
«Вдруг ты обратно не придешь, нечестно будет, знай:
Кто обманул хоть раз, тому нет веры впредь».
– Аллаха Вестник, встречи нас с собою не лишай!
Сказала деткам все, как есть, при встрече серна- мать:
«А вы кормитесь побыстрей, ребятушки мои,
Ведь мой посредник – сам пророк, боюсь я опоздать».
– Аллаха Вестник, мы всегда поклонники твои!
«Ну, коль пророк – посредник твой! – сказали ей в ответ. –
Должна вернуться ты к нему и тут оставить нас,
А что сейчас не поедим, так в том печали нет».
– Аллаха Вестник, без тебя рискуем мы пропасть!
Араб проснулся, а над ним пророк склонился сам,
Смущенный тем, что гость – пророк, араб к нему воззвал:
«О мой пророк, зачем же я понадобился Вам?»
– Аллаха Вестник, за собой ты к свету нас позвал!
«Пришел свободу я просить для серны, о мой брат,
Слаба она, детеныши голодные одни.
Добро, что здесь ты сотворишь, даст рост тебе в стократ».
– Аллаха Вестник, без тебя осиротеем мы!
Свобода ей – пророка дар, от счастья не своя,
Бежала серна по полям и повторяла вслух:
«О том, что вправду ты пророк, свидетельствую
я!»
– Аллаха Вестник, беден тот, кто к правде глух твоей!
Эту назму4 Хаваил пел очень проникновенно, и слушателей она брала за живое. Мюриды, сидящие в кругу, Човка и еще несколько женщин-соседок смахивали навернувшиеся слезы.
Несколько раз в году Хаваил, зарезав барашка, приглашал своих товарищей-мюридов к себе в гости. Для приготовления ужина звал Човку и еще несколько соседок.
Мюриды, приезжая утром, целый день проводили у Хаваила, молясь, распевая назмы, делая зикр, читая мовлид, распивая чай, пробуя на десерт фрукты, рассказывая разные истории, балагуря, подшучивая друг над другом.
Вечером гости садились в свои автомобили и уезжали, на предложение переночевать отшучивались: «И сутки, и неделю проведем, если ты в этот дом приведешь хозяйку, а сейчас не позволим дальше мучить этих женщин».
И сегодня, ранней осенней порой, когда листва начала золотиться, коллективно совершив предзакатную молитву, произнеся, передавая друг другу, формулу восхваления пророка (да благословит его и приветствует Всевышний), они собрались уходить, когда один из них, Жума из Новых Атагов, сказал:
– Хаваил, пока ты не женишься, мы в этот дом больше не придем.
– Чтобы ко мне приезжали такие гости, как вы, я сделаю все… Не то что женюсь, если надо, пойду за живою водой за тридевять земель…
– Конечно, пойдешь, чтоб не жениться, хоть за тридевять земель, – сказал Апти из Лаха-Невре.
– Не надо жениться, – сказал Бетарби из Шали, – жил же до сих пор, иди до конца… Ничего хорошего в женитьбе нет…
– Если это так, то почему ты женился трижды? – спросил Элмарза из Чечен-Аула.
– Женился и не рад, – засмеялся Бетарби.
– Если он сам не решится, то я приведу ему жену, – пообещал Исмаил из Дами-дука.
Вот так, с шутками, прибаутками, уехали сегодня мюриды, друзья Хаваила.
Убирающая посуду Човка спросила:
– Хаваил, рассказать тебе кое-что?
– Если приятное.
– Очень приятное… Я вчера была в гостях у дяди, в Лака-Варша. Там выросла прекрасная девушка.
– Сколько их, красивых…
– Дай мне рассказать, не перебивай… Эта красавица влюблена в тебя по уши… Не знаю, за что… Белисат ее зовут.
– Ой, кто же она, – смеется Хаваил, – столь жаждущая несчастья быть моей женой?
– Они живут в верхней части, на окраине Лака-Варша. Ее отца зовут Бокри…
– А-а, ты говоришь об этом Мулле Насреддине?
– Да, люди так его прозвали из-за его острословия… Чистой души человек.
– И это правда… У них второй дом с краю… Девушка из этого дома красива, ЧОВКА.
– Ты видел ее?
– Я много раз обращал на нее внимание. Проходя мимо, ведя коня под уздцы, замечал, что она тоже не оставалась к нам равнодушной.
– Белисат до смерти тебя любит.
– А она знает, чем я живу, как я живу и насколько я богат?
– Прекрасно знает. Ей нравится твой образ жизни, твой стиль одежды, ей нравится, что ты мюрид, что ты поешь назмы. Ей нравится твой конь, – разошлась ЧОВКА.
– И сколько ей лет, желающей, выйдя за меня замуж, стать несчастной дочерью своих родителей?
– Ей восемнадцать, давно замуж пора.
– Она же на много лет моложе меня, Човка…
– Ну и что? У мужчины нет возраста.
X
Октябрь выдался теплым и ясным. Сельчане очищали от початков сжатую кукурузу и заполняли ею сапетки.
И в один из таких дней перед домом Хаваила собрались автомобили: на «Волге М-21» сливочного цвета приехал Жума из Старых Атагов, Бетарби из Шали приехал на темно-красных «Жигулях», Элмарза из Чечен-Аула на серой «ГАЗ-24», а автомашину цвета воронова крыла, на которой приехал Апти из Лаха-Невре, до сих пор в этом селе не видели… Апти сказал, что она марки «Форд». Эти пять машин, плюс еще две машины из села («Москвич-412», «Газ-64»), с Човкой в одной из них, поднимая тучи пыли, выехали из села.
До сих пор здесь не было такого, чтобы невесту привозили кортежем из стольких автомобилей.
– Ух ты, Хаваил! – воскликнул Ибади, наблюдавший за всем происходящим, стоя у своих ворот. – Ездил верхом, а за невестой послал семь автомобилей… Нет, кони не дело, надо заняться машинами…
Через полчаса караван машин прибыл в Лака-Варша. Човка, мулла Ауд и еще два старика вошли в дом.
Друзья Хаваила стояли на улице, чтобы сорваться с места, как только невесту посадят в машину.
Оказавшийся расторопнее всех, Бетарби подогнал свою машину прямо к воротам, намереваясь посадить невесту в нее. Вышедшая через некоторое время Човка обратилась к Бетарби:
– Твоя машина для такой невесты слишком мала. Мы посадим ее в машину Апти.
Обидевшись, Бетарби развернул свою машину и сорвался с места. Остальные сопровождающие, подумав, что он увозит невесту, помчались следом.
Караван машин, непрерывно сигналя, пытаясь обогнать друг друга, расплачиваясь с теми, кто перекрывал дорогу, под выстрелы сельчан, салютовавших им, прибыл во двор Хаваила.
Выбежавшие встречать невесту женщины (одна с ковром, чтобы постелить ей под ноги, одна с малышом, чтобы подать ей, а одна с куском сахара, чтобы положить в рот невесте), не увидев ее, растерялись. И сопровождающие уставились на Бетарби. А тот, как ни в чем не бывало, принялся протирать лобовое стекло влажной тряпочкой.
– Стекло потом протрешь, сначала высади невесту, – сказал Жума.
– Невеста не со мной, – ответил Бетарби, не прекращая свое занятие.
– Как не с тобой?! – удивились люди.
– Вот так, не со мной. Човка сказала, что не посадит ее в мою машину. И я приехал, подумав, что не нужен. Только я не понимаю, зачем приехали вы.
На какое-то время наступила мертвая тишина. Потом у одной из женщин вырвался смешок «хи-хи», сразу вслед за ней разразился громким хохотом Элмарза, а вместе с ним и Апти, их поддержал Жума, и уже хохотали все собравшиеся: и женщины, и дети – скоро смеялось все село.
Минут через десять гомерического хохота Элмарза воскликнул:
– Увы, Хаваил! С кем такое могло приключиться, кроме тебя?! Мы с тобой настолько невезучие, что нам не досталась бы кружка воды при разделе моря!
– Давайте, братья! – крикнул Исмаил. – Быстро разворачивайте наших жеребцов, пока дело не зашло слишком далеко.
Но не успели они вновь погрузиться в машины, как у дома Хаваила с лязгом и грохотом остановился тяжелый грузовик. Когда облако пыли улеглось, собравшиеся увидели Човку и невесту, выходящих из его кабины.
Жума и Апти помогли невесте сойти.
– Пусть будет счастливым твой приход! – воскликнул Исмаил.
– Вы думали, что, кроме ваших, нет других автомобилей?! – кричала ЧОВКА.
– Ой, да это же колхозный грузовик, на котором работает Бокри! – удивился Ибади.
– Конечно! «Эти сопровождающие или глупее меня, или задумали против меня какое-то коварство… Быстро заводи», – сказал мой дядя своему соседу и отправил нас вслед за вами.
– Молодец, Бокри!
– Не зря прозван Муллой Насреддином!
– Ей-богу, поступил, как надо! – опять смеялись люди.
После во дворе у Хаваила они устроили пышную свадьбу, трое суток длилось веселье… Друзья Хаваила, мюриды, были мастерами не только в зикре, но и в лезгинке… Женитьба Хаваила стала для сельчан событием, которое они обсуждали еще очень долго.
XI
Прошло много лет, и однажды на рассвете в селе раздались леденящие сердце крики Човки:
– О, как несправедлива твоя смерть! Что мы будем делать без тебя? Ты опекал сирот! Ты заботился о старых и немощных! Как мы будем жить без тебя?! – вопила женщина, выскочив во двор, и на ее крики сразу же сбежались соседи, не понимая, кто умер и что случилось.
– Что случилось? Что стряслось? – кричал на бегу Ибади.
– Умер!.. Умер!..
– Кто умер?..
– Бирежнев… Да умри у него мать!5
– Какой Бирежнев? – не понимал Ибади.
– Наш царь Бирежнев… О-о, как безвременна его кончина!..
– Да пусть у тебя умрут все родственники Бирежнева по отцовской и материнской линии… До смерти напугала меня… Ни свет ни заря воешь волчицей… Боишься, что ему не найдут замены?! – разошелся Ибади, остальные, не понимая, в чем дело, стояли, растерянно улыбаясь.
– Такого милосердного больше не будет… К обездоленным он был милостив… Одинокому – товарищем и опорой… Он создал школы для сирот… Он награждал медалями многодетных матерей! Что мы, обездоленные, будем делать сейчас?! Да умри у тебя мать! – и не думала успокаиваться ЧОВКА.
Наконец, поняв, что происходит, собравшиеся расхохотались. Странный вой, в котором слились их хохот и плач Човки, беспощадно разрушил предрассветный покой маленького села.
Для сельчан смерть Брежнева и плач Човки стали новым событием, которое на пять-шесть лет отодвинуло на задний план женитьбу Хаваила.
Правда, лет через пять-шесть люди поняли, что Човка плакала не зря. И когда жизнь простых людей начала все больше ухудшаться, стали говорить: «Оказывается, Човка – провидица. О будущем ей рассказывают или души святых, или джинны».
И тогда к Човке потянулись толпы людей не только из этого, но и из других сел с просьбой предсказать будущее. Поначалу Човка отказывалась, мол, ничего не знает. И это люди истолковали по-своему: «Човка, несмотря на свой необыкновенный дар, не теряет скромности… Это скромность святой. Да, скромность праведницы…»
В конце концов Човка и сама поверила в свой дар предвидения. Она рассказывала о своих предположениях, кое-что совпадало. Более того, она начала заниматься целительством и гадать. Чем бы кто ни болел, она всегда ставила один из этих диагнозов: влияние духа умершего, сглаз, порча, приворот, одержимость. И все болезни она умела лечить по-своему: если кого-то посещают духи мертвых – пожертвованием, чтением мовлида; сглаз – окуриванием; порчу или приворот – путем вскрытия подушек, матрацев; одержимость – амулетами и оберегами…
В течение нескольких лет мало осталось людей в этом горном районе, которые бы не лечились у Човки.
Для нее, оставшейся после смерти Брежнева без пенсии, «пожертвования» больных были хорошим подспорьем.
А позже Човка и вовсе изменилась: кроме целительства, она занялась еще и торговлей.
Изменились все жители этого села, кроме трех человек: старца Жагаша, алима Ауда и Хаваила.
Потерявшие покой сельчане метались то в город, то в Турцию, забыв о посевах и жатве, не разбирая дня и ночи.
Хаваил вел свой привычный образ жизни: засевал огород (наполовину кукурузой, наполовину чесноком), верхом ездил в соседние села, гостил и у друзей-мюридов, иногда, если везло, выполнял заказы по плотницкому делу. Так же жила и Белисат, довольствуясь малым и не завидуя чужому достатку. На следующий год после свадьбы у Белисат родился сын Харон, а еще через год Бог дал и дочурку Айзан. Мальчик был светловолосым и голубоглазым, как мать. Айзан же была похожа на отца – такая же черноглазая брюнетка.
Хаваил всегда наставлял сына, вспоминая своего отца, деда, а дочери рассказывал сказку о белоснежном козленочке. В раннем детстве сын не понимал наставлений отца, а, подрастая, не очень к ним прислушивался. Дочка же в детстве слушала сказку отца очень внимательно, задавая много вопросов: «А почему у этой девочки не было брата?», «А почему юноша был без сестры?», «А почему козленочек ушел далеко в лес?». Когда она начала подрастать, отец уже не рассказывал ей сказку и не наставлял ее, как сына. Наставляла ее теперь мать. Хаваил свои пожелания говорил Белисат. А та передавала дочери. Таковы были обычаи предков.
Когда неистовство в Чечне достигло апогея, президент, сошедший с небес (кто-то говорил, что он сошел с небес на белом коне, другие утверждали: прилетел на самолете, чтобы освободить чеченский народ – Хаваил не знал, кто из них прав, он никому не верил), – да, в тот год, когда этот президент объявил: «Без пенсий и зарплаты мы с голоду не умрем, если надо, будем питаться мушмулой и дикими грушами, благо, в лесах их немало», – Харон окончил школу.
Правда, Хаваил сам не слышал, как это говорил президент, так как в его доме никогда не было телевизора, да он и не переживал по этому поводу. Он слышал об этом на майдане от Ибади. Вслед за этим Ибади рассказал одну историю:
– Когда-то, в годы коллективизации, из города в наше село приехал уполномоченный. Собрав людей, он начал агитировать: «Вступайте все в колхоз, сдавайте туда весь домашний скот, земля будет общинной».
Это людям не понравилось. Но никто не смел высказаться (время было лихое, человек мог сгинуть совсем без вины), наступила гнетущая тишина, и тогда отец Жагаша, житель нашего села Багаш, сказал: «Слушайте, люди! Мы сделаем все, что говорит уполномоченный, отдадим домашнюю скотину, да и сами запишемся в колхоз. И с голоду мы не умрем, пока в лесах растут груши и мушмула. Но, правда, – замолк на секунду Багаш, – но, правда, облегчиться не сможем».
– Ха-ха-ха!
– Правильно сказал!
– Как хорошо он понял смысл коллективизации!
– Неплохо разобрался в политике.
– Удивительно, как это пришло ему в голову? – смеялись сельчане.
Когда смех немного стих, Ибади добавил:
– Подобно ему, если будем слушаться нашего президента, мы тоже не сможем облегчиться.
Смех усилился.
И почти до полуночи не стихал шум в селе.
XII
Прилегший на топчан после утренней молитвы Хаваил долго пролежал в дреме. Проснувшись, увидел, что веранда залита ярким светом солнца. Под окном, сидя на низеньких скамейках, мать с сыном о чем-то шептались.
Опять обсуждают вчерашнее… Конечно, с одной стороны, они оба правы. Не имея знаний, трудно прожить жизнь. Но все же, хоть там и живет шурин Берса, Москва далеко. Кто знает, что из него выйдет, когда он выйдет из-под опеки отца. В его возрасте Хаваил, если и не ко всем, то кое к каким наставлениям отца все же прислушивался. А этот юноша не слышит ничего. Он не хочет выделяться среди сверстников, он хочет быть, как они. А Хаваил не хотел быть похожим на кого-то, он хотел жить, как велит ему сердце, и слушаться отца…
«Все же, не разрушая надежд сына, отправлю его учиться, – размышлял Хаваил. – Учение, какое бы оно ни было, – это учение. Алимы говорят, у пророка (да благословит его и приветствует Всевышний) есть хадис, в котором сказано: «Приобретайте знания, даже если для этого придется ехать в Китай».
– Харон, зайди! – крикнул Хаваил.
Войдя, сын остановился у дверей.
– Ты хочешь поехать учиться?
Сын промолчал, да ответ и не нужен был.
– Похоже, что ты не хочешь жить, заботясь об этом доме, земле, домашней скотине, бывая на торжествах и похоронах, поклоняясь Богу, проводя коллективные моления с мюридами в ночь на воскресенье и среду. Конечно, мир большой и прекрасный. И хочется его посмотреть… Правда, я не нашел в этом мире ничего более ценного, чем выполнять волю отца. И выполняя его волю, мне было безразлично, что обо мне говорят люди. Было время, когда ровесники меня прозвали Музейным Экспонатом, а те, кто помоложе, –Гостем Из Прошлого… Не знаю, как меня прозвали твои сверстники.
– При мне ничего не говорят…
– А за спиной?
– Мамонт.
– Ха-ха-ха… Выходит, мне миллион лет?! Это признак того, что ваше поколение образованнее… Смотри, я согласен был быть для людей и Музейным Экспонатом, и Гостем Из Прошлого, и Мамонтом, лишь бы жить, как жили мой отец и деды… И никогда об этом не жалел… Но ты этого не хочешь. Возможно, ты прав… От образованного человека пользы и для себя, и для родни, и для односельчан должно быть больше… Поэтому я вынужден смириться с твоим желанием… Готовься в дорогу. Напоследок дам тебе один совет. Этот же совет дал мне мой отец. Знай, откуда и кто ты, где твои корни, и берегись, как огня, недозволенного Богом…
Харон уехал утром следующего дня. Хаваил, выйдя за ворота, стоял, провожая взглядом автобус, на который он сел. Даже когда автобус скрылся за поворотом, он стоял, погруженный в свои мысли.
Возможно, он стоял бы так еще долго, если бы на улице не показался Ибади.
Ответив на его приветствие, Хаваил пропустил Ибади вперед.
– Хотя ты и не алим, но, помня, что ты сын мудрого человека и сам тоже хороший человек, я пришел к тебе посоветоваться по одному делу.
– Какой совет я могу тебе дать, Ибади, ты же намного старше меня…
– Мудрость бывает не от возраста, Хаваил. Ты слышал, что сказал наш президент недавно? Как ты услышишь, у тебя же нет телевизора… «Если можете – хапайте, не можете – терпите».
Но терпеть никто не хочет, терпят только наши односельчане. Все остальные хапают, похищают. Одни останавливают целые товарные поезда и грабят их, другие – впившись, как пиявки, в нефтепровод, воруют нефть, третьи вывозят из республики и распродают за бесценок станки, оборудование, цветные металлы, есть и такие, которые, выкопав колодцы по всему городу, добывают конденсат… – все что-то делают, кроме нас.
– Ну, и как ты думаешь, с чего нам начать? – спросил Хаваил, улыбаясь как-то по-своему.
– В первую очередь надо раздать сельчанам скот из колхоза. А потом надо податься на равнину: если делят богатство этого края, то и нам должна перепасть наша доля. Мы что, хуже остальных? Или мы люди второго сорта?!
Хаваил долго молчал, пока Ибади не выговорился. Потом сказал:
– Ибади, все, что ты говоришь, не дозволено Богом. Колхоз, например, – общественное хозяйство. В его доле должны быть все, кто умер, работая там, их дети, потомки… Я не такой храбрый, чтобы предстать перед Богом, взяв на душу грех за их часть.
Ибади этот разговор очень не понравился, более того, он его разозлил.
– Тогда весь народ, все сельчане, выходит, глупцы, а ты, старый, забывший даже свое имя, Жагаш и одержимый джиннами Ауд – мудрецы…
– Нет, мудрые – вы… А мы – глупцы… Но все равно, нам не нужно запретное, не нам принадлежащее… Не то что село, даже если весь мир будет утверждать, что ты прав, я не буду принимать участия в присвоении чужого… И об этом я говорю вам. А вы делайте, что хотите…
Возможно, из-за этих слов Хаваила колхоз держался еще два месяца, а потом в одну ночь половина скота исчезла. Деля оставшееся, среди сельчан возникла драка, и пять человек попали в больницу. К счастью, никто не погиб, хотя двое и остались калеками.
XIII
Оказалось, это совсем нелегко – проводить ребенка из дому и скучать по нему. Если подумать, то незачем переживать: сын не на войне, не в армии; он учится в самом престижном институте Москвы (Харон прислал фотографию, снятую перед этим зданием: оно было многоэтажным – говорят, там учится пятнадцать тысяч человек – столько людей не было во всем этом горном районе); живет у своего родного дяди; обещает приехать, когда закончится учебный семестр… – это так, но все же Хаваила мучила непонятная тоска.
В начале июля Харон приехал, сидя за рулем нового «КАМАЗа». Одет был очень хорошо. Хаваилу это не понравилось: мужчина мог бы одеваться и поскромней. Но что поделаешь… таковы нравы этого времени.
– Эта машина, наверное, твоего дяди, сын, – сказал Хаваил, когда тот отдыхал после ужина.
– Нет, она наша.
– Как наша? Ты разве не учился?
– И учился, и работал.
– Ой, за эти десять месяцев ты заработал на машину?
– И на машину, и на две тонны денег в ее кузове…
– Каких денег? Что за деньги?..
– Обычные деньги…
– Вот это да! – выскочив, Хаваил вскарабкался на колесо грузовика и, отогнув край брезента, заглянул туда: действительно, там лежало много денег в новеньких пачках. – Нечестные деньги! Ты связался с преступниками! – заорал он.
– Что за нечестные деньги! Там нет ни одного фальшивого рубля! Зачем мне заниматься подобными глупостями? Это чистые, как золото, полученные из банка деньги, – говорил, улыбаясь, Харон.
– Все люди этого района за тридцать лет тяжелого труда не смогли бы заработать столько денег… Все вместе… – горячился Хаваил.
– Сейчас можно заработать, отец. Я договариваюсь с банком, чтобы такую-то сумму денег перечислили в другой банк, и готовлю соответствующие документы… Потом иду в тот, другой банк, и, отдав положенные проценты, забираю свою долю… Воздух… Потом из банка изымаются документы…
– Базар шайтанов… – прошептал Хаваил.
– Да, да, какой-то чертовский базар… Короче говоря, знаешь что, отец, эту страну разваливают. Каждый стремится урвать свой кусок. Я привез нашу долю.
– Базар шайтанов… Болезнь Ибади, – шептал Хаваил. Потом сказал твердо: – Сын, ты одержим бесами. Если срочно не начать лечение, болезнь запустится. Сначала мы сожжем грязные деньги, которые тебе дали бесы с намерением подчинить твою волю. Потом…
– Отец, ты о чем?.. Как можно жечь деньги? Мы на эти деньги построим новый большой дом, купим несколько машин, проведем в село асфальтированную дорогу, проложим новый добротный мост через Аргун, построим завод по разливке минеральной воды… – Харон торопливо, пока отец не перебил, рассказывал, куда можно направить эти деньги.
Хаваил на какое-то время задумался: «А может…» Но эту мысль прогнали неожиданно вспомнившиеся слова Эмира, сказанные ему когда-то в Омске: «Пусть Бог даст тебе сил пройти до конца…» Да, он говорил именно об этом испытании… Прости меня, Бог, еще чуть-чуть, и бес бы меня попутал, – думал Хаваил. – Нельзя ездить по дороге, проложенной на эти деньги, и на мост нельзя ступать…»
– Сын, чем больше у тебя запретного, тем тяжелее грех… Зря дальше не болтай, а отгони машину на огород, туда, где навоз, – взяв спички, Хаваил вышел.
Харон молча завел мотор машины. Но он не отогнал машину на огород, а помчался по дороге, ведущей из села, все больше увеличивая скорость, словно боясь, что кто-то его задержит.
Хаваил стоял, пока не улеглась пыль, поднятая грузовиком. Дальше стоять не было сил, ноги ослабли. В сердце чувствовалась пустота, холодный ветер продувал его насквозь, как будто там вместо сердца было окно. Земля разверзлась, поэтому трудно было идти, он старался ступать осторожно, чтобы не упасть… Небеса обрушивались, они были тяжелы, гнули к земле, поэтому трудно было устоять на ногах. Но все же, терпя эту тяжесть, ступая медленно, Хаваил вернулся в дом. Не обращая внимания на удивленные взгляды жены и дочери, прилег на нары.
Наступил вечер, потом сумерки, ночь… Забыв о молитвах, пролежал до утра. Потом, в предрассветный час, вышел готовиться к утреннему намазу. Сделав омовение, совершил добровольную и обязательную молитвы, а также те, что вчера забыл, долго перебирал четки.
Жена тоже помолилась и пошла доить корову.
Как же прав был тот старик: действительно, тяжелее всего, когда взрослый ребенок поступает против воли родителей. Да, он был прав. Но все же…
Надо по жизни скользить, как камушек по поверхности озера. Нельзя что-либо принимать слишком близко к сердцу… И это несчастье тоже… Иначе уйдешь в воду, в бездну…
Хаваил поставил поднос с мукой на нары. Налив воды, замесил тесто. Он принялся лепить куклу, как когда-то Уса: руки, ноги, голова, торс. Получалось не очень хорошо, но и какое-то подобие подошло бы. Когда он заворачивал куклу в саван, вошла Белисат.
Она удивленно замерла на месте.
– Что ты делаешь? – вырвалось у нее невольно.
– Готовлю тело нашего сына к похоронам, заворачиваю его в саван.
Белисат стала плакать навзрыд, горько, дрожа всем телом.
– Плачь, тебе можно плакать, плачь, сколько плачется… Но не причитай… Причитания запрещены мусульманам… – говорил Хаваил, заканчивая заворачивать куклу в саван. Потом он вышел во двор с «покойником» на руках.
Увидев во дворе сельчан, не особо удивился: они же пришли на похороны его сына.
– Ассалам алейкум! – поздоровался возглавлявший процессию Ибади.
– Ва алейкум салам! – положив «сына», завернутого в саван на траву, подняв руки, Хаваил прочел краткую поминальную молитву.
Люди его не поддержали. Не успел он прочесть молитву, как заговорил Ибади, его голос казался раздраженным. Хаваил удивился: этикет не позволял разговаривать таким тоном в доме покойника.
Задумался над его словами. До его сознания дошел их смысл:
– Говорят, когда делили эту страну, две тонны денег, положенные нашему селу, привез твой сын. Я вчера попросил бывшего бухгалтера колхоза Сайди посчитать – и на каждую душу выходит два килограмма четыреста граммов денег. Я и все эти люди пришли за своей долей.
– Деньги?! Что за деньги?
– Полный грузовик денег, которые привез твой сын.
– Мой сын умер… – Хаваил взял с травы куклу. – Я иду его хоронить.
Пройдя через двор, он взял лопату, стоящую у стены хлева. Положив лопату на плечо, пошел со двора. Люди расступились, пропуская его.
Хаваил даже не взглянул на них. Он пошел по дороге на кладбище. Ему было невероятно тяжело идти по этому пути.
XIV
После этого случая Хаваил уже не так радовался жизни. Друзей-мюридов теперь посещал редко. А если и бывал у них в гостях, то возвращался совершенно расстроенным. Его друзья изменились: не было прежней открытости, искренности в общении, в поведении. Довольно долгое время друзья-мюриды, хотя и разделились на два противоположных лагеря, все же не решались перешагнуть через барьер приличий, но с каждым днем чистый небосклон их отношений покрывался черными тучами, атмосфера в общении накалялась, готовая вот-вот взорваться. Видя это, Хаваил вместе с Элмарзой делали все возможное, пытаясь разрядить атмосферу до того, как разразится гроза. Но у них ничего не получилось: гроза разразилась, друг другу было нанесено немало обид, окончательно испортивших их отношения, разбив их дружную компанию на две части.
Его поражало другое: пусть этот тонкоусый президент является, как утверждали его сторонники, святым, благодетелем и освободителем народа, или же, как говорили его противники, источником великого зла, уничтожающим этнос, но, кем бы он ни был, как можно из-за него испортить благородную чистоту своих отношений?
И подобный разрыв, трещина, разрушающая и родство, и дружбу, прошла через всю республику, через семьи и сердца людей.
Если подумать, то противопоставление людей друг другу не могло кончиться добром. Чтобы понять это, большой ум не требовался, это было отчетливо видно, как ворона на снегу. И в сердце рождалась злость. Почему они этого не замечают?!
Но, сколько бы ни пытался, он не смог добиться прозрения ослепнувших друзей. И тогда Хаваил, обещав себе не спускаться больше без крайней нужды на равнину, остался жить в своем маленьком селе.
От ураганов и метелей это село защищали лесистые горы, окружавшие его, но и они были бессильны против сатанинских вихрей неистовства, завывающих на равнине. Отравленный этими ветрами воздух понемногу проникал и в это село: один привез из города два автомата, другой – мотки тканей, доставшиеся ему при ограблении поезда, третий привез сахар в мешках, четвертый присвоил большой участок общинной земли в селе. Вдохновленные его примером сельчане, с дрязгами, ссорами, потасовками, портя отношения, разделили меж собой всю общинную землю села.
«Хорошо хоть, что все закончилось дракой, в других селах и убитые есть», – подумал Хаваил.
Однажды, в студеный зимний вечер, Хаваил сидел, перебирая четки после вечерней молитвы, когда на веранде раздался топот ног, отряхивавших снег. Он понял, кто это: сегодня утром Белисат поехала в гости к родителям вместе с Айзан – видимо, они вернулись.
Вошедшая Белисат остановилась у дверей, ожидая, пока он закончит поминание Аллаха. Закончив зикр, он прочел короткую молитву, спрятал четки в нагрудный карман:
– Что нового дома? Как живет Бокри? Как мать? – начал расспрашивать Хаваил.
– Хорошо живут. Передавали тебе приветствие. Берс приехал… – (Это был брат Белисат, живущий в Москве). Хаваил промолчал. – Он сказал… нашему сыну сосватали девушку, свадьба через две недели… Девушка из хорошей, благополучной семьи… Сказал, что Харон купил жилье в Москве… – торопилась сказать Белисат.
– Как может жениться умерший? – спросил Хаваил.
В ответ Белисат разрыдалась. И, упав на топчан в соседней комнате, проплакала до глубокой ночи.
Хаваил дал ей выплакаться. Он также не помешал ей выплакаться еще через год и два месяца, когда радостная Белисат сообщила ему: «У нашего сына родилась двойня – мальчик и девочка», – а он, как и в тот раз, спросил: «У умершего рождаются дети?» – и Белисат разрыдалась пуще прежнего.
Несмотря на его утверждение, что Харон умер, сын все же давал о себе знать и насовсем из жизни Хаваила не исчезал. Однажды, увидев на Айзан золотые украшения, он устроил Белисат допрос:
– Откуда они?
– Мой брат подарил.
– А если сказать правду?
– А если правду сказать, прислал ее брат через дядю…
– Прислал, значит, отошли назад поскорей, не старайтесь ввергнуть эту девочку в несчастья, причастив ее к неправедно заработанным деньгам.
– Отошлю… – сглотнула, подавив рыдания, Белисат. – Но твоя дочь выросла, и ей, как и всем ее сверстницам, нужны украшения…
– Будут, все будет… Ее отец пока еще жив.
Утром следующего дня Хаваил отправился верхом на базар. Вернулся на машине односельчанина.
– Куда ты подевал коня? – растерялась Белисат.
– Коня я продал… На, возьми деньги… Купи дочери, что нужно…
Белисат опять заплакала:
– Я же не это тебе предлагала. Как ты будешь без коня?..
– По-моему, жена, возраст мой не для верховой езды… Кроме того, сейчас люди конями и не пользуются… Ездят на автомобилях… Может, хоть в этом мне быть, как все?..
– Я бы выручила деньги, продав муку, бобы… Зря ты коня продал, – по-настоящему огорчилась Белисат.
– И на эти деньги купишь что-нибудь… Девушке много чего нужно… Парню-то и одного комплекта одежды хватает, – зашел к себе Хаваил.
XV
С одной стороны, все весны похожи друг на друга: зеленеет трава; расцветают цветы; покрываются белыми, алыми, розовыми цветами фруктовые деревья; над ними, собирая нектар, кружатся пчелы; идут дожди; светит солнце; сияет радуга.
Но, с другой стороны, ни одна весна на другую не похожа. Потому что свидетель этой весны – ты – не такой, каким был год, два года, десять, двадцать, тем более тридцать лет назад… Нет прежней радости жизни, нет прежней доверчивости, надежд, ожиданий, есть потери, потери… Каждый год – потери.
Потерь становится больше и лет тоже, дорога жизни не кажется долгой, она, наоборот, укорачивается, укорачивается и твое время…
Время… Как быстро, оказывается, летит время… Кажется, словно вчера его отец Тайба сидел здесь, на этой скамейке, под этой грушей. И заставлял бегать наперегонки его и Ваху…
А сейчас Хаваил сидит на этой скамейке, нет отца, нет и сына…
У их калитки остановился белый автомобиль «Волга» последней модели. Из него вышел мужчина в темно-синем костюме и в черной шляпе. Он остановился у калитки, заглядывая во двор.
Когда Хаваил, поднявшись, шагнул к калитке, тот растерянно оглянулся и поздоровался:
– Ассалам алейкум!
– Ва алейкум салам! Добро пожаловать! – не узнавая, Хаваил пристально взглянул на гостя.
– Ты не узнаешь меня?
– Ой, Ваха, ты, что ли?.. Знать-то я тебя знаю, только вот подзабыл.
– Не мудрено забыть… Мы же не виделись почти тридцать лет…
– Удивительно, что ты пришел к моему дому сейчас, ведь столько лет ты избегал этого… Входи, входи… Ты по какому-то делу?..
– Просто так… Приехал, захотелось увидеть тебя и этот двор…
– Неужели, Ваха, ты не вспоминал этот двор тридцать лет?.. Ха-ха-ха!.. Как сильно ты полюбил город! – шутил Хаваил. – Я как раз сегодня вспоминал тебя…
– Я тоже часто вспоминал, как Тайба заставлял нас бегать наперегонки… в этом дворе…
– Как раз перед твоим приездом я думал о том же…
– Сначала, схватив меня, давал тебе фору, а потом удерживал тебя, давая фору мне…
– Вот так, обогнав меня однажды, ты убежал и до сих пор не вернулся. Ей-богу, ты оказался быстрым бегуном… Ха-ха-ха, – вновь засмеялся Хаваил. Радость встречи, воспоминания детства, сердечная обида – все вместе, слившись, придавало ему какое-то особое состояние приподнятости.
– Не так уж и быстро я бежал. Просто ты не мог броситься вдогонку – Тайба крепко тебя держал…
– Какая разница, лишь бы ты выиграл…
– Нет, Хаваил, выиграл ты…
– Как же я выиграл, Ваха, если ягненочка, на которого мы оба претендовали, забрал ты… Ха-ха-ха, – он давно так не смеялся.
– Завладев ягненочком, я не смог завоевать его сердце… Не было ни одного дня, чтобы оно не тосковало…
– Ох, бедное сердце! Сердце не успокаивается… Недоступный, запретный плод кажется слаще всех… Сердце не смиряется…
– Оказывается, дух соревновательности нужен был во всем, Хаваил…
– Перестань, Ваха… Не пытайся строить из себя того, кого в действительности нет… Ты победил, что тебе еще нужно?..
– Я не тот, кого ты знал, Хаваил… За эти тридцать лет я изменился… И победа моя – горькая победа. Я поеду…
– Ни в коем случае, не выпив со мной чаю… Слышишь? – обратился он к жене, – к нам гость приехал… Мой друг детства..
– Да будет тобой доволен Бог, Хаваил… Если бы знал, что ты так примешь, приехал бы давно…
– Я же тоже изменился, Ваха… Злость прошла, хоть обида и осталась… Знаю, что ничего нельзя принимать близко к сердцу в этом бренном мире…
– Да будет тобой доволен Бог, тяжкий камень упал у меня с сердца…
Когда, посидев с ним за чашкой чая, вспоминая былое, Ваха уехал, Хаваилу тоже показалось, что на душе у него стало легче.
XVI
Более двух лет сельчане неистовствовали: они объединялись в группы, выезжали на равнину, в города, делали вид, что работают, занимали какие-то здания, воровали все, что плохо лежит, одни из них одевались в военную форму (даже те, кто ни одного дня не служил в армии), звания себе присваивали, какие понравятся (соответственно с ними и погоны), другие ходили в национальных одеждах, в высоких папахах, а некоторые (не умеющие даже толком молиться) надевали чалмы. На третий год, в середине декабря, группа сельчан во главе с Ибади пришла к Хаваилу. Поздоровавшись, он поинтересовался, по какому они делу.
– Мы вот по какому делу… На равнине началась война… Боевые действия все приближаются… Мы пришли посоветоваться с тобой, что нам дальше делать…
– Посоветуйтесь с Аудом и Жагашем… Из них один – алим, а второй старше всех в селе… Я не старше вас и не алим…
– Мы были у них, – ответил Ибади, – они направили к тебе…
– Ну, если так, то что-то предпринять придется… Но сегодня я не готов ответить вам… Мне надо спросить совета у Ауда и Жагаша… Завтра, после предзакатной молитвы, поговорим в мечети, – сказал им Хаваил.
В ту ночь он побывал дома и у Ауда, и у Жагаша. А на следующий день Хаваил сказал собравшимся людям:
– Против военной машины мы не можем ничего предпринять, кроме искреннего поклонения Всевышнему и непрестанной мольбы к Нему о милосердии… И это надо делать. Это великое дело. Кроме того, в этой мечети не должно прерываться чтение Корана. По очереди, каждый по три часа… Таким образом, чтение Корана не должно прерываться ни днем, ни ночью… Должны быть выставлены дозоры, охраняющие село. Это говорю не я, это говорят Ауд и Жагаш. А я с ними согласен.
Люди тоже согласились. В мечети наступила тишина.
– Если вы ищете причину этой войны, то она на поверхности. Это наш образ жизни, где не было различий между дозволенным и запретным, – сказал Хаваил громко, чтобы все слышали.
Опять на некоторое время повисла тишина.
Потом, неожиданно шагнув вперед из толпы, начал кричать Ибади (видимо, его задели слова Хаваила):
– Причина этой войны, знаете, в чем, по-моему?.. У нас появились молодые люди, одетые в длинные пальто. Они не здороваются за руку, по обычаю предков, а, кланяясь, обнимаются… Видели таких?.. Поэтому началась эта война.
Люди, не понимая, о чем он говорит, удивленно смотрели на него.
Тогда Жагаш сказал (он редко говорил):
– Два года назад, весной, моя старуха поставила только что подоенное парное молоко на огонь, чтобы вскипятить. Она забыла о нем, и вскипевшее молоко убежало… По-моему, эта война началась именно поэтому.
Его люди поняли хорошо. Поэтому все дружно засмеялись.
Оставив у мечети людей, смеющихся под густым снегопадом, Хаваил отправился домой. Потом разошлись и остальные.
XVII
Холодные дни, холодные ночи, люди, оцепеневшие от страха, дети, забывшие о своих играх, постоянный грохот боев, гул самолетов, то близкие, то далекие разрывы бомб и снарядов… Трудное было время. Люди пытались всеми силами выжить. Они молились, поклонялись Богу, беспрерывно читали в мечети Коран, несли охрану села.
В одну из студеных ночей к Хаваилу пришел дозорный с сообщением, что в село вошла группа вооруженных людей, и они обустраиваются в мечети…
– Чтение Корана не прерывали?..
– Нет.
– Пусть не прерывают… Я сейчас приду…
Хаваил вызвал из мечети «гостей». Вышло несколько человек.
– Мечеть не общежитие, чтобы в нем временно жить… Если надо, место, где жить, будет… Расскажите о цели своего визита, – попросил он.
– Мы займем здесь позицию, чтобы защитить это село. И мы знаем и без твоих советов, где нам жить… Более того, мы не обязаны отчитываться перед тобой… – сказал с издевкой небритый молодой человек в вязаной шапочке, снимая с плеча автомат.
– Законнорожденный не может разговаривать так неуважительно… Если так, то знаешь, дорогой, забери свою бригаду и вали отсюда скорей! Быстро! У этого села есть хозяева! И есть люди для защиты, если надо. Ты пришел в эти горы аж из-за Терека в поисках места для позиции?..
– Верно, верно… – встал рядом с Хаваилом Ибади. – Такие, как он, стреляют из своих пищалок в небо, а самолеты в ответ бомбят, в результате гибнут невинные люди.
Пока эти двое пререкались с главарями, охрана пришлых присела, остальные жители вошли во двор мечети и с оружием в руках окружили незваных гостей.
– Не подходи! Не подходи! Я буду стрелять, – передернув затвор, парень в вязаной шапочке приставил автомат к груди Хаваила.
Хаваил почувствовал в своем сердце холодный ветер, как когда-то, когда уехал Харон.
– Это сердце пробито давно, и мне нечему удивляться, если выстрелишь и ты.
Стоящий рядом высокий худощавый человек в военной форме рукой повернул вниз ствол автомата своего товарища:
– Эти люди правы, мы должны уйти.
Парень в вязаной шапочке молча отступил. Высокий крикнул в мечеть своим товарищам. Уже уходя, один из них обернулся и крикнул:
– Когда придут русские, мы вам покажемся медом.
Никто ему не ответил.
Ровно через неделю после этого случая со стороны равнины показались первые танки федеральных войск, обхватив село полукольцом, они встали на невысоком хребте. Со стороны гор более-менее было свободно, в ту сторону, в Лака-Варша, в Шатой, в Итум-Кали, еще можно было выбраться.
– Передовые части армии, говорят, бывают очень жестоки… На равнине от их рук погибло много невинных… Поэтому люди хотят подняться выше, в другие села, пока солдаты не успокоятся, – сказал Ибади на второй день, когда танки остановились на окраине села.
– Поступайте, как сочтете нужным. Я, правда, останусь, – сказал Хаваил.
На следующий день жители, выстроившись в колонну, покинули село, большинство – пешком, а больные, старики и дети сидели на прицепах-волокушах на шести тракторах. Некоторые гнали впереди скот, а другие, отвязав, отпустили скотину, в селе все еще был корм для нее.
Оставалось около десяти человек: Ауд, Жагаш с женами, Човка, школьный учитель Шадид, живущий на окраине села, его жена Шайман и он, Хаваил… Свою жену и дочь он отправил, несмотря на сопротивление Белисат: «Как ты справишься с приготовлением еды?»
– Так же, как справлялся до женитьбы на тебе, – я без жены прожил много лет… Вы думаете, что без вас начнется светопреставление, – пошутил он, рассмеявшись от души.
Увидев его таким веселым, Белисат несколько успокоилась. Если бы дочь ушла к деду, она осталась бы, но дочь отказалась уходить одна, оставив родителей здесь, а угроза в сотни раз возрастает для девушки, ее нужно оберегать…
Многие сельчане, покидая село, подходили к Хаваилу с просьбами: присмотри за домом, присмотри за скотиной… Он всем отвечал согласием, хотя сам по этому поводу думал: «Как я смогу заботиться о целом селе?..» – но вслух ничего не говорил, чтобы не губить их надежду.
Люди, покинувшие родные очаги в этот пасмурный, влажно-студеный день, несмотря на разрывы бомб и снарядов, не потеряв, Божьей милостью, ни одного убитым или раненым, прибыли в Лака-Варша.
XVIII
На целую неделю село затихло, словно вымерло, если не считать мычание и блеяние скотины.
Войска, охватившие село полукольцом, не решаясь войти, изредка посылали на танках и бронемашинах разведгруппы (они, обстреляв улицы, быстро возвращались), так прошла неделя. А потом военные вошли в село, резали коров и овец, забирали все, что приглянется, остальное разрушали, изредка поджигали какой-нибудь дом…
Хаваил знал, что ему нечего противопоставить этому войску. Из восьми оставшихся в селе жителей читать Коран умели шестеро. Они разделили сутки на части. На человека приходилось четыре часа. Каждый должен был бесперерывно читать Коран в свои четыре часа. Хаваил определил для себя время – с двенадцати ночи до четырех утра. С четырех утра до полудня читали Коран Жагаш и его жена. После них – Ауд с женой, последним – Шадид.
Оставшиеся в селе, не покидая своих домов, читали Коран, поклоняясь Богу, молились, готовясь противостоять сердцем и душой силе, которая вот-вот может грубо постучаться в их дома.
Через три дня после того, как в село вошли войска, в полдень, раздался душераздирающий крик Човки:
– На помощь! На помощь!
Прибежавший на крик Хаваил увидел безрадостную картину. Один из солдат тянул за собой единственную корову Човки, а другой, подгоняя ее, бил, словно дубинкой, автоматом.
Пытаясь им помешать, вокруг с криками металась Човка, а военный у ворот, направив на нее автомат, кричал:
– Я убью тебя! Отойди! Убью!
– Товарищи солдаты! Почему вы роняете солдатскую честь? Вас что, прислали сюда, чтобы убивать скот стариков? – крикнул Хаваил.
От неожиданности солдат растерялся, и корова, вырвавшись, убежала в лес.
Военный у ворот (он, видимо, был офицером) крикнул двум другим:
– К стенке его! Не все бандиты, оказывается, покинули село.
Солдаты поставили Хаваила к стене.
– И эту старую ведьму туда же!
Човку тоже поставили рядом.
– А сейчас идите, обыщите село и приведите всех, кого здесь найдете! Быстро!
Но им не пришлось искать, показались солдаты, гнавшие впереди себя сельчан.
– Оказывается, эти тоже остались…
– К стенке! Родителей бандитов…
Рядом с Хаваилом поставили Жагаша и Ауда с женами. Шадида и Шайман, видимо, не нашли.
– Чтение Корана не прервано – продолжается, – сказал Жагаш на ухо Хаваилу, – я читаю про себя.
Хаваил улыбнулся.
– Лицом к стене! – закричал офицер, вращая осоловелыми от водки глазами.
Но ни один не шелохнулся.
– Я приказал вам отвернуться к стенке! – офицер дал длинную автоматную очередь поверх голов людей.
– Ты на нас не кричи! Эти люди годятся тебе в деды, а я – в отцы. Не мучай старых людей, а если ты мужчина, отойди со мной в сторону – один на один! – твердо сказал Хаваил.
– Ха-ха-ха, – зло рассмеялся ОФИЦЕР. – Век рыцарей давно прошел. Ты отстал на несколько столетий. Отвернись, Дон-Кихот хреновый! – опять выстрелил поверх голов ОФИЦЕР.
Но Хаваил, не отдавая себе отчет в своих действиях, шагнул к нему.
– Стой! Стой тебе говорю!
Хаваил не остановился. Раздался выстрел. Он почувствовал холодок на голове. Притронулся – не было папахи. Она валялась на снегу, пробитая пулей. «Тот, у кого пробито сердце, стерпит и пробитую папаху… Ничего», – подумал Хаваил, нагнулся и поднял ее.
Тут, перекрывая его шум, завопила Човка:
– Советские солдаты! Помогите! Спасите нас от бандитов, помогите! Спасите! Спасите!
В это время на двух БТР-ах подъехало около двадцати солдат. Выпрыгнув с машин, они окружили двор.
Старший из подъехавших и офицер, приказавший расстрелять мирных, зло кричали, направив друг на друга оружие.
В результате, мародеры во главе со своим командиром ушли к окраине села.
– Простите! Пока я здесь, вам больше ничто не угрожает! – сказал их спаситель и уехал, забрав своих солдат. Село потонуло в реве моторов БТР-ов, шум, постепенно удаляясь, стих.
XIX
Во второй половине марта беженцы вернулись в родное село.
– Чем бегать впереди войны, лучше, подождав, пропустить ее, – сказал Ибади.
Жизнь в селе протекала очень тоскливо. Часто случались беды: некто, отправившись за скотиной, пропал без вести, кто-то на окраине села подорвался на мине, третий погиб от осколка снаряда, четвертый умер от разрыва сердца, кто-то еще – от инсульта… Преступления… беды… горе…
С каждым днем на село давила еще одна приближающаяся беда: у людей кончались продукты питания. Правда, была кукуруза, но единственная в селе водяная мельница (кому она могла помешать?) была разрушена авиацией. И призрак голода с каждым днем становился виден все отчетливей… В селе нашли одну ручную мельницу, у Жагаша… На ней люди по очереди мололи кукурузу. Из сечки варили кашу.
К командованию войск, окруживших село, люди отправили делегацию во главе с Хаваилом. Объяснив свое бедственное положение, «парламентеры» попросили пропустить на равнину группу сельчан для закупки продуктов.
Те посоветовали как-нибудь перебиваться, так как дороги небезопасны и они могут просто погибнуть в пути.
Через неделю после этих переговоров люди устремились в центр села: «Муку привезли, муку привезли», – радостно сообщали они друг другу.
– Да будет им доволен Аллах! Кто же он, вспомнивший о нас, несчастных?
– Говорят, сын Хаваила.
– Он в трудное время пришел к нам на помощь, да будет им доволен Аллах!
– Хотя Хаваил и похоронил его, этот парень показал, что он все еще жив…
– Ей-богу, в трудное время узнаешь, кто есть кто…
– Говорят, добиваясь разрешения приехать сюда, он заплатил офицерам очень много денег.
– Пусть Аллах зачтет ему его заслуги!
Торопясь в центр села, Белисат слышала все это про своего сына. И эти слова были для нее самой прекрасной музыкой на свете, она многое отдала бы, чтобы все это слышал его отец.
Возможно, сейчас, когда люди так отзываются о сыне, он простит его? С надеждой, что на этот вопрос может быть положительный ответ, не задерживаясь долго с сыном, взяв два ведра муки, доставшиеся ей, Белисат заторопилась домой, оставив Айзан с братом.
– Мне больше не досталось, – сказала она Хаваилу, поставив муку на веранду. – Обещал вернуться через несколько дней, чтобы привезти еще муку и сахар.
В ответ Хаваил промолчал. Не сказал, как раньше: «Как умерший…» Это было добрым знаком и большой радостью для Белисат. Ее глаза наполнились слезами.
Через несколько дней Харон вновь привез в село продукты. Хаваил спросил у Белисат, вернувшейся из центра:
– Ты почему не пригласила его в дом?..
– Не зная, что ты скажешь… Может, еще не уехал, – со слезами на глазах устремилась обратно Белисат.
Но, увидев тяжелый грузовик, выезжающий из села, она огорченно вернулась назад.
– Через неделю он снова обещал вернуться, – сказала она больше самой себе, чем мужу. – Тогда приглашу…
Но Харон через неделю не приехал. А Хаваил, как когда-то, отправив его учиться, начал переживать.
Однажды в предрассветные часы он увидел странный сон. Вокруг него стояло много людей… Среди них его родители. В стороне стоял боевик в вязаной шапочке, смеясь, он показывал пальцем на Хаваила и что-то говорил стоящему рядом. Кто же он? Да, конечно, это тот самый офицер, простреливший его папаху. Что же они увидели на мне? Осмотрев себя, он обнаружил: там, где должно быть сердце, зияет большая дыра… Сквозь нее видно небо с белыми облаками, дыру продувает ветер. Хаваил прикрывает отверстие в груди рукой, ветер затягивает руку… Потом видит Харона, маленького Харона, его Тайба заставляет бегать наперегонки с золотоволосым мальчиком: сначала дает фору этому мальчику, потом…
Проснувшись, не имея сил встать, Хаваил долго лежал в постели под тяжестью впечатлений от этого сна. Потом, поднявшись, совершил омовение и утреннюю молитву. После молитвы обратился к Творцу с долгой мольбой, прося прощения для умерших и защиты для живых, прося счастья в обоих мирах.
Присев у окна, прочел Коран. Опять помолился. Увидев, что Белисат встала, позвал ее:
– Белисат, проститься навсегда с родными, любимыми так же тяжело, как умереть…
– К чему ты это говоришь?
– К тому, что, что бы ни случилось, ты должна быть терпеливой, всеми помыслами опираясь на милость Божью.
– Что же с нами случилось?..
– Я видел нехороший сон…
– Да поможет Аллах избежать зло… Что за сон?..
– Я не хочу рассказывать о нем. Помолись и пожертвуй неимущим что-нибудь.
Пока Белисат пекла жертвенные лепешки, день вступил в свои права. Он был ясным, солнечным. Зеленели склоны гор, кое-где пестрели желтые и ярко-синие цветы.
Ближе к обеду сельчане с Аудом и Жагашем во главе пришли к дому Хаваила. Молодые люди несли на медицинских носилках Харона.
– Увидев на окраине села грузовик, который почему-то долго стоял, мы подошли узнать, в чем дело. Он лежал в кабине… Видимо, убит из автомата… Скорее всего, вчера вечером… Я слышал, как там вчера стреляли… Пропустив через блокпост, открыли огонь вслед… Вез для нас продукты.
Голос Ибади слышался издалека, из болезненного, густого тумана, или Хаваил слышал все это во сне?
Только после обеда закончились приготовления к похоронам Харона. Все жители села: стар и млад – пришли на кладбище, несмотря на уговоры Хаваила: «Человек десять хватит, если будет скопление людей, самолеты могут нанести бомбовый удар».
После того, как тело Харона было предано земле, люди, останавливаясь у его могилы, начали свидетельствовать, рассказывая о его мужестве, чистосердечии, щедрости… Свидетелей было много, каждый хотел высказаться. Но Ауд остановил, сказав:
– Теперь достаточно! Хорошие отзывы! Идите, да будет вами доволен Аллах… Время молитвы наступило.
Люди, не спеша, разошлись.
Жагаш задержался с Хаваилом.
– Хаваил, я похоронил тридцать семь близких родственников… Это тяжело переносить… Знаю, что тебе тяжело вдвойне: трудно хоронить своего ребенка дважды.
– Нет, в первый раз было особенно тяжело… Сейчас не так трудно…
– Да, да… Я понимаю… Да поможет тебе Бог справиться с этим горем, Хаваил, да поможет Бог, – попрощался Жагаш.
Люди уже давно ушли, солнце коснулось вершины горы, а Хаваил все еще стоял у могилы сына.
В горле застрял комок досады и обиды. И еще долго, очень долго этот комок не отпустит Хаваила. Он долго будет нести эту обиду в сердце, потому что ему еще надо идти. Харон стремительно пробежал этот путь, чтобы уйти раньше, чем он, оставив после себя столько хороших свидетельств людей. А он все еще должен идти вперед. Надо привезти семью сына. Жене будет успокоение. Как только обстановка станет спокойней, надо забрать. Хвала Аллаху! Большое благо, что хоть они есть. Надо за детей принести обязательную благодарственную жертву… Харон, наверное, и не подумал об этом. Ушел, так и не дав обучить себя хоть чему-то. Ненадолго, оказывается, пришел он в этот мир.
Когда Хаваил шел домой, в небе показались самолеты…
Они, неистово кружа, разрывая небеса воем моторов, начали бомбить горы. Земля содрогалась от взрывов.
Хаваил не обращал внимания на происходящее вокруг: ни на разрывы бомб, ни на вой самолетов. В его сердце была бесконечная боль и вместе с ней какое-то удивительное успокоение. И Хаваил шел, неся в себе и боль, и покой.
Ступать надо было осторожно, потому что дорога шла по поверхности озера. Но груз был тяжелым, даже жизнь сама по себе оказалась грузом, сколько ни старался скользить, сколько ни старался избежать боли, каждый год на его плечи, на его сердце ложилась новая тяжесть…
Потеря родителей, потом Кесиры, а потом это село, сначала сделавшее из него дурака, потом сумасшедшего, а теперь пытавшееся сделать из него лидера, старейшину, эти неразборчивые люди, этот сын, эта война…
Это лихое время, не дающее жить спокойно, зарабатывая праведно на необходимое в жизни, поклоняясь Богу, любуясь закатом и восходом, наблюдая за осенним листопадом и оживанием природы весной… Все это сбивало шаг, ноги тяжелели, но нельзя было остановиться ни на мгновение, остановишься – утонешь в бездонном мутном озере. А кто знает, что там тебя ждет? Поэтому надо было скользить по поверхности этого озера, чтобы пройти этот путь до конца, не сбиваясь.
2004.
[1] «Ясин» – отходная молитва.
2 Уважительное обращение чеченок к мужу.
3 Бешто – герой одноименной повести С. Бадуева.
4 Назма – религиозная песнь.
5 Идиоматическая форма оплакивания у чеченцев.
Перевод М. Эльдиева.
Дикая груша у светлой реки
1
Довт не знал, сколько времени он пролежал на вещах, разбросанных на полу времянки, находящейся во дворе чужого полуразрушенного дома.
Он пришел сюда в ночь, когда город покидали чеченские боевики. Как-то не по душе ему это пришлось. Люди, приготовившиеся к длительной обороне («Если понадобится, будем и целый год стоять»), неожиданно снялись, заявив: «Так, пошли, нам нужно выходить», – легко забыв свои прежние слова, собрались в дорогу. Обращаться с вопросами к лидерам никто не осмелился, так как тем удалось воспитать слепо преданных воинов, готовых выполнить, не обсуждая, любой приказ.
Раньше было иначе. В первую войну предводители делились своими намерениями. Каждый рядовой воин высказывал свое мнение, и план вырабатывался только после всеобщего обсуждения. Царило взаимное уважение. Постепенно, шаг за шагом, оно сменилось беспрекословной преданностью, за неповиновение наказывали, за непокорность расстреливали. «Без жесткой дисциплины мы не сможем воевать, без этого не обходится ни одна армия в мире». «Так-то оно так, но чеченцы – своеобразный народ, у нас могло бы быть по-другому», – так он думал раньше, так оно и было. Однако лидеры некоторых группировок легко разрушили то, что прежде казалось незыблемым.
Не думал он, что чеченец оскорбит чеченца, попытается опорочить, сможет поднять на него руку… Не думал, что чеченец будет стрелять в чеченца только из-за того, что тот выразит свое несогласие с ним. В детстве, когда читал о таких преступлениях у других, больших народов, он думал: «Как хорошо, что среди чеченцев подобного нет и быть не может…» Случилось же не только это, но и много такого, из-за чего он пожалел, что родился в этом краю.
Но делать было нечего: ни родину, ни народ не выбирают. Поэтому приходилось нести свое бремя, но при этом оставаться свободным в своем выборе, не становясь слепым орудием в чужих руках.
Усман тоже знал, что эта свобода выбора должна быть у каждого. Узнав, что тот набирает свою группу, Довт записался первым. Во-первых, они были родом из одного села, во-вторых, ему нравился характер Усмана. Он не строил из себя, подобно другим, всезнайку, и тайн у него не было: все на виду, всем делился с товарищами… Кроме того, был на настоящей войне, в Боснии, отправившись на помощь мусульманам, получил там ранение, от которого ослеп на один глаз, потому и носил темные очки. Когда началась первая война и российские войска подошли вплотную к Грозному, он, собрав своих воинов, сказал: «Ребята, это очень страшная война. Война, если это война, должна вестись на рубежах страны, пока не определится победитель. Затем, одержав победу или признав поражение, нужно завершать ее, не допуская истребления мирных жителей, женщин, детей. «Америка это заявила, Англия то сказала, ООН не допустит… Весь мир придет на помощь…» – я не верю этим разговорам. Видел я в Боснии их помощь! Даже если нас всех здесь перебьют, никто не придет на помощь, кроме Всевышнего. Закопать придут, когда от трупов понесет смрадом. Это и есть вся помощь. Поэтому я вам говорю: можете отправляться по домам. Если вы спасете свои семьи – это уже большое дело. Я же не собираюсь отступать, да мне и некуда отступать. Я намерен принять смерть в бою. Кто принял решение идти до конца – останьтесь со мной, остальные идите по домам. Я ни на кого не буду держать зла, наоборот, буду этому рад». Хотя он так и сказал, из его тридцати двух товарищей никто не ушел домой. Вероятно, были и такие, которые хотели бы разойтись по домам, в глубине сознания и у Довта было желание уйти с этой обреченной на поражение войны. И все же… Гордость не позволяла… Чеченская гордость и честь… Они стали против танков, рвущихся в город с восточной стороны. Шестнадцать подбили. И не отступили, погибли.
Усман вышел навстречу подобравшемуся вплотную танку с огнеметом в руках и был смертельно ранен, но успел нажать на курок. Танк загорелся, остановился в метрах двух от упавшего Усмана. Довта тогда ранило, он стал хромать на левую ногу.
За несколько дней до того боя Усман сказал ему: «Довт, у меня дома остался старый отец, мать умерла еще лет пятнадцать назад… Если переживешь меня, присмотри за ним…» Еще до того, как зажили раны, Довт попросил отвезти себя к отцу Усмана. Он оказался очень старым человеком, лет около ста. Но держался бодро и был в трезвой памяти.
«Усман был благородным человеком, полным стойкости и мужества», – сказал Довт.
«Теперь он, наверное, понял, кем он был, чем занимался», – ответил отец.
Довту не пришлось идти к нему второй раз: через неделю старик, проведя в постели только сутки, скончался.
После гибели Усмана Довт остался один, не примкнул ни к какому отряду. К счастью, он был свободен в своем выборе. Старшие братья увезли мать в Тюмень, звали и его с отцом… Однако он свой выбор сделал: остался дома. И отец отказался ехать.
Когда Довта ранили, старший брат, Довка, вновь примчался домой, ухаживал за ним, пока он не встал на ноги. Снова старался уговорить Довта уехать: «Эта война начата, чтобы погнать чеченцев, которые хорошо устроились в Москве, других городах… Она не принесет нам никакой свободы… То, что делаете вы, это только повод для нашего уничтожения… На другое у вас и сил нет…»
Довта очень разозлили эти слова, другому он не простил бы их. Но брат есть брат. Нужно стерпеть, как бы не прав он ни был. От обиды глаза наполнились слезами.
«Ты думаешь только о своем благополучии, работе. Я же думаю о свободе нашего народа», – сказал он. «Мой брат, все вы куклы, управляемые для своей выгоды теми людьми, про которых вы ничего не знаете… Ты сейчас не понимаешь этого, но потом, если подумаешь, поймешь!»
Довт, не попрощавшись, развернулся и ушел. С тех пор оба его брата не предпринимали попыток увидеться с ним, да и он к этому не стремился. Отдалились они друг от друга, отдалились… Смотри-ка, и между братьями, оказывается, может быть отчуждение… Тогда, в детстве, когда слышал, что братья рассорились из-за земли или по какой другой причине, как он удивлялся! Он бы не ссорился с братом: землю, скотину, все что угодно отдал бы… А как он теперь отдалился от своих братьев! Выходит, и так бывает. Того, о чем думалось в детстве, и в помине нет.
Приехавшие на похороны отца братья больше не заговаривали о его отъезде. Видимо, думали, что его взгляды такие же, как и прежде. Однако они начали меняться уже тогда. Но своим братьям он об этом не сказал бы. Повторил бы свои прежние слова. Эти слова были записаны в памяти, как на магнитофоне, и произносились им в нужный момент, когда разговаривал с теми, кто с самого начала был против. Но в спорах с боевиками он всегда говорил то, что думал. Значит, и он стал лицемером, который говорит одно, а думает другое? Как знать… После гибели Усмана он не пристал ни к одной группе: во-первых, среди полевых командиров, появившихся как грибы после дождя, он не видел человека, который был бы достоин Усмана; во-вторых, ему тяжело было терпеть новые порядки, установленные этими людьми. Он слушался своего сердца, также советовался со своими двумя товарищами, которые, как и он, ценили свою личную свободу.
Больше всего ему не нравилось в этих вожаках то, что они не только сами питали иллюзии, но и своим бойцам и другим людям невозможное рисовали возможным.
Когда он спрашивал кого-нибудь из их бойцов: «Вы хоть знаете, что вы делаете, к чему идете?» – одни, не отвечая, задумывались. Некоторые от души говорили: «Валлахи, не знаю, хожу с ними по инерции. Раз вошел в их группу, как-то неудобно выйти из нее». – «Конечно, знаю! – воодушевлялись третьи. – Мы создадим свое государство от моря до моря!» – «Если ты, крикнув изо всех сил, ударишься головой о каменную стену, ты сможешь пробить ее?» – «Смогу, если на то будет воля Бога. Все в Его силах!» – «И камень крепким, и твою голову хрупкой создал Бог. Чтобы ты не бился головой об стенку, Он дал тебе ум». – «Перестань, не повторяй речей продавшихся». – «Да падет проклятие Всевышнего на головы семи предков продавшихся!»
Случалось, и такие ссоры вспыхивали, однако большинство походило на две первые группы: считая, что главарям, раз они так самоуверенны, известно что-то такое, чего не знают другие, а значит, есть какая-то надежда, рядовые во всем слушались их. Не говоря ни слова поперек, они шли за ними к беде, не догадываясь, насколько эта беда большая, ужасная. Он часто злился, почему другие не видят то, что видит он, почему каждый не слушается своего сердца, как он, ведь оно видит, что верно, что нет.
Ясно же, что власть, избранная большинством народа в надежде на мир, не заботится об этом народе, что это до добра не доведет; видно же, что, когда некий новоявленный олигарх, которому наплевать на тебя и твой народ, тем более на твою идею свободы, выделяет огромные деньги, чтобы ты шел войной на соседей, таких же мусульман, как ты, – это ловушка, которая принесет зло всему народу. Тем не менее, оставаясь глухими к разумным словам, не замечая очевидного, ослепнув, помчались сеять бурю…
То же самое, что он сейчас говорит другим, лет семь — восемь назад, когда все только начиналось, говорил ему Дени. Однако тогда это ему казалось пустым шумом, который мешал начавшему мощно звучать гимну свободы. Брехней собак, пытавшихся это звучание заглушить. Но с годами пришла мысль, что, видать, правы они были – и братья, и Дени, и их товарищи, что ко всему, касающемуся судьбы народа, нужно относиться очень бережно, а тот, кто пытается показать в этом деле отчаянную храбрость, – либо дурак, либо специально пытается привести народ к беде. Эти мысли зародились у него несколько лет назад, но он не мог так просто перейти на сторону Дени. Он этого никогда не сделает, он готов, скорее, погибнуть, придя на помощь несчастным людям, чем сделает подобное.
В его душе был дикий лес, замороженный, продуваемый ветрами, и городские развалины были в его душе, и воспоминания о той спокойной жизни, которая когда-то была в этой стране, и скорбь по всему утраченному, скорбь по погибшим молодыми товарищам, особенно по другу детства Берсу… – все это, подобно тяжелым мельничным жерновам, лежало в его душе, замедляя биение сердца. Сколько выдержит душа такую тяжесть? Когда сердце, подобно пузырю, разлетится на мелкие куски?.. Этого он не знает.
От тяжести раздумий Довт снова ничком падает на вещи в надежде, что сон избавит его от тоски.
2
Он долго находится в полусонном состоянии. Очнувшись от дремы, Довт начинает перелистывать ворох снов. Это были какие-то обрывки прошедших событий, без начала и конца… Черные, в саже, полные грязи сны… Но среди них выделялась одна светлая картина: ярко-зеленая лужайка, река с прозрачной водой, на ее берегу, раскинув широко тень, красивое дерево; когда он приблизился, тень пропала, а дерево превратилось в Берса, он стоял, улыбаясь, как и в жизни… Ему показалось, что он где-то уже видел и это дерево, и светлую реку, видел наяву. Подумав, вспомнил. Эта река протекала рядом с их селом, на ее берегу росла дикая груша. На ней росли сочные, кисло-сладкие плоды. В детстве, осенью, они ходили туда после уроков собирать спелые груши. Там всегда были дети. Или овцы, коровы. Плодов с дерева хватало всем. «Пусть Бог сделает к добру, Берс, твое явление во сне, – сказал Довт, садясь. – К чему бы это?» Впервые он увидел Берса во сне месяц назад, за сутки до выхода чеченских боевиков из города. Тогда он, Берс, стоял в стороне от людского потока, в белом одеянии. Он что-то кричал ему, идущему с людьми. «Он пришел мне на помощь… Говорит, чтобы я не уходил с ними… Или же предупреждает, что приближается время покинуть этот мир?» – подумалось ему тогда.
Потом, утром, когда полевой командир среднего звена Нажмуддин, с которым они были в хороших отношениях, сказал, что принято решение предстоящей ночью покинуть город, он прочитал в виденном накануне сне предостережение. «Он хотел меня предупредить, чтобы я не уходил с ними», – истолковал он сон. А Нажмуддину сказал: «Этого делать нельзя… Сердце предвещает мне большую беду…» – «Это решение принято теми, кто выше меня, я не смогу ничего изменить…» – «Как? Как можно выйти из города, обложенного тройным кольцом?» – с похолодевшим сердцем спросил он. – «Заплатили», – слабо улыбнулся тот. – «А вы не думаете, что те, кому вы заплатили, способны на коварство?» – повысил голос Довт. Нажмуддин долго стоял перед ним и молчал. Потом тихо произнес: «Все будет так, как захочет Бог…»
В ту ночь Нажмуддин подорвался на мине. «Что же теперь будет?» – сам себя спросил Довт. Потом сам себе и ответил: «Какая разница? Что только в этом городе не происходило? Чего он только не испытал?» Неожиданно Довт почувствовал голод. Он не помнил, когда последний раз ел. Давно. Он начал перебирать вещи. Нашел одну консервную банку с говядиной. Ножом быстро открыл ее. Мясо заморожено. Было бы неплохо его подогреть, и ему бы чуть теплее стало. Но для этого нужно выйти во двор, там горит газовое пламя. А это опасно, в свете огня снайпер может засечь силуэт.
«Раз уж кушать, покушаю-ка я по-людски. Будь что будет», – вышел Довт. Скоро он вернулся с подогретым мясом.
Аккуратно орудуя ножом, быстро закончил с тушонкой. Взял кусок лепешки, завернутый в бумагу. Хлеб нужно экономить, те, кто пек его для Довта, уже ушли. Мясо было солоноватое, поэтому он скоро испытал жажду. В кране во дворе вода не идет. Он взял с крыши низкого навеса снег и снял верхний слой, покрытый сажей. Положив снег в жестяную банку, поднес к пламени. Снег быстро растаял. Выпив там же талую воду, он с ковшом вернулся в комнату и снова прилег на вещи.
В последнее время он не только видит Берса во сне, но и часто вспоминает о нем.
Берс был ровесником Довта, они учились в одном классе. Ребята всегда были вместе. Довт никогда не учился хорошо, старался лишь, чтобы его на второй год не оставили. Берс хорошо усваивал материал, но не стремился стать лучшим учеником. При желании получал и «пятерки», и «тройки». Но был у него один любимый предмет, за него он никогда не получал оценку ниже «пятерки».
Берс хорошо рисовал, особенно природу, и портреты у него выходили, как живые. Он давно определился в выборе профессии художника. Раньше всех начал и деньги зарабатывать: в седьмом классе председатель колхоза заказал ему плакат крестьянина с надписью внизу: «Да здравствует труд!» За эту работу Берсу заплатили сорок рублей. В то время это были большие деньги, особенно для них, детей. Берс не утаил эти деньги, он их потратил вместе с ним и Дени, поехав в воскресенье в город. В трех кинотеатрах посмотрели три фильма, три раза побывали в кафе, ели мороженое, пили газированную воду, в парке катались на чертовом колесе и лодке… В общем, гуляли в этот теплый майский день до самого вечера.
Заходили и в книжный магазин. Берс купил три экземпляра сборника стихов «Горные пейзажи». «Здесь интересные стихи и песни, – сказал он. – Когда-нибудь, через много лет, нам будет это как память… Будем вспоминать, как мы сюда приехали, весело провели время». Он надписал каждую книгу: «Пусть наша дружба будет нерушимой!» Все трое подписались под ней и поставили число. Где сейчас, интересно, эта книжка?! До сих пор и не вспоминал о ней. Да и зачем она сейчас нужна?! Она лишь усилит тоску, напомнит день гибели Берса.
Дени не признается, что Берс погиб от его руки. Он пришел в центр села и принес клятву в своей невиновности, хотя никто не просил его об этом и родственники Берса отказались ее принимать. У Берса нет ни родного, ни двоюродного брата, чтобы отомстить, имеются лишь дальние родственники. Его мать Хадижат одна воспитала сына. Гибель сына сломила ее, и она не прожила после этого и года. В придавленном бедой доме Берса осталась только его жена Камета с двумя детьми. «Не беспокойся, Берс, за тебя отомстит твой друг… Дай только мне добраться до этой собаки», – устав от мыслей, Довт закрывает глаза и переворачивается на другой бок. Но ему не спится: грохот, раздающийся то там, то здесь, гонит так нужный сейчас покой.
Довту хочется думать, это отвлекает, помогает забыть жестокую реальность.
Дени всегда учился очень хорошо, его отец работал в районной милиции, ездил на работу в персональной машине.
Денилбек по утрам высаживал Дени у школы и ехал в райотдел. Они все завидовали Дени: у его отца была машина, которая имелась в селе не у всякого, а на поясе он носил пистолет. Зависть возросла, когда Дени рассказал им о том, что отец брал его с собой на шашлыки и там два раза дал выстрелить, после этого ребята стали гордиться дружбой с Дени. Их тройка была неразлучна и в школе, и дома. Их прозвали «тремя мушкетерами». Это им очень нравилось. Главным мушкетером – Д’Артаньяном – был Дени, потому что он уже стрелял из пистолета, кроме того, отлично учился, быстрее всех бегал, хорошо играл на пионерском горне, и ни Берс, ни Довт не оспаривали этого первенства. Дени, как и Берс, заранее определился в своем жизненном пути: он пойдет учиться в Высшую школу милиции, затем, как отец, будет работать начальником.
Только Довт тогда еще не определился, какую специальность освоит. Два его брата ездили в далекую Сибирь. Один из них, старший Довка, там же поступил в институт на зоотехника. Он сделает то же самое или… Как знать? И родители не очень следили за его учебой. Отец, Ховка, жил, разводя живность, сажая на огороде кукурузу. Мать, старшие братья и сестры помогали ему. Когда учительница Кемиса Бетировна пришла к ним с жалобой, что он не ходит в школу, учится слабо, отец сказал ей: «И наши предки не ходили ни в школу, ни в медресе… Не огорчайся из-за его плохой учебы!.. Работай легко. Даже если он не будет учиться, Бог даст ему то, что суждено».
Будучи разными в усердии к учебе, они были близкими друзьями, не могли провести и дня друг без друга. По правде говоря, дружба несколько охладела, когда отец, после того, как вернулись из той поездки в город, сказал ему: «Все семь предков этого сироты Берса были благородными людьми… Однако будет ли вам другом сын милиционера?» – «Почему ты так говоришь, дада?» – спросил он. – «Почему? Да потому, что его дед, Денисолта, работал в НКВД. А твой дед, Бага, не стерпя несправедливости властей, ушел в абреки. Его дед, исполняя роль посредника, сказал Баге: «Не будешь же ты вечно жить в бегах?! Если я останусь жив, я добьюсь, чтобы тебе дали только года два или же вообще нисколько, вернись домой», – и привел с повинной. После этого твой дед бесследно исчез. Правда, сам Денисолта после этого недолго прожил на свободе, его арестовали, навесив клеймо «прихвостень Троцкого». Такое странное было время. Поэтому я говорю».
С тех пор его дружба с Дени несколько охладела, и с каждым днем их пути начали расходиться. В итоге случилось так, что их связывал только Берс: он был другом обоих, и каждый из них был другом Берса. Берс никогда не говорил им ничего такого, что не понравилось бы одному из них, ничего, что навредило бы их дружбе, наоборот, ему говорил: «Дени считает тебя очень хорошим парнем». Точно так же он, оказывается, говорил и тому: «Довт о тебе всегда хорошо отзывается». Но, как бы ни трудился Берс, трещина в их дружбе с каждым днем расширялась. В начале десятого класса, когда к ним пришла новая ученица Камета, эта дружба переросла в соперничество. Девушка училась хорошо, и русский язык она знала неплохо. Она пришла в класс, ослепив его каким-то особым светом, оттенив своей учебой Дени, который до нее считался лучшим учеником. Все парни в классе влюбились в нее, все девушки хотели добиться ее дружбы. Мать Каметы устроилась на работу в школу учительницей пения, отца направили в колхоз парторгом. Хотя Дени и был недоволен тем, что Камета вырвала из его рук первенство в учебе, ее красота растопила его недовольство, и он крутился около нее, задавая всякие вопросы, пытаясь завести разговор.
Когда стал вопрос о необходимости выдвинуть лучшего ученика на золотую медаль за отличную учебу и хорошее поведение, а директор и учителя растерялись, ведь до сих пор это первенство некому было оспорить с Дени, а теперь добавилась Камета, и, хотя она учится здесь всего год, не принять ее успехи во внимание будет неправильно, – Дени, явившись на педагогический совет, заявил, что Камета больше достойна этой медали и он ее не будет с ней оспаривать.
Учителя тогда очень удивились его благородству. Об этом поступке долго говорили в школе и селе, расхваливая парня. Довт же хорошо понимал смысл его «подвига»: Дени хотел завоевать девушку даже ценой золотой медали.
Как-то ясным весенним днем Дени подошел к нему и Берсу в школьном дворе и сказал:
– Ребята, мы все трое влюблены в одну девушку. Зачем скрывать то, что видит Бог?
– Это видят и люди, – сказал Довт.
– Мы – три друга… Но я слышал, как старики говорят: «Не делай добра женщиной даже брату».
– А что это значит? – не понял Довт.
– Этот вопрос задал и я, – Дени был очень весел. – Старики разъяснили мне: любимую девушку не уступай даже брату, что там говорить о друге!
– С каких это пор ты стал прислушиваться к старикам? – не унимался Довт.
– С тех пор, как Камета приехала в наше село, я прислушиваюсь и к старикам, и к молодым, и ко всему миру, – смеялся Дени.
– И я кое-что слышал от стариков: девушка принадлежит тому, кто завоюет ее! – сказал он.
– Я согласен с этим! – Дени со смехом протянул Довту руку. – Вах-ха-ха!
Берс ничего не сказал, стоял, надувшись, как мяч, почему-то покраснев. Довту стало его жаль: на фоне друзей он не очень смотрелся, был невзрачен – толстый, невысокий, в очках, кучерявый. Ему не на что надеяться, разве только на свое мастерство художника.
Довт улавливал не только все разговоры, касающиеся Каметы, но и любую мысль о ней. Он знал, почему Берс стоит молча, знал, почему прячет все свои последние картины: на всех картинах был один образ – Камета.
Довт не смог бы ее нарисовать или написать для нее стихотворение, но он был готов на все, лишь бы обратить на себя внимание этой яркой звезды, чтобы она сияла для него. Он хотел слагать в ее честь песни, в мыслях сами собой рождались некоторые слова, они звучали в удивительных тонах. Мелодия стремилась наружу. Однако ее останавливала появившаяся вдруг застенчивость, кроме того, мелодию надо было прослушать самому, прежде чем услышит возлюбленная или другие люди. Для этого ему нужно было уединенное место. Он отправился в лес и, чтобы его никто не слышал, углубился в чащу. Там он излил все накопившиеся в душе мелодии, слова прозрачному ручейку, бежавшему по белым камням, устремившимся ввысь, к солнцу, деревьям, кустам, путающимся в их ногах. Долго оглашал он лесную чащу, рассказывая ей о своих светлых чувствах к Камете и чувствуя во всем теле легкость, веселость, словно Камета слышала эту песню его сердца и высоко оценила; вернулся в село вечером, когда сгущались сумерки.
Довт удивлялся одному: мир до появления в селе Каметы и после этого был не одним и тем же. Мир-то, возможно, и не изменился, но виделся он ему другим, не таким, как раньше. Странное дело, из-за одного человека познать столько неизвестных прежде радостей, столько красок, цветов, полутонов, разных голосов, печали, песен, мелодий родников, дождей, солнечных лучей в лужах, чувств своей горящей души!
Мир был удивителен, раз познавший не в силах был забыть его, Довту казалось, что без этого ощущения мира он не сможет жить. Однако для того, чтобы это ощущение мира было всегда с ним, ему нужно было согласие Каметы. Но таких взаимоотношений с ней искали многие. Некоторые даже засылали сватов. Но родители девушки и слушать их не хотели, заявив, что не допустят, чтобы их дочь месила грязь в селе, она должна учиться. С одной стороны, это было хорошо: у него оставалось время подумать о шагах, необходимых предпринять. Были разговоры, что отец Дени просил отца Каметы выдать за сына дочь, как только он окончит школу милиции и вернется домой. Говорили, что тот согласился. Но для этого нужно пять лет. Кто знает, что случится за это время? Но ждать, пока что-либо произойдет, нельзя. Нужно забрать ее, забрав же, он расскажет ей о своем открытии мира, тогда она согласится – не может не согласиться, увидев красоту этого мира! Ну а если дочь согласится, родители ничего не смогут сделать, они смирятся.
Учитель математики Закри, лет тридцати, до сих пор жил холостяком, похоже, он тоже был влюблен в Камету. Как бы то ни было, когда на выпускном вечере три друга – Довт, Берс и Дени – стояли, забыв обо всем на свете, и наблюдали за Каметой, которая шла с цветами, еще более прекрасная, чем обычно, Закри подошел к ним и, улыбаясь, сказал:
– Ребята, я кое-что расскажу вам… Когда зимой молодых бычков выводят к озеру, они стоят, тычась мордами в лед, принюхиваясь (правда, я не знаю, какой запах может быть у льда) и оглядываясь по сторонам. Видели? А я видел. А взрослый бык с ходу ломает лед копытом, напивается и уходит…
– И что? – спросил Дени.
– Все. Подумайте над моими словами, – поправив узелок на своем красном галстуке и не переставая улыбаться, Закри ушел.
Они, посмотрев друг на друга, засмеялись. Засмеялись не потому, что поняли смысл сказанных им слов, просто они впервые видели, чтобы Закри говорил о чем-нибудь другом, кроме своих математических знаков и уравнений. Смысл его слов дошел до Довта позже, через час: вы стойте и смотрите на девушку, а я ее заберу. Это еще посмотрим! Потом – танцы, песни, разговоры, веселье, смех… Среди всего этого он через одну девушку зазвал Камету в пустой кабинет.
– Камета, извини… Я бы сказал тебе пару слов.
– Ничего, говори.
– Камета, у меня к тебе одна просьба.
– Какая просьба?
– Не спеши выходить замуж.
Камета удивленно вскинула брови, потом засмеялась.
– И сколько мне сидеть дома? – она посмотрела в его глаза. Ее взгляд обжег душу.
– Пока я не вернусь.
– А куда ты отправляешься?
– Я… на работу, зарабатывать деньги… на полгода…
– А-а… Я и не намерена скоро выходить замуж, только отучившись в институте…
– Значит, ты даешь слово ждать полгода…
– Конечно… – опять посмотрела она в его глаза… Эти черные глаза, эти бездонные колодцы, этот блеск радости. «Странно, если девушка с таким взглядом долго задержится около матери!» – промелькнуло в сознании.
Сейчас, спустя много лет, он поражается своей мысли: как он был прав! То, что он услышал, когда через пять месяцев вернулся с деньгами, не помещавшимися в карманах (оба брата, узнав о его тайных мыслях, добавили денег)… Тогда холодная боль впервые поразила его сердце, оставляя, подобно молнии в небе, след… Второй раз эта молния поразила его после гибели Усмана, потом – когда дорогу на Алхан-Калу усеяли людскими телами, затем – после массовых убийств солдатами в Алдах мирных жителей… Теперь-то часто поражает его эта боль. Крепким же оказалось его сердце, которое все это выдержало, не разлетелось на куски и до сих пор бьется в груди.
Почувствовав удушение от этих воспоминаний, он встал и начал ходить по комнате, слушая скрип половиц под сапогами. Неожиданно стены дома начинают дрожать, потом до слуха доносится грохот. Осторожно выглянув в окно, он видит мчащийся по улице танк. Один, два, три, за ними – бронированная машина.
Довт прячется за стоящий у стены платяной шкаф, чтобы никто, зайдя в дом, его не увидел. Взводит курок пистолета, который висит на поясе. Если эти бешеные псы со своей «зачисткой» сунутся сюда, он будет стрелять. Потом, если удастся, спасется бегством, если нет – погибнет в бою. Живым и в сознании он им не дастся. С пленными, рассказывают, они обращаются очень жестоко: натравливают собак, бьют током, подвешивают за одну руку, держат в зинданах, избивают… Чем терпеть эти истязания, лучше погибнуть.
Тишина затягивается, только вдалеке слышится стрельба. И на улице, и во дворе тихо. Значит, «зачистка» проводится в другом месте.
Довт снова прилег на своих вещах. Он чувствует слабость, временами наваливается дрема, но сон не идет. Его снова окутывает туман воспоминаний.
3
Да, когда Довт услышал, что Камета вышла замуж, он сначала не поверил. Думал, что сосед Илмади шутит. А когда понял, что это правда, ему в первую очередь вспомнился Закри и его слова. Сказанное им, оказывается, содержало тайный смысл. Имея свой определенный план, Закри тогда высокомерно и пренебрежительно говорил с ними.
– Эта гордая девушка вышла за плешивого человека, старше себя на пятнадцать лет? – сами собой вырвались у него слова.
– Он не старше нее на пятнадцать лет. Он же учился с вами в одном классе, – смеялся Илмади.
– С нами?
– Конечно, разве не с вами учился Берс? Тот, что хорошо рисует.
– С нами…
– Он-то и женился на ней… Не знаю, где ты у него видел плешь… Кучерявый, как барашек.
– А-а, она вышла за него? – еще больше удивился Довт. – Она же мне слово давала! – вырвался у него крик.
– Какое слово? Слово, что выйдет за тебя? – начал расспрашивать Илмади.
– Нет… обещала в течение полугода не выходить замуж…
Илмади покатывался со смеху.
– Никому больше не говори, что тебе дали это слово. Над тобой будут смеяться. Такое слово девушка за день может дать десять раз и десять раз изменить ему. Вот если бы она обещала выйти за тебя и дала что-нибудь в залог, тогда бы было о чем говорить. Такое обещание она, оказывается, дала Дени да еще кольцо в качестве залога. Отец Дени ходил к ним и устроил большой скандал. Кричал, что это явное неуважение к ним, что он этого так не оставит. Отец Каметы, Салах, сказал ему: «Ты не кричи, Денилбек, и по чеченским адатам, и по советским законам ты не прав. Если девушка дала что-либо в залог одному, но передумала и вышла замуж за другого, ни она, ни ее отец не подпадают ни под одно наказание. Но если бы эта девушка получила что-нибудь от парня, это было бы плохо. Тогда бы мы были виновны. К счастью, у этой девушки хватило ума не делать этого. Твои слова недостойны коммуниста и милиционера. Закон требует считаться с мнением девушки, не следовать отжившим свое обычаям прошлого. Дочь вышла за этого парня против нашего желания, купившись на его мазню. Мы-то желали родства с вами. Но что поделаешь, не суждено, видно». Такой «лекцией» Салах выпроводил Денилбека. Еще интересней то, что говорила Сагират, мать Закри, старуха, которая одной ногой уже стоит в могиле. Проклинала их, говоря, что одна-единственная девушка была, которая нравилась ее сыну, и ту за него не пустили, оставили сына без потомства. Смотри, не уподобляйся им. То, что случилось, уже не изменить, тебе лучше молчать про это, не становясь посмешищем для людей, – посоветовал Илмади.
Лежа, как и сейчас, в комнате под навесом, когда первая боль несколько улеглась, после долгих раздумий Довт понял, что Илмади прав. Однако ему тяжело было смириться с реальностью, тяжело тайно переживать… Еще тяжелее ему будет, если он встретит кого-либо из этих двоих. Поэтому нужно было уезжать из этого села, навсегда перебраться в город. Тот уголок, где его жизнь была озарена прекрасным светом, где в его душе был создан новый чудесный мир, самый родной уголок на земле вдруг стал немилым, опостылел, трудно было жить на пепле сгоревших надежд.
Поэтому на второй день, спозаранку, пока еще улицы безлюдны, крадучись, как вор, окольными путями, избегая большой дороги, Довт перебрался через Аргун и направился в сторону города. На окраине купил недорого домик и стал там жить, закатывая гулянки со своими новыми товарищами. Когда закончились деньги, он вышел в центр города и на главной площади увидел толпы людей, которые о чем-то спорили, кричали, аплодировали, при этом часто упоминали о величии Бога.
На грузовой машине перед Домом правительства стояла пестрая группа: одни – в костюмах, шляпах, с галстуками, другие – в тюбетейках, в рубахах с застежками, в широких вельветовых брюках с заправленными в носки штанинами, несколько человек в папахах, в черкесках, с кинжалами на покрытых серебром поясах. Среди них особо выделялся старик с длинной белой бородой, в папахе, повязанной зеленой лентой, в зеленом халате. Когда Довт подошел, тот как раз произносил в микрофон речь: «Посмотрите, люди, на этого человека! Это тот, про которого когда-то говорили наши святые. Он, оставив свой высокий пост, большую зарплату, отказавшись от благ, явился к нам, чтобы освободить от гнета неверных и коммунистов. Настало время, которое было нам напророчено, когда коммунистов будут вытаскивать из-под кроватей, из стогов и отрезать им головы. Если мы, оставив свои дела, будем послушны ему, встанем за ним – мы придем к свободе, о которой наши отцы мечтали столетиями».
– Правильно! Правильно! – раздались на площади одобрительные выкрики.
Но Довт не поверил площади. Он отправился в село, чтобы посоветоваться с отцом. В селе перед клубом он также увидел толпу. Поднявшись на возвышенность, Денилбек говорил в громкоговоритель:
– Люди! Разговоры об «отделении» преступны. Случаи вероломства такого рода были и раньше. Я слышал от стариков, что в тридцатые годы по равнинным селам ходили некие люди, называя себя турками. У них были подводы, полные оружия, которое раздавали бесплатно, говоря, чтобы они были готовы к восстанию против Советской власти, и обещая, что с помощью турецкой армии смогут добиться свободы. Чеченцы, готовые любому поверить, и оружие разобрали, и дали знать, что они готовы восстать против безбожной власти. Что из этого вышло? Зло. Эти люди оказались сотрудниками НКВД, которых направили спровоцировать чеченцев. После этого, меньше чем через месяц, и тех, кто купил оружие, и тех, кто впустил «турок», разговаривал с ними, кто проходил мимо, их родственников, соседей – всех забрали, и они бесследно сгинули. Такая же ловушка устроена и сейчас. Подумайте только об одном: во многих странах стояли военные базы России. Когда войска выводили оттуда, армия не оставила ни одного ствола, ни одного патрона. Почему же отсюда они выводятся так спешно, словно отправляются на тушение пожара, и при этом оставляют полные склады? Чтобы это оружие взяли мы и посеяли здесь зло. А потом, под предлогом наведения порядка, отдубасят нас как следует. Поэтому прошу вас: сидите по своим домам, не вмешивайтесь ни во что…
– Правильно говорит Денилбек, правильно! – раздалось несколько голосов.
В это время, растолкав людей, на пригорок ловко взошел отец Довта.
– Нет, неправильно, люди! Нет! Вы слышали, люди, слова наших святых праведников, что Советскую власть сменят, сидя за столом? Слышали. Сменили? Да. Что они еще говорили? Сказали, что будет жестокая война. Те, которые останутся ниже Войсковой дороги, будут страдать, которые успеют подняться выше Войсковой дороги – спасутся. Видимо, Войсковая дорога – это трасса «Ростов – Баку». Сказано, что русские солдаты уйдут отсюда, и на спинах у них будет снег. Эти времена предсказаны святыми людьми. Поэтому мы должны, не оставаясь в стороне, встать рядом с лидером, присланным Богом для нашего спасения. Если не встанем, завтра нам придется ходить среди людей с опущенными от стыда взглядами.
– Правильно! Правильно! Аллах Акбар! – кричал молодой человек с небольшой бородою и в военной форме. Довт с трудом узнал его: это был Илмади, который очень изменился за те полгода, что они не виделись. И в словах, и в жестах его чувствовалась уверенность. «Вот это воин!» – улыбнулся он. Его позабавило то, что Илмади, которому он никогда не давал спуску, стал таким авторитетом. Когда голоса утихли, отец продолжил:
– И Денилбека я хорошо понимаю. И он, и его отцы жили, имея выгоду от русской власти. Сегодня он ее теряет. Что поделаешь? Таков Божий промысел. Для тебя будет лучше, Денилбек, если ты смиришься с ним.
Не дожидаясь, пока разойдутся люди, Довт медленно вышел из толпы и отправился в город: он все понял. Сейчас он знал, где его место: в первых рядах защитников нового президента и его власти.
Это было нетрудно: надев военную форму, разгуливать с оружием. Часто он видел в городе и отца, который кружился в зикре1 на главной площади. «Сын, смотри, не оплошай!» – говорил тот на бегу Довту. «Не оплошаю», – отвечал он. На том и расставались. Вести долгие беседы обоим было некогда: он состоял в «отряде спецназначения», отец – в Совете страны.
Отца он узнавал издалека: тот всегда кружился вокруг кольца людей, направляя круг, криком подбадривая зикристов, с возгласом: «О Всемилостивейший!» – поднимая посох, когда нужно было остановиться и громко запеть религиозную песню. Теперь, когда по московскому телевидению рассказывают, как заварилась вся эта каша, его отца показывают на весь экран, в пылу зикра, с поднятым посохом. Довт, правда, этого не видел, знакомые рассказывали.
Через некоторое время, в начале весны, недовольные новой властью подняли мятеж. Захватив телевидение, они укрепились в нем. Когда президент спросил, кто возьмется его отбить, Довт вызвался первым. К нему присоединилось много бойцов. Дав несколько залпов по зданию из пулемета, установленного на бронированной машине, они ринулись на штурм и с боем отбили телевидение. Обходя второй этаж с пистолетом в руках, он вошел в одну дверь и оказался в комнате без окон, в которой стояли видеокамеры. Увидев, как в углу за занавеской метнулась тень, он крикнул:
– Выходи, положи оружие!
– Выйду, но оружия не сложу.
Даже не видя человека, Довт узнал его по голосу – Дени. «Как некстати мы столкнулись», – подумал он. Сначала показалась едва различимая, дрожащая рука с пистолетом, затем – он сам в милицейской форме.
– Это ты, Дени?
– Я, Довт.
– Оружие придется сложить… Вы проиграли, телевидение в наших руках.
– Я не сложу оружия, – отрезал тот. В это время, появившись неизвестно откуда, между ними встал Берс. Довт очень удивился тогда, ведь он не видел друга последние несколько лет, с тех пор, как тот женился на Камете.
– Откуда ты взялся, мушкетер? – спросил он с улыбкой. Увидев Берса, Довт забыл и про наведенный на себя пистолет, и про Дени, и про то, как они здесь очутились. «Как странно, что Камета, оставив Дени, – светлого, высокого, синеглазого здоровяка, меня – делающего на турнике «солнце», способного, ловкого, как волк, смуглого, отдала предпочтение этому Берсу – круглому, как мяч, кучерявому очкарику, который ниже нас обоих на целую голову. Странный народ эти женщины!» – мелькнула мысль.
– Да, да… мушкетер… Вы забыли то время, когда нас называли мушкетерами… наше детство… Опустите оба оружие… Что вы не поделили?.. Помиритесь… Как хорошо, что я успел… Встретив в центре города Илмади и узнав, что вы столкнулись на телевидении, я примчался сюда…
Пока они втроем так стояли, в дверь вошло много людей с оружием, знакомых и незнакомых. Внезапно погас свет, и установилась такая тьма, что хоть глаз выколи. Раздался выстрел, голова падающего Берса скользнула по ноге Довта.
– Свет! Свет! – вырвался у него крик. Когда включился свет, они увидели Берса, лежащего головой к нему, ногами к Дени. На левой стороне его груди было пятно крови.
– Ты убил его! – закричал Довт, наставляя пистолет на Дени.
– Зачем мне его убивать?! – кричал в ответ Дени.
Вставшие между ними люди разняли их…
С теми, кто отвозил тело, он отправился в село. Похороны были многолюдными. Люди очень тяжело восприняли убийство безвинного человека. Довт увидел, впервые после ее замужества, Камету, которую вывели, чтобы выразить ей соболезнование, она не держалась на ногах, и ее, плачущую, поддерживали две женщины. Двое детей – сын и дочь – остались без отца, сиротами.
На третий день отец отвел его в сторону:
– В этом нет твоей вины?
– Конечно, нет, дада.
– Я к тому говорю, что бывает и по неосторожности, нечаянно, в оружии заключено много коварства.
– Мое оружие подлости не совершало, дада.
– Ты можешь в этом поклясться?
– Конечно, могу.
– Это хорошо. Ни в коем случае не проливай кровь чеченца. Кто бы что ни сделал, кем бы он ни был, ты не имеешь права убить или ранить чеченца. Какой бы большой начальник ни приказал тебе, не делай этого. Для сына нет начальника выше, чем отец.
Он бы и так не поднял руку на чеченца. Что там говорить о стрельбе, он не выносил даже неприличного разговора между двумя чеченцами. Когда произносилась непристойность, он сердцем чувствовал, что рушится что-то большое, казавшееся до сих пор святым. Даже если бы Берс не встал между ними, он не собирался трогать Дени. И оскорбить его не собирался, заставив сложить оружие. Он сказал те слова только для того, чтобы испытать его. Это же не дело – пытаться унизить другого. Ему не нужно было государство, которое создается, ошельмовав одних чеченцев, раздавив их, сделав других победителями. Так же считал его командир Усман. Когда ему приказали выбить с помощью оружия милиционеров, укрепившихся в здании Городского Собрания, Усман сказал: «Я не намерен воевать с чеченцами, я буду воевать с внешним врагом, если он нападет на нас». С этого дня начались трения между военачальниками высокого ранга и Усманом. Когда его убили в бою, среди вождей мало кто искренне оплакивал его. Многие вздохнули свободно, избавившись от человека, который говорил правду в глаза. Мало кто выступал против новых порядков, теперь путь был свободен.
Потом, после похорон Усмана, зло, обрушившееся на народ, подобно горной лавине, размело грани взаимоуважения и благородства, казавшиеся до сих пор нерушимыми. Когда изредка, раз в два или три месяца, наведывался в село, Довт рассказывал отцу про то, что ему не нравилось в государственных чиновниках, особенно, как они пытаются опорочить несогласного с ними, унизить его, оскорбить.
Лицо отца мрачнело, как небо перед дождем. «Плохи дела, плохи. Да смилостивится над нами Бог!» – говорил он. Однако никогда у него не возникало сомнения в том, что курс президента верен, что это время переломное, предреченное еще святыми. Старшие сыновья за месяц до начала первой войны приехали домой и попытались переубедить отца: «Здесь будет война. Ее начинают жулики, разграбившие страну, чтобы отвлечь внимание от себя, ослабить, уничтожить наш народ. Мы не сможем эту войну остановить. Все, что мы сможем сделать, – уехать отсюда, мы приехали за вами». Но он не только не согласился, но и отругал обоих: «Вы говорите так потому, что боитесь за свое богатство. Кроме того, вы давно живете среди чужих. Поэтому и мыслями, и характером вы походите на них… Это время предсказано святыми. Даже если война начнется, она завершится нашей победой. Хотите – приезжайте домой и помогайте нашему президенту. Нет – сидите там. Но не говорите ни слова в адрес тех, кто встал на путь свободы. Понятно?!»
Довка все же попытался что-то возразить, высказать свое мнение, он весь побагровел от обиды. Средний, Дока, промолчал, у него жена была русская. Если бы он произнес хоть слово, посчитали бы, что заступается за ее родственников. То, что его жена приняла ислам, делала намаз, постилась в месяц уразы, не было бы принято во внимание. Уезжая, он, не стесняясь навернувшихся слез, произнес всего лишь несколько слов: «Да сбережет вас Аллах!»
И это был последний раз, когда семья собралась вместе. После того, как война перебралась за Войсковую дорогу, отец был очень задумчив. Весть о том, что при ракетном обстреле погиб президент, сразила отца, и на третий день он скончался. Сейчас Довту кажется, что причиной смерти отца явилась не гибель его президента, а то, что он усомнился в истинности слов, слышанных еще в детстве, в которые верил всем сердцем, усомнился, видя, что жизнь с каждым днем опровергает их.
Приехавшие на похороны отца братья забрали с собой, против ее воли, мать, Довт же ехать отказался наотрез: хорош бы он был, если бы сбежал и стал жить в стране врагов, воюющих с нашим народом! Он вернулся в свой домик на окраине города и не пристал ни к одной группе. Он-то бы жил и в селе. Но там жила она, озарившая однажды его жизнь, затем сделавшая столь несчастным. Как существовать рядом с ней? Что сказать при встрече? Как пройти мимо? Найти ответы на эти вопросы было труднее, чем воевать.
Когда началась вторая война, он присоединился к боевикам, оставшимся оборонять город. Иногда он жалел об этом решении.
Впервые такая мысль возникла, когда он наткнулся на одной из улиц на окраине города на большую толпу. В центре ее стоял небольшой грузовик с зенитной установкой. Какой-то старик говорил:
– Уберите отсюда этот пугач! Как только вы сделаете из него выстрел, нас начнут бомбить. Погибнут женщины, дети, больные, разнесут эти жилища, восстановленные нами с трудом.
– Если будут бомбить мирное население, мы напишем на них большую жалобу в ООН и Страсбург, – улыбнулся молодой человек в военной форме, с аккуратно подстриженной бородкой, множеством медалей на груди, с пестрым погоном на правом плече.
– Если нас всех уничтожат, зачем нам твоя ООН? – кричал старик.
– Вовсе необязательно вам всем погибать. Выжившим будет от этого какая-то польза, – не отступал тот. Он был в темных очках. Довту показалось, что он где-то слышал этот голос.
– Подожди, товарищ, сними-ка свои очки! – вышел вперед Довт.
– Это что еще за разговор?! Может, мне еще кое-что снять?!
– Надо будет, заставим снять и другое, – приставил пистолет к его уху Довт.
– Ха-ха-ха, – засмеялся тот, снимая очки, – ты еще злее, чем прежде, Довт!
– А-а, Илмади, это ты, – засунул пистолет в карман Довт. – Зачем ты мучаешь этих людей?
– Я должен выполнить приказ.
– Подожди-ка, мы ведь начинали все ради этих людей…
– Я не знаю, кто это начинал, почему. У меня есть приказ установить зенитку здесь.
– Валлахи, ты ее здесь не поставишь, пока я жив, – Довт снова достал из кармана пистолет.
– С тобой бесполезно спорить. Пойдем, ребята, я его с детства очень хорошо знаю. Он не отступит, – Илмади со своей группой ушел.
С началом второй войны Довт заметил много необычного, чего не было во время первой войны. Самое странное: боевикам не было дела до простых людей, а люди их начали ненавидеть. Иногда у него возникала мысль, что российские солдаты и боевики воюют не друг против друга, а с народом. Обе эти стороны имели, видимо, свои цели, неизвестные ему, и для их достижения они не щадили людей. Правда, по сравнению с российскими солдатами с их бомбардировками, артобстрелами, «зачистками», боевики чинили народу гораздо меньше зла. Но оно было. Поэтому сегодня в народе не было прежнего согласия. Многие боевики забыли о главных целях этого движения, делая то, что им скажут, воевали, погибая ежедневно в большом количестве.
Если в первой войне с победой выходили даже из, казалось бы, безвыходных ситуаций, убивая одним выстрелом двоих, поджигая, как спичечные коробки, танки, то теперь даже кажущиеся беспроигрышными столкновения завершались по какой-либо причине поражением. Говорится ведь, к тому, чему суждено быть, идешь, ослепнув. Такие ослепшие люди потянулись в ту ночь из города и подорвались на минах.
«Нужно дорожить уважением людей, – наставлял отец. – Того, кого не любят люди, не любит и Бог».
Да, причина поражений, как думается теперь Довту, крылась в этом. А единственный верный путь – это оказание помощи нуждающимся, и только твое сердце должно освещать этот путь. Прослышав, что где-то идет «зачистка», он тайком пробирался туда. Обнаружив издевающихся над людьми солдат, в которых водка увеличила жестокость, он давал несколько очередей, перебираясь с одного места на другое. Тогда военные, бросив все, устремлялись за ним. Далеко уводил он их, изредка стреляя. Затем, спрятав оружие, таился в заранее приготовленном месте несколько дней.
О его борьбе узнали люди. Про него стали слагать легенды. Рассказы о его подвигах, нередко приукрашенные, передавались из уст в уста. Живущие в развалинах люди и боевики прозвали его Одиноким Волком, говорили, что и солдаты, тщетно пытавшиеся выйти на его след, называли его так.
Он мало чем мог помочь, и все же это не давало угаснуть надеждам на лучшее в сердцах отчаявшихся людей.
Однажды вечером со стороны Алдов послышались стрельба и крики, но он был далеко и не смог прийти на помощь. Через неделю от людей, укрывшихся в школьном подвале, он услышал, что там в тот вечер убили пятьдесят семь человек, не разбирая стариков, женщин, детей – всех подряд. Говорили, что по поселку до этого бегал солдат, предупреждая, что за ним идут дикари, вышедшие убивать всех. Те, кого он успел предупредить, спрятались, но эти самые «дикари» убили его, назвав предателем.
Довту казалось, что рассказы о подобных добрых солдатах придуманы кем-то: или русскими, пытающимися ослабить ненависть к своему народу, или стариками, которые не желают до конца разочароваться в соседях. Так он думал, пока с ним не произошел один случай.
4
Довт принял на себя еще одно обязательство. Он носил еду, лекарства нуждающимся, которые терпели голод, холод в одном из подвалов Грозного.
Он ходил по магазинам, складам, собирая для них продукты. Так, пришел он как-то в школьный подвал, неся с собой полмешка пряников и конфет. Раздав их, обратил внимание на старуху, сидевшую в стороне.
– Что это Вы сидите в сторонке? Придвигайтесь, – сказал ей Довт.
– Она боится тебя… – сказала беззубая старуха со сморщенным лицом.
– Почему?
– Она русская… Марья Ивановна…
– Ну и что?
– Она тебя боится… думает, что ты боевик…
– Хоть и боевик, я не воюю со стариками и женщинами… Придвигайтесь, Марья Ивановна… С сегодняшнего дня можете считать меня своим сыном. Вам ничего не грозит, пока я жив…
Старушка подсела к ним и перекусила. До войны она преподавала русский язык в одной из школ Грозного. Муж ее умер. Двое детей со своими семьями жили в России: сын во Владивостоке, дочь в Москве.
На третью ночь, когда выпал снег, он на санках отвез туда два мешка муки. В ту же минуту одна смуглая женщина испекла вкусные лепешки. Хорошим продуктом оказались лепешки: со временем они не становились кислыми, как хлеб, их можно было есть всухомятку.
Как-то зимней ночью пришел он в этот подвал за лепешками, да и погреться, поговорить с людьми.
Через некоторое время в подвал заскочили солдаты:
– Встать! Лечь! К стенке!
Как золотоискатели песок и мелкие камешки в решете, они стали быстро «перебирать» обитателей укрытия и отделили от них Довта – на расстрел. «С первого взгляда видно, что это боевик. К стенке его!» – приказал командир. Его поставили к стене. «Хорошо хоть, что не забирают, избегну издевательств…» – успокоился Довт.
Люди в подвале начали кричать: «Это не боевик, он хороший человек, помогает голодающим, мы будем жаловаться президенту и в ООН напишем!»
– Заткнитесь! – дал очередь командир. Пули, рикошетя, отлетели от пола, стен, потолка. К счастью, никого не задело. Офицер повернулся к солдатам:
– Выполнять приказ!
Те вскинули автоматы.
«Ла хьавла вала къувата илла биллах1ил 1алийюл 1азийм», – прошептал он слова молитвы.
– Он что-то шепчет, – проговорил один из солдат.
– Подождите! – остановил их ОФИЦЕР. – Говори свое последнее слово, – повернулся он к Довту, вращая своими маленькими красными глазами. – Говори громко, чтобы все слышали. Любой человек имеет право на последнее слово.
– Мне нечего сказать!..
Не дав ему закончить, между ними встала Марья Ивановна.
– Мне есть что сказать! Я, Решетникова Марья Ивановна, учительница этого парня. С самого детства он никому не причинил зла, всегда выделялся своими хорошими поступками. Если бы не он, мы бы все давно умерли с голоду… Если вы вышли убивать безвинных людей, вы убьете его только после меня… – закричала Марья Ивановна, становясь перед Довтом.
– Ты русская? – направил на нее автомат ОФИЦЕР.
– Да. Вот мой паспорт, – она достала из кармана пальто паспорт и протянула ему.
– А что ты делаешь с ними, с этими… – выдержал он паузу, подыскивая самое грязное ругательство.
Марья Ивановна быстро продолжила:
– С этими самыми добрыми людьми я живу, потому что мой дом здесь…
– Я же говорил, что русские, живущие среди них, еще хуже… Может, обоих прикончить? – вышел вперед жирный солдат. Кажется, он не чувствовал холода: на носу и лбу у него выступили капли пота.
– Да ну… оставь их, пойдем, – офицер вышел со своими солдатами.
Тогда Довт впервые поверил, что среди русских есть люди, которые относятся к чеченцам хорошо.
Сейчас его друзей, живших в школьном подвале, увезли в Ингушетию в лагерь беженцев. Некому печь ему лепешки. Из тех, что он принес пять дней назад, осталось пол-лепешки, еще есть немного грецких орехов. Положив то, что имеется на ящик, заменяющий ему стол, произнеся молитву, он начал не спеша, словно сидел за обильным ужином, кушать, откусывая сначала от лепешки и заедая ее орехом. Когда он закончил, спускались сумерки. Затем он совершил вечерний намаз. Долго возносил мольбу и перебирал четки. Почувствовал душевное облегчение.
Довт решил посмотреть, нет ли где в городских развалинах и подвалах нуждающихся в помощи. Надвинул на глаза вязаную шапку, надел «гуманитарную» куртку. В один карман положил кусок лепешки, завернутый в бумагу, в другой – орехи. За пояс, под куртку, засунул пистолет.
На улице шел крупный снег. Он покрывал белым одеялом пережеванный и выплюнутый войной город: местами черными пятнами выделялись грязные улицы, развалины, раненые деревья, уцелевшие стены домов. Стояла тишина, только где-то вдали слышалась стрельба.
Довт шел по улице, застроенной, в основном, одноэтажными домами, только изредка встречались двух- и трехэтажки.
В двух маленьких окнах полуподвального этажа двухэтажного дома без крыши и окон он различил свет. Осторожно пробрался к окошку. Но быстро отошел в сторону: горящее на улице газовое пламя отбрасывало свет, и это превращало Довта в отличную мишень. Около другого окна было темно, так как свет загораживала куча мусора. Он подошел и заглянул внутрь.
В комнате были дети – он увидел их в свете керосиновой лампы. Трое спали на вещах, разбросанных по углам. У стола, на котором стояла керосиновая лампа, сидела девочка лет десяти. Похоже, что она плакала: в свете тусклого света отражались капли слез, катящихся по щекам.
В это время один из спящих проснулся. Это был мальчик, похоже, он чуть младше девочки.
– Айшат, ты плачешь?
– Нет, это было во сне. Я видела маму и сестру, убитую бомбой. Я знала, что это сон, знала, что, как только проснусь, они уйдут. Поэтому плакала.
– Пусть сон будет к добру, – произнес мальчик, как взрослый. – Я тоже видел во сне родителей. Наверное, их души беспокоятся за нас.
– Мама! – вскакивая, закричал мальчик лет пяти-шести. – Где мама? Она же только что была здесь.
– Мамед, это был сон. Мама еще не приехала, – обняла его Айшат.
– А когда она приедет, Айшат? – всхлипывал мальчик.
– Скоро приедет, Мамед, скоро, не плачь.
– А папа приедет?
– И папа, и мама – оба приедут.
Их голоса разбудили маленькую девочку. Протирая глаза, она подошла к старшему.
– И наши родители приедут. Правда, Шама?
– Конечно, приедут, Хеда, – поглаживая ее по голове, мальчик усадил сестру рядом с собой.
– Она принесет мне много конфет, яблок, бананов…
– И мне принесет много чего, – подхватил мальчик. – Много хлеба, молока, сметаны… Я проголодался! – закричал он.
– И я проголодалась, – вступила маленькая девочка.
– Идите сюда оба, – Шама взял черную сумку, висевшую на стене на гвозде. – Нате, кушайте хлеб.
Мамед быстро съел свой хлеб.
– Я хочу мяса! – сказал он.
– Я тоже! – повторила за ним Хеда.
– Мясо нужно сварить… Айшат, поставь кастрюлю с водой, нужно сварить мяса, – распорядился Шама.
Айшат поставила кастрюлю на печь. Шама с черной сумкой в руках подошел к печи. Накрыв кастрюлю крышкой, он подозвал маленьких детей:
– Идите сюда, пока мясо варится, послушайте сказку, – усадил детей рядом с собой. – Жила-была Коза, у нее было три козленка: Однопузый, Двупузый, Трехпузый…
– Да ну ее, я уже слышал эту сказку, – пробурчал Мамед.
– Раз слышал, расскажи ты… – Шама притворился, что обиделся.
– Рассказать? Я, папа и мама поехали как-то в село, – начал Мамед. – Там были дедушка и бабушка. Бабушка приготовила мне творог со сметаной и кукурузную лепешку. Потом мы с папой и дедушкой отправились косить. Там росла большая яблоня, а на ней много красных яблок.
– Это очень интересная сказка, – подхватила Айшат.
– И мне хочется рассказать сказку, – вмешалась Хеда. – На Новый год я с мамой и папой ходила на елку. Елка была большая-пребольшая. На ней было много игрушек. Гура-Дада2 подарил мне игрушку. И сфотографировался со мной… Шама, а когда будет Новый год?
– Когда на улице выпадет много снега, – ответил Шама.
В это время Мамед подбежал к печке и снял с кастрюли крышку. Горячая крышка, сорвавшись с его рук, упала на пол.
Он истошно закричал:
– Там нет мяса!!!
Подошла Хеда:
– А что там?
– Ничего, кроме воды! – плача, ответил Мамед.
Дети кинулись к Шаме:
– Ты обманул нас! Ты нас обманул!
Довт оглянулся, утирая навернувшиеся слезы, и у окна, озаренного газовым пламенем, заметил какой-то силуэт. Пригляделся… О Великий Бог! Это же Дени! Вихрь мыслей пронесся в голове Довта, но почему-то злости не было. От неожиданности он растерялся, не зная, что предпринять… Появилась возможность отомстить за Берса. Но имеет ли он право на месть? Кто его на это уполномачивал? А если Берса убил не он?.. Хотя мысли его смешались, Довт не терял рассудка. Напрягшись, как натянутая тетива, осторожно ступая, он отступил назад, обошел дом и с пистолетом в руках подкрался к Дени. Тот, заподозрив что-то неладное, быстро обернулся и потянулся к оружию.
– Не трогай оружие! Ты опоздал! – громко, так что услышал бы и глухой, крикнул Довт.
На несколько мгновений установилась тишина. Довту показалось, что прошла целая вечность. «Неужели он собирается стоять так и молчать?» – думал он.
Наконец, тот тихо произнес:
– Это ты, Довт?
Дальше они продолжали быстро, словно бросая друг в друга молнии.
– Я, Дени, я, – послал Довт свою молнию. Потом включившийся в голове магнитофон завел привычную речь: – Посмотри на этих детей. Мы вышли завоевать свободу, чтобы наши дети не терпели эти лишения… Все это случилось потому, что вы не присоединились к нам, а встали против.
И ответ Дени был быстр как стрела молнии:
– Если бы вы сидели по домам, не пытаясь совершить невозможное, и эти дети были бы сейчас дома.
– Нет, не были бы, над нашим народом каждые пятьдесят лет устраивается геноцид!
– Наслышались мы этих разговоров! То, чем занимаетесь вы, не что иное, как провокация, а цель – истребление нашего народа!
– Если сейчас перетерпеть, наш народ навсегда освободится!
Довт удивлялся себе: он повторял слова тех, с кем вел споры последнее время.
– Зачем вести бесполезные разговоры? Делай то, что намеревался! Стреляй!
– Как ты в нашего друга Берса?
– Нет, я не стрелял в него.
– Как не стрелял? Когда мы стояли друг против друга, а он встал между нами…
– Он пытался помирить нас. Какой был парень!
– Поэтому ты убил его?
– Я его не убивал… Как только он встал между нами, погас свет… Раздался выстрел… Когда свет включился…
– Когда свет включился, Берс лежал, а в твоих руках был пистолет… – повысил голос Довт.
– Однако я не нажимал на курок, – закричал в ответ Дени.
– Ты хотел стрелять в меня, но попал в него!
– Это неправда!
– Я убью тебя! Говори правду! – взвел курок Довт.
– Я не убивал Берса – вот правда! – не отступал Дени.
– Как ты скажешь правду?! Ты же внук доносчика Денисолта.
Сказав эти слова, Довт сам поразился: откуда они взялись? Он никогда не слышал, что Денисолт был доносчиком. И отец этого никогда не говорил. Значит, он, сам того не сознавая, встал на путь оскорблений, надуманных обвинений, к чему до сих пор относился с презрением.
– Мой дед был представителем власти… Старался установить порядок в этом крае… Твой дед, Бага, этот порядок нарушал… Называя себя абреком, уводил коров, которых выгоняли на пастбище!
Да, Дени тоже не удержался, чтобы не встать на этот путь беспочвенных обвинений и оскорблений. Ждал только повода, хотя прекрасно знал, что дед Довты не уводил чужих коров. Наоборот, когда создавались колхозы и у крестьян насильно забрали скот, он, пробравшись ночью на ферму, открыл ворота и отогнал коров по домам.
– Хватит! Я убью тебя! – закричал Довт.
– Так убивай! Стреляй, – невозмутимо произнес Дени.
Довт почувствовал, что рука, в которой он держал пистолет, дрожит. Испугавшись («Нажмешь нечаянно на курок, и тогда случится непоправимое»), он опустил оружие.
– «Стреляй!» У меня была возможность убить тебя, как только увидел… – глубоко вздохнул Довт.
– Почему же не убил?
– Не знаю… Не смог, хотя ты и причинил много вреда нашим ребятам… Эти дети…
– Что мы будем делать с ними?
– Не знаю. Жаль детей… То, что между нами, можно решить и потом.
Довт заметил, что Дени, стоявший до этого напряженным, несколько успокоился.
– Я тоже так думаю, – сказал он. – Давай сначала хоть поговорим с ними.
– Хорошо, иди первым…
– Опасаешься идти вперед?
– То, что мне можно доверять, ты сейчас видел. А кто знает, что у тебя на уме?
– Эх, чеченцы! – закричал Дени. – Вот о чем, оказывается, пелось в наших илли:
Да не умрем мы, молодцы,
Потеряв доверие друг к другу.
5
Шедший впереди Дени постучался, и голоса в комнате стихли. Затем мальчик постарше спросил:
– Кто там?
– Гура-Дада, – ответил Дени.
– А ты хороший человек?
– Гура-Дада плохим не бывает.
Шама открыл дверь и впустил их.
– Дети, не пугайтесь, мы вам ничего плохого не сделаем, – успокоил их Довт.
– Вас же двое, – удивился Мамед. – А где Гура-Дада?
– Гура-Дад двое, – ответил Дени.
– Он не таким бывает. У него белая борода, красная шапка, – высказала недовольство Хеда.
– Сейчас же идет война. Во время войны пришлось надеть форму, – попытался развеять ее сомнения Дени.
– А где же подарки? – ради них Мамед согласен простить им камуфляж.
– И подарки есть, – достав из кармана завернутую в бумагу лепешку, Довт разделил ее на несколько частей. – Берите, дети, ешьте.
– И у меня есть для вас подарки, – Дени достал из кармана сыр, завернутый в бумагу. Подойдя к столу, он разрезал его на куски и раздал детям.
– Г1ура-Дады! Знаете, как мы раньше встречали Новый год? – спросила Хеда.
– Как? Расскажи, – повернулся к ней Дени.
– Все брались за руки и водили вокруг елки хоровод…
– И мы сделаем так же, подходите все, беритесь за руки, – согласился Дени.
– Я елка, я елка! – встал в круг Мамед.
Остальные повели вокруг него хоровод. Хеда оказалась между ним и Дени. Все запели:
Новый год, Новый год –
Пусть добрым будет твой приход!
Новый год, Новый год –
Пусть счастье принесет!
Прошло какое-то время.
– Знаете, что еще делали раньше? – остановилась Хеда. – Играли в кошки-мышки.
Глаза Мамеда заблестели от удовольствия.
– Ладно, – сказал он, – ты будешь мышкой, я – кошкой.
Хеда побежала, Мамед бросился ее догонять. Остальные стали приговаривать:
Мышь, мышь, убегай,
Убегай, скрывайся!
Кошка, будь ты начеку,
Поймай быстро мышку!
Когда Хеда покинула круг, он распался, так как Довт и Дени не взялись за руки. Оторвавшаяся от «кошки» Хеда заметила это.
– Беритесь за руки, не пропускайте «кошку»! – закричала Хеда. Руки Довта и Дени соединились. Довт на время забыл обо всем: о войне, о вражде, обидах. Он вернулся в детство, в утро своей жизни. А там все было светлым, навевающим покой, как прозрачные воды реки, протекающей рядом с их селом, как тень дикой груши на ее берегу.
На его глаза навернулись слезы. Если он не сдержит себя, они хлынут, как потоки талой воды весной. Заплакать бы сейчас, оглушая криком весь мир, изливая все накопившиеся за последние годы обиды. Но нельзя. Засмеют. Некому тебя пожалеть. Вокруг одни охотники, а ты – одинокий волк, загнанный в угол. Поэтому нужно стерпеть, крепко стиснув зубы.
Остопируллах, как же он ослаб, чуть не расплакался. В последнее время часто тянет плакать. К чему бы это?
Довт тряхнул головой, словно отгоняя нахлынувшие чувства, и попробовал переключить внимание на игру детей.
После долгого преследования «кошка», наконец, догнала «мышку». И Хеда внезапно громко заплакала.
– Ты что это, Хеда? – опустился около нее на корточки Довт. – Поймал, ну и что тут такого? Это же игра. Сейчас ты будешь «кошкой», а он «мышкой».
Девочка сквозь рыдания произнесла:
– Папа и мама не идут домой.
– Придут, – успокаивал Шама.
– Конечно, придут… С ними придут и наши с Мамедом папа и мама, – пришла на помощь Айшат.
Шама между тем отвел в сторону Довта и Дени.
– Наши с Хедой родители умерли… И их родители тоже… Мы не говорим об этом маленьким, скрываем, – прошептал он.
– Да смилостивится над ними Бог!
– Да будет Он милостив к ним… Иди, Шама, к детям… Нам нужно немного поговорить, – сказал Довт, потом, когда мальчик ушел, обратился к Дени. – Ну, что будем делать с ними?
– Что? Нужно увезти их отсюда…
– Я увезу их в горы, в наше село…
– Да ты что? Оставшиеся там, бедняги, сами еле сводят концы с концами, к тому же путь туда не безопасен, дороги постоянно бомбят, подвергают артобстрелам, – не соглашался Дени.
– Давно ты был в селе?
– Месяц назад.
– Как там?
– Большинство уехало… Осталось с десяток семей… И семья Берса дома…
– Как же нам поступить с этими сиротами?
– Я их увезу… в Кабарду… в санаторий… Там безопасно… И в школу пойдут…
– Тогда быстрее собирайся в дорогу, – сказал Довт. – Скоро должны прийти мои товарищи. Мне трудно будет их удержать.
Зачем он это сказал? Да, ему не хотелось, чтобы Дени знал, что он один как перст.
Дени и сам не намерен задерживаться.
– Дети, собирайтесь! Мы уходим.
– Куда? – спросил Шама.
– Туда, где нет войны. В теплый, светлый дом.
– А куклы там будут? – посветлело лицо Хеди.
– И куклы будут.
– И много-много хлеба будет? – спросил Мамед.
– Все будет… Быстрее одевайтесь, берите свои вещи… – Дени стал помогать им собраться.
– Нам нечего брать… только то, что на нас, – произнесла Айшат.
– Пойдем тогда, – двинувшийся было в сторону выхода Дени вдруг застыл на месте, заслышав гул грузовой машины. Машина остановилась.
– Слезайте! Прочешем это место! – раздалась команда на русском языке.
Дени и Довт на мгновение замерли.
– Подождите пока, я пойду, посмотрю.
Когда Дени вышел, Довт с пистолетом в руках стал за дверью и, приложив палец к губам, попросил детей не шуметь.
«Сейчас мы увидим, Дени, насколько тебе можно верить», – прошептал он.
Снаружи послышались голоса:
– Стой! Ты кто такой?
– Я заместитель начальника райотдела милиции Денисултанов Дени.
– Документы!
На какое-то время установилась тишина.
– Что ты здесь делаешь? – задал вопрос тот же голос.
– Проверяем этот квартал силами милиции.
– Помощь нужна?
– Спасибо, нет.
Когда шум машины стал отдаляться, Дени вошел.
– Уехали? – засунул свой пистолет за пояс Довт.
– Уехали.
– Милость Бога не знает границ!
– Алхамдулиллах! Пошли, дети!
– Счастливого пути! – протянул Довт руку Дени.
– Счастливо оставаться! – пожал ее Дени. У двери Дени внезапно остановился. Повернулся и подошел к нему.
– Довт, я не убивал Берса.
– Теперь я верю тебе.
– В тот день мое оружие не стреляло.
– Я верю… А кто его убил?
– Когда погас свет… Тот, кто привык вершить свои дела в темноте…
– Значит, кто-то третий сеет между нами вражду…
– Да, Довт. Я давно это понял, – с этими словами он направился к двери. Пропустив вперед детей, вышел сам.
– Да сбережет вас Бог! – произнес Довт. Потом, прохаживаясь по комнате, добавил: – Опять я остался один.
Снова зашагал по подвалу. Потом, остановившись, рассматривая вещи, оставленные детьми, вспоминал их лица, голоса.
Затем начал размышлять вслух: «Много удивительного увидел я здесь. Человек, который воевал против меня, которого я считал своим злейшим врагом, спас мне жизнь. Не выдал солдатам. Мы помирились, помирились из-за этих детей. Значит, не такими уж и врагами были…»
Оглянувшись, он заметил мягкую игрушку – медвежонка. Решил догнать и отдать его девочке. На длинной улице никого не было видно – они ушли далеко. Падал снег, снежинки кружились в воздухе белыми бабочками. Зайдя, он поставил игрушку на стол. Выключил печку, повернув краник на газовой трубе. Окинув комнату взглядом, вышел. Душа болела. Вспомнилось детство.
Куда идти? Он стоял на улице мертвого города. На некоторое время установилась необычная тишина, слышался только шум ветра, круживший снег.
Неожиданно ему вспомнились слова Дени: «И семья Берса дома». Выходит, Камета в селе, со своими детьми. Сердце заныло от боли, он стал прислушиваться к нему, встав около израненного войною дерева. Да, он любит ее и теперь, когда прошло много лет после того, как она вышла замуж. За эти годы его мысли не занимала ни одна девушка. Оказывается, все, что он ни делал, воюя, скрываясь от карателей, приходя на помощь нуждающимся в ней, было всего лишь попыткой забыть эту девушку, забыть раны, нанесенные ею. Что он делает здесь, если односельчане его вернулись, если та, которую он любит больше жизни, дома?! Значит, нужно отправиться домой. К счастью, она жива. Нужно поговорить с ней хоть теперь. И ее дети ему будут так же дороги, как и она. Правда, люди дадут волю языкам…
Он злился на себя. Всегда он так: «Люди скажут это, скажут то…» Он долго жил, не прислушиваясь к своему сердцу, остерегаясь пересудов.
Но в последние годы он хорошо понял этих людей. Редко кто из них не нарушил пределы дозволенного… При удобном случае всякий готов проявить себя в жестокости, воровстве, хитрости или лицемерии. Если на то пошло, какая разница, что будут думать они? Ему с этого часа, с этой минуты все равно, что будут думать о нем. Бог все видит. Если Богом не запрещено то, что он задумал, какая разница, что скажут смертные?.. С плеч Довта свалилась большая тяжесть. Во всем теле он почувствовал легкость. Он помчится на семи ветрах в родное село, ведь он очень истосковался по дому, близким, по уюту, состраданию.
Ходивший последние два года обычно пригнувшись, таясь, Довт свободно шел по центру улицы, окрыленный своим решением, словно снежинка. Душа начала играть мелодию, возникшую давно, когда он познакомился с Каметой. Забыв обо всем на свете, кружась в такт мелодии, он шел к окраине города…
Неожиданно заметил, что на улице стало слишком светло. «Что это?» – успел он подумать, прежде чем услышал окрик:
– Стоять!
Обострившимся зрением различил блокпост, улицу осветил свет прожекторов с бронетранспортеров, стоящих по обе стороны дороги.
Довт резко отскочил в сторону и бросился бежать, чтобы скрыться, к развалинам за поворотом.
– Стоять! – раздалось снова.
Но останавливаться нельзя, тем более теперь, он должен достичь своей цели, цели, определенной им сегодня. Выстрел обжег левое плечо. Довт упал, словно подкошенный. На белом снегу разошлось темное пятно крови. Оно стало расти. «Неужели попался?» – мелькнула мысль. Потом… Потом все исчезло, покрывшись мраком. В этом мраке была видна только одна ослепительно яркая снежинка, которая устремилась в бездонную глубину черного неба. Потом в этом мраке стала различима светлая, прозрачная река, неторопливо несущая свои воды вдоль зеленого луга. На берегу ее росла высокая дикая груша. В тени дерева сидел Берс и ел маленькие плоды, омывая их в чистой воде. Довту захотелось поскорее дойти до него, чтобы, сидя рядом с ним в тени груши, на берегу светлой реки, вкушать маленькие желтые плоды, окуная их в реку.
2006.
[1] Зикр – коллективная молитва, громкое благодарение Бога.
2 Гура-Дада (ГIура-Дада) – Дед Мороз.
Перевод С. Мусаева.
Косари
Повесть
1
…Молодые и зрелые чеченские писатели вели активную жизнь. Они встречались, беседовали, читали друг другу стихи, рассказы, заходили в мастерские художников, чтобы те навечно запечатлели их задумчиво-мудрые лица на холстах и бумагах, попивали пиво на берегу Сунжи, вечерами собирались у кого-нибудь и за чаркой вина произносили тосты. Затем расставались на несколько дней сочинять свежие творения, чтобы декламировать при новых встречах. Через некоторое время они встречались вновь.
У писателя по имени Ахмадук зародилась одна идея. Он был в восторге от этой мысли. И если его сотоварищи согласятся с ним, им не придется больше страдать от городского смога.
Когда на традиционном сборе собралось около десятка мастеров слова и столько же творческих и научных специалистов, он высказал свою задумку:
– Много говорить я не буду, мои собратья. Если мы будем кваситься в этом городе, творческого роста не добьемся. Нам надоел этот город, и мы надоели ему. Надо выходить на природу. Она нам подскажет новые образы и новый смысл… Думаете, зачем Хемингуэй то уходил на войну, затем охотился в Африке или ловил рыбу на Кубе? Он искал новые ощущения и мысли, новые образы для своих будущих произведений. Вот ты говоришь, что Фолкнер жил на своей ферме или, как там, ранчо. Жил там, а не в городе. А где находится ферма? На природе. Нам надо идти на природу. Но не для праздной прогулки. Наш выход на природу должен принести пользу и нам, и людям.
Воодушевленный своей речью, Ахмадук раскраснелся. Испариной покрылось не только его и без того красное лицо, но и толстые стекла очков.
Когда лица слушателей начали расплываться, словно в тумане, он снял очки и, достав из нагрудного кармана рубашки небольшой платочек, протер их и снова надел. Лица присутствующих стали отчетливыми: казалось, их заинтересовала его тирада – значит, не зря он столько говорил?
Поэтому и нельзя быть многословным: длинная речь быстро надоедает. И, пока не ослабло внимание слушателей, надо высказать основные моменты.
– Короче говоря, на нашей земле есть гора… Ковчег-лам называют ее. С одной стороны она граничит с Грузией, с другой расположен Дагестан. Лесов там мало, только в тех местах, где источаются родники. Вокруг родников лежат небольшие долины. Растут некоторые виды кустарников, береза, верба, лиственница. Можно найти тенистое место для отдыха… С горы течет, образуя небольшое ущелье, речка… есть один водопад, где река, падая с обрыва, рассыпается на брызги… Эта гора полна разнотравьем, цветами. Возьмем свои косы, поднимемся на Ковчег-лам и начнем косить. Во-первых, отдохнем от этого города. Во-вторых, чистый воздух, изумительная природа навеют нам новые произведения.
Присутствующие писатели согласились с этим. К ним примкнули один певец, двое композиторов и трое художников. Никто не возражал. Сомневался только один поэт-пародист Зугов:
– Как видите, я полноват, и косарем для вас быть не смогу.
– Не все должны стать косарями… Можно и сено собирать… Сначала в копны, затем в скирды… Или, если не хочешь, ничего не делай… Наслаждайся природой, сочиняй пародии.
Ахмадук снова начал воодушевляться, пытаясь рассеять сомнения Зугова.
– Было бы желательно, чтобы ты тоже поехал, Зугов, – бросил реплику поэт Масаев. – Может быть, там, на свежем воздухе и солнце, у тебя уменьшилась бы желчь.
– Если бы только желчь, скажи лучше: яд, – добавил поэт Дамаев. По-видимому, обоим поэтам изрядно досталось от пародиста Зугова.
А сам он сидел, уподобившись истукану. Разговоры утихли, и он сказал:
– Хорошо.
Когда пришли к всеобщему согласию, Ахмадук подытожил:
– Вы все согласны. Поэтому завтра с утра выезжаем. Сначала на автобусе до местечка Кате, оттуда на грузовике до урочища Каххаши, а оттуда два-три часа пешей ходьбы – и будем у той горы…
– А с косами как? – спросил рыжебородый детский писатель Гакашев.
– У кого дома есть коса, можно прихватить с собой. Вообще, местные пастухи обещали обеспечить нас и пищей, и косами. А мы обеспечим их сеном…
– Смогут ли они прокормить около двадцати человек? – засомневался известный чревоугодник романист Владилен.
– Об этом не надо беспокоиться. Наше дело – приехать косить, собирать сено. Остальное взяли на себя местные жители… Есть места для ночлега. Если не хватит, расставим шатры, которые заранее доставлены туда, – словно пастух, направляющий баранов в загон, Ахмадук направлял мысли присутствующих в нужное русло.
– Великое дело ты творишь, Ахмадук. Любую свою затею осуществляешь. Вероятно, джинны тебе помогают, – тихо, будто про себя, но достаточно четко, чтобы услышали остальные, промолвил лысоватый скульптор и архитектор Ягаев.
– Неужели кроме джиннов мне некому помочь? – спросил Ахмадук. Словно этот вопрос не относился к нему, Ягаев сидел и смотрел в угол. Безмолвие затянулось на несколько минут.
– Тогда расходимся, завтра пораньше надо отправляться в путь, – Ахмадук направился к выходу.
2
На следующий день двадцать два человека – писатели, художники, певцы, композиторы, ученые – сели на желтый автобус и отправились в горы.
День был ясный. Несмотря на незначительную неровность дороги, автобус ехал монотонно, без особой тряски. Шофер держал среднюю скорость и умело маневрировал между редкими ухабами.
После некоторой тишины пассажиры немного оживились. На заднем сидении поэт Дамаев и драматург Девниев затеяли игру в шахматы. Поэт Ахаев стал настраивать свой дечиг-пондур. Карикатурист Забархоев яростно забренчал на своей гитаре и заорал:
Я недавно видел Ибрагима,
А сегодня он зарыт в земле.
Шахматисты поссорились и с громкими криками вцепились друг в друга. В автобусе начался кавардак.
Ягаев, задумчиво сидевший на переднем сидении, меланхолично почесал свою лысину и голосом, который услышал бы и глухой, воскликнул:
– К слову сказать… Намедни… Не шумите, мы ведь интеллигенты все-таки!
От этого внезапного и громкого окрика все притихли: они и представить себе не могли, что обычно тихий Ягаев может издать такой рык.
– Вы двое, до нашего приезда прекратите игру в шахматы. А ты, Забархоев, оставь в покое умершего Ибрагима и спой, к слову сказать, что-нибудь повеселее что ли, намедни… Будет еще лучше, если Ахаев на своем дечиг-пондуре исполнит какую-нибудь мелодию… Мы выбрали нелегкий путь, и каждый должен об этом подумать. Мне было бы легче из камня изваять статую, чем встать на этот путь.
После такого выступления Ягаева Ахаев начал перебирать струны дечиг-пондура, и путники погрузились в размышления.
Тем временем речка, разрезавшая склон Ковчег-лама на небольшое ущелье, продолжала свой вечный путь. Она то равномерно бежала по плоскости, то срывалась с обрыва вниз и разбивалась о камень на тысячи мелких брызг, которые (за исключением тех, что отлетали далеко) стекали с камней, вновь сливались друг с другом, образуя русло реки, и текли дальше.
3
Жаркий летний день был на исходе, когда городские косари подъехали к месту, где кончалась проселочная дорога. Впереди была речушка и пешеходный мостик. Колхозный водитель из Каххаша развернул свой грузовик и, попрощавшись с путниками, рванул обратно, увеличивая скорость своей машины, словно опасаясь, что его могут здесь задержать надолго. Пыль, поднятая его колесами, еще долго висела серым облаком над дорогой. Они долго смотрели ему вслед, пока не улеглась пыль. По бревну, служившему мостиком, путники перешли на ту сторону речки и очутились в низине, поросшей березами.
– Откуда здесь взялись эти русские березки? – удивился художник Камаев.
– Калу, ты ошибаешься… Это чеченские березы, – заметил Ахмадук.
– До сих пор не знал, что они у нас растут.
– В горах растут… Здесь встречаются еще зез, бага, база – увидишь, как поднимемся выше…
– Это еще что за деревья?
– Я расскажу тебе, ты записывай.
Камаев, достав блокнот и карандаш, приготовился писать, присев на корточки:
– Говори.
– Зез – это лиственница, бага – сосна, база – ель.
– А как ты сказал береза?
– Дакх… Нет, не дак… Дакх… Дак – это другое дерево. Русские называют его ивой.
– Ничего себе, – удивился Камаев, убирая свой блокнот в холщовую сумку, – да тут все климатические зоны собрались… Я не зря, оказывается, приехал. По крайней мере, научусь чеченскому языку.
В конце березовой долины высится обрыв в несколько метров, чуть выше начинается лесистый склон горы.
На отвесной стене обрыва виден грот, где могут поместиться несколько человек.
Повыше очаг из камней, зола, головешки.
– У меня есть маринованное мясо для шашлыка. Вчера вечером заготовил. Может испортиться. Надо здесь его испечь, – предложил поэт Аржикантов.
«Слишком много поэтов оказалось среди нас, – пронеслось в голове Ахмадука. – Они могут помешать выполнить задуманное».
– Будет замечательно! – поддержал поэта критик Ниттаев.
Отодрали немного бересты для розжига, сверху положили дрова и подготовили очаг. Костер разгорелся от первой же спички.
Маринованное мясо оказалось только у двоих. Шампуров на всех не хватило. Каждому досталось по два-три кусочка… Путники были довольны и этим. Запив этот скудный полдник кисловатой водой из речушки, они засобирались в путь. В это время в тени дерева, где устроились шахматисты, раздался крик Дамаева:
– Поставь фигуру! Отмены ходов нет!
– Почему? – вскипел Девниев.
– Детские игры кончились. Мы играем серьезно.
– Но ты же отменял свой ход.
– В этой партии нет, и больше не буду.
– Не будешь?
– Не буду!
– Тогда забирай к черту эти шахматы или прими позу йоги! – Девниев резким движением смахнул фигуры с доски.
Дамаев нанес ему удар правой прямо в глаз. Девниев упал.
– Теперь сам стой в позе йоги!
Художники вмешались в драку. Писатели и не помышляли разнимать, им надоело их вечное противостояние, которое в конце концов и должно было завершиться таким образом. А композиторы и певцы, которые в этих горных звуках ловили новые особенные мелодии, в шуме, поднятом шахматистами, нашли естественное созвучие.
– Я не прощу ему этот удар! Отпустите меня! – орал Девниев, пытаясь вырваться из рук товарищей.
– Подожди, Девниев! Мы приехали сюда не для того, чтобы устраивать вашу схватку. Мы вышли в путь для большого дела. Если даже в пути вы устроили такое, что будет на месте? – крикнул Ахмадук, испугавшись, что начатое дело на этом может и завершиться.
– Не спеши, Ахмадук, – сказал Ягаев, и мощным голосом добавил: – Мы здесь не для мордобития, к слову сказать… намедни… все-таки не звери. Много веков назад, если такое случалось, наши предки созывали Совет и разрешали спор… Нельзя усугублять… суд майстинцев1, живших в этих горах, славился на весь мир. Было бы хорошо, чтобы главным судьей стал кто-то из них. Есть среди нас майстинец?
– Нет. Они такими пустяками, как мы, не занимаются.
– Есть их ближний сосед, ажхо.
– Он тоже подходит, – согласился Ягаев.
– Овш! Подойди сюда, Овш! – позвал Ягаев.
– Ну, что вы хотите? – коренастый и плотный, как дубовый пень, актер Джагаев вошел в круг, приглаживая свои густые черные усы.
– Ты должен вынести решение по этому случаю, – сказал Ягаев. – Если ты родом из этих гор, то должен хорошо знать, как это сделать.
– Ничего сложного, – он сел на подготовленный для него чурбан, – если они примут мое решение.
– Я соглашусь, – заверил Дамаев.
Все посмотрели на Девниева.
– Я тоже чту чеченские традиции.
– Хорошо, что ты такой. Теперь от каждой группы пусть подойдут по одному представителю и расскажут версию удерживаемого. Расследование будет тайным. Лишний шум не поднимайте. Для вынесения решения я выбираю себе двух помощников: Камаева и Зугова, – начал свою работу Овш.
Главный судья, двое его помощников поднялись и вошли в грот. Две группы, ожидавшие их решения, иногда приходили в движение, сдерживая разъяренных драчунов. Но их удавалось удерживать на расстоянии друг от друга.
В это время Овш со своими «присяжными» выслушивал доводы сторон. Они внимательно слушали представителей, взвешивали, отмеряли, кроили, отрезали. Все было принято во внимание: и то, что шахматы принадлежали Дамаеву, который и пристрастил Девниева к этой древней игре, и то, что Девниев нарушал шахматные правила, хотел изменить уже сделанный неверный ход, а когда Дамаев ему это не позволил, то противник оскорбил его на словах. К слову сказать, «адвокат» Девниева попросил обратить внимание судей на то, что его подзащитный оскорбил противника в очень корректной форме. Девниев, несмотря на свой гнев, не требовал, чтобы Дамаев становился «вверх ногами», а попросил его занять позу йоги. Однако доверенное лицо Дамаева заявил, что, независимо от подбора выражения, оскорбление его подопечному было нанесено, а оскорбление не может быть корректным в принципе. И Дамаев нанес удар кулаком, когда его терпение кончилось…
Когда завершились прения сторон, Овш задал им несколько вопросов и попросил обоих удалиться. Затем, посоветовавшись с двумя судьями, главный принял решение.
Когда Овш вышел из грота, чтобы огласить вердикт, он почувствовал себя древним старейшиной Совета страны, который собрался объявить народу решение общенационального значения. Отрешенный взгляд его скользнул над застывшими в ожидании его слов людьми и остановился на далеких заснеженных вершинах гор, затем устремился в глубокую небесную высь. Мощным голосом крикнул он:
– Люди, слушайте! Слушайте! Я, Жамола, сын Жокала Джагаева, сегодня, девятого дня месяца косы, объявляю решение Совета страны! Первое: за нанесение удара кулаком в глаз драматургу Девниеву поэта Дамаева объявить изгоем… то есть… отделить от нас и оставить в этом гроте. Второе: драматург Девниев обязан прекратить вражду. Решение окончательное и обжалованию не подлежит! И обе стороны должны его выполнить беспрекословно!
Люди в восторге аплодировали. Члены Совета во главе с главным судьей, степенной походкой и важным взглядом подчеркивая свою значимость, медленно спустились вниз.
4
После этого Ахмадук снова взял в свои руки ослабленные бразды руководства экспедицией.
– Идем! Идем! – закричал он. – Дотемна надо добраться до места Хамце.
Каждый взвалил на себя поклажу и все, кроме Дамаева, направились в сторону горы.
Он, словно выброшенный котенок, тоскливо смотрел им вослед. Многое отдал бы он, лишь бы быть с ними вместе, но решение Совета страны надо было выполнять.
Минут через десять тропа, по которой шагали путники, повернула в гору. Еще через пять минут у всех участилось дыхание.
– Эй, – крикнул кто-то. Все обернулись, вдали стоял отставший Зугов. Он вспотел.
– Я дальше идти не могу. Уходите. Если бы не курение… – оправдывался он.
– Подождем, пока ты отдышишься, и вместе двинемся дальше, – сказал Ахмадук с затаенным сомнением.
– Нет… вы идите… сегодня переночую с Дамаевым в гроте, – с трудом выговорил Зугов.
– Иногда туда подъезжает машина.
– На ней уедешь.
– Хорошо, – Зугов присел на придорожный валун.
Путники отправились дальше… Как частый гость этих горных троп, Ахмадук шел легко. Остальным приходилось останавливаться для передышки. Путь, рассчитанный на два часа, затянулся на три.
Когда до Хамце оставалось метров двести, закричал Владилен:
– Я не могу идти дальше!
Он тихо присел на месте и завалился вместе с рюкзаком.
– Что с тобой? – подошли к нему некоторые. Остальные, воспользовавшись таким случаем, сами присели отдохнуть.
– Устал, духу нет, – ответил Владилен.
– Душа твоя ослабла давно, – заметил критик Ниттаев. – С тех пор, как ты свое имя Вадуд заменил именем трупа, ослабла твоя душа, – он поднял зажигалку к лицу Владилена и щелкнул. Тот зажмурил глаза.
– Какого трупа имя? – спросил кто-то.
– Владимир Ленин, несчастный труп которого лежит на площади в Москве и которого никак не приемлет земля… Как нормальный человек может себе присвоить такое имя? – возмущался Ниттаев.
– Вот почему, оказывается, его последние романы были такими слабыми, бесцветными, а герои слабаки… – начал итожить поэт Аржикантов. – Его первые романы были полны жизни, страстей, действий…
– Потому что имя его тогда было Вадуд. Какое звучание! Какая сила! Ва-дуд!
Владилен зашевелился:
– Проголодался! Шоколад… – тихо произнес он.
– Пожалуйста, – Ахмадук достал из своего рюкзака маленькую плитку шоколада и протянул.
Откусив немного сладости, Владилен медленно и неуклюже поднялся. Путники зашагали дальше.
5
А в местечке Хамце жизнь текла своим чередом. Пятидесятилетний Бага, присмотрев за скотиной (коровы и бычки были ухожены, овцы и козы отдыхали в загоне), собрался прилечь на топчане под навесом. В дальнем конце длинного навеса жена Хазман крутила сепаратор, юная дочь Хазу с дуршлагом в руках следила за кастрюлями на печке. В них была простокваша, которая постепенно превращалась в творог. Хазу ловила его дуршлагом, сверху придавливала рукой и, потряхивая, освобождала от сыворотки. Затем заворачивала творожный комок в марлю и подвешивала. Через некоторое время эти чуть просохшие комочки бросали в кадку с рассолом из сыворотки. Там и будет лежать этот творожный комок, твердея и впитывая соль.
День ото дня хорошела и цвела Хазу, словно горный красный цветок на лугу, распуская лепестки своей красоты, упиваясь утренней горной росой, впитывая ночной покой и сияние звезд… В этой ранней красоте не было суетливости и затаенной жажды скорейшего постижения неведомой цели, в ней было самодостаточное спокойствие белоснежных горных вершин. Многие семьи, обитавшие на склонах Ковчег-лама, уехали на плоскость по воле взрослеющих сыновей и дочерей, которые заявили: «Мы не хотим жить в этой глуши, когда настоящая жизнь кипит там, на равнине! Ничего не видя, кроме коров, овец, гор, неба, единственной речки и нескольких родников…»
Хазу довольствовалась тем, что видела вокруг. Она жила, радуясь тому неослабевающему чувству удивления окружающим миром, которое зародилось в ней в момент пробуждения сознания, еще в раннем детстве. Только иногда в последнее время ей становилось неуютно оттого, что рядом не было ровесника, с которым она могла бы поделиться своим восторгом от цветущей весны или мыслями, навеянными созерцанием далеких ночных звезд. Она считала, что даже с этим беспокойством можно совладать, если мир вокруг останется неизменным. Лишь бы так же по утрам возились родители, совершали омовение, творили намаз, шептали молитву, чтобы они будили Бакара, который младше ее на два года, чтобы она доила коров вместе с матерью, чтобы так же журчали родники…
Горы стояли, ручьи бежали, только родители стали меняться: по мере того, как они с братом все дальше уходили от детства, родители старели, седели волосы, росло число морщин на их лицах. Поэтому при всем ее желании неизмененным все быть не могло.
И это лучше нее понимали родители. Поэтому они знали, что, когда дочь вырастет, необходимо будет спускаться к людям, и часто говорили об этом между собой. Однажды, когда родители под навесом пили чай с душицей, она услышала, как мать заметила, что сына женить несложно, дочь устроить тяжелей.
После этого беспокойство Хазу увеличилось, она тревожилась за свое будущее. Мысль о том, что ей когда-нибудь придется выйти из-под крыла родителей, внушала страх. И все-таки она часто думала об этом, ясными ночами наблюдая за звездами. И сегодня вечером она сидела возле копны свежескошенной травы (чей запах тоже дополнял вкус ее теперешней жизни) и смотрела на звезды.
Внезапно раздался лай собак, прервавший ее раздумья.
– Бакар, иди, отгони собак. В это время зверей не бывает, наверно, путник какой-то… – сказал Бага и тихо про себя добавил: – Какой может быть путник, сюда в год два человека не приходит.
Бакар побежал и успокоил собак. Через некоторое время под навесом появились гости из города во главе с Ахмадуком:
– Ассалам алейкум!
– Ва алейкум ассалам! Вы намеренно или случайно? – поднялся им навстречу Бага.
«Кто они такие? И зачем здесь?» – мучимый этим вопросом, хозяин обошел каждого гостя, пожимая руку.
– Ты, наверное, забыл меня, Бага, – сказал Ахмадук.
– Кто же ты? – внимательно посмотрел Бага. – А-а, неужели ты, Ахмадук?
– Он самый. Чему ты удивляешься, разве я тебе не обещал, что приеду?
– Говорил. Это было полгода назад, когда мы познакомились на автостанции.
– Да. Поэтому я и приехал, как и обещал, во время косовицы. Много косарей привел. Тебя не смущает такое количество гостей?
– О чем ты? Гость от Бога. Чем больше гостей, тем лучше. Убытка не будет, а благодать увеличится. Проходите, положите свои котомки, располагайтесь… Подойди, Бакар, помоги им.
Отец с сыном проворно помогали гостям освободиться от поклажи, складывали их рюкзаки в углу под навесом. Когда гости расположились, вышла хозяйка:
– Дай Бог вам здоровья и мира. Как хорошо, что вы приехали. Сегодня, когда петух кукарекал, повернувшись к дому, я поняла, что кто-нибудь приедет.
– Не кто-нибудь, а двадцать приехало.
– Это хорошо… Сейчас я испеку чепалгаш. Дорога утомляет.
– Ковчег-лам хотим очистить от травы.
– Будет замечательно, если у вас получится… Говорят, что прежде такого не случалось… Все ваши родные живы, здоровы?
– Все живы и здоровы, – ответил за всех Ахмадук.
– Это верно, – вступил в разговор Бага, – никогда прежде Ковчег-лам не скашивали полностью. Самое большое – половину косили.
– Почему?
– У людей не было согласия. Двое косарей за два месяца могли бы это сделать. А вас около двадцати… Вы можете спокойно за две-три недели закончить.
– Мы это сделаем, Бага. Можешь не сомневаться.
– Наши предки говорили, если эту гору очистить от бурьяна, кустов, снизойдет благодать… Бакар, поймай того круторогого барана… – крикнул хозяин.
– Не надо резать барана… к тому же ночью… – попросил Ахмадук.
– Ты что? Не одного, а двух зарежем. Вообще-то надо было бы резать по барану на гостя… Но мясо может пропасть… Здесь у нас холодильников нет, как у жителей равнины. Но пока вы здесь, каждому гостю достанется по одной бараньей голове…
Тут Бага обнаружил, что никто из гостей его не слушает. Взоры всех устремлены к углу навеса. Посмотрев туда, Бага заметил появившуюся из-за стога сена дочь.
– Добро пожаловать! – произнесла она мягким голосом, без смущения и удивления, словно видела их здесь ежедневно.
– Божьей милости…
Девушка подошла к матери, суетившейся у печи.
– Это наша дочь, – сказала мать. – Подойди, Хазу, помоги мне испечь чепалгаш.
Отец с сыном отправились резать барана.
Ахаев взял в руки дечиг-пондур и начал настраивать, перебирая струны. Наконец, он стал напевать песню на стихи Ахмеда Сулейманова о запоздалом путнике, которого в буранную ночь приютила в горах чеченская семья.
И без того торопливые руки хозяйки под звуки песни заработали еще быстрее. Ежеминутно она готовила очередную лепешку с творогом и бросала на сковороду. Хазу вовремя переворачивала, не давая ей подгореть.
И щедрость вайнахов,
И их благородное слово
Обогреет гостей
Сильней, чем огонь очага…
Ахаев закончил песню и умолк с дечиг-пондуром в руках.
– Живи долго, чеченец, и без этой песни мы приняли бы тебя гостеприимно. Мы, горцы, только и умеем гостей принимать, и больше ничего, – сказала хозяйка, бросая в сковороду очередной чепалг. От этой шутки гости захохотали, разбудив спящую округу.
– Всегда ты что-нибудь невпопад вытворяешь, Ахаев, – сказал Ягаев. – Лучше посмотри на тихую природу и сыграй успокаивающую мелодию.
Ахаев молча перебирает струны. Ему необходимо собрать свои мысли, разрозненные замечаниями хозяйки и смехом товарищей, и выбрать мелодию. Наконец, он начал мелодию, похожую на журчанье ручейка, которая соответствовала этой тихой ночи. Не успел он закончить свою мелодию, как на длинном столе под навесом появились две большие горки дымящихся чепалгаш, обданных кипятком, смазанных топленым маслом и аккуратно нарезанных. Гости расселись на скамейки по обе стороны стола и налегли на ужин.
– Уф-фай! Какие вкусные.
– Удивительно тонкие получились…
– Хозяйка мастерица.
Не успели доесть чепалгаш, как на столе появились жареные печень, сердце и легкие барана, а затем и вареное мясо.
Трапеза затянулась заполночь. Удовлетворенный ужином Владилен заметил:
– Я не знал, что в горах сохранились такие обычаи и традиции… Нам бы всегда вот так путешествовать, возрождая благородные традиции нашего народа.
– Всегда нельзя, – сказал Овш. – Лето не вечно тянется, и зима приходит.
– Тоже верно… А теперь нам надо укладываться спать, – вступил Ахмадук.
– Хвала Всевышнему. Пусть милостыней зачтется эта пища!
– Аминь!
– Аминь!
Гости расположились кто в палатках, кто под навесом.
В это время ущербная луна струила свой мягкий и холодный свет на склоны гор и клонилась к горизонту. А речка, разрезавшая Ковчег-лам, стремила к Аргуну свои воды, в которых блестели отражения луны и далеких звезд.
6
Ахмадука разбудил стук молотка. И он почувствовал некоторую неловкость оттого, что они так долго спали, ведь приехали работать.
– Почему не спишь? – отвечая на приветствие, привстал Бага с молотком в руке. Напротив него стоял Бакар, поддерживая на наковальне косу.
– Сколько еще можно лежать? Хороши же мы – приехали косить и спим до вечера.
– Отдыхайте, косовица никуда не денется… – сказал Бага, присаживаясь на стульчик.
– Так-то оно так… однако говорят, что желательно косить по росе…
– И по росе успеете накосить. Ковчег-лам – большая гора, – Бага начал отбивать очередную косу.
Остальные гости тоже стали просыпаться…
Умывшись возле ближнего родника, радуясь природе и чистому воздуху, они начали собираться вокруг стола.
Вскоре на столе появились белые лепешки, хлебцы из кукурузной муки, сметана, сыр, яичница, творог с маслом, которые проворно подносили Бакар и Хазу.
Позавтракав, гости улеглись в густой траве, завели разговоры, разделившись на группы по два-три человека.
– Товарищи, так дело не пойдет. Мы приехали не только отдыхать! – раздался окрик Ахмадука.
– А зачем мы приехали? – удивился Забархоев. Со вчерашнего вечера ему не терпелось сыграть на гитаре, о чем его никто не попросил. И ему вовсе не понравился разговор Ахмадука.
– Вот тебе на! Разве не косить мы приехали? Очистить Ковчег-лам от травы, бурьяна, кустов, затем скирдовать сено…
– А-а, извини, забыл, – Забархоев отодвинул свою гитару, накрыв ее охапкой сена, чтобы не перегрелась на солнце.
Ахмадук и Бага отошли за навес, чтобы посоветоваться. Они решили прежде всего наточить все косы. Поэтому каждый со своей косой должен подойти к наковальне. Затем, по мере готовности косы, начать косьбу. Сегодня воскресенье, которое считается удобным днем для начала работы.
Ахмадук, сообщив товарищам это решение, взял свою косу и первым подошел к Баге. Через пять минут коса отбита. Слегка шаркнув по ней оселком, Ахмадук направился к подножию горы Ковчег-лам и стал косить свою полоску нешироким валком, как его в детстве учил отец. На обратном пути он будет подсекать его, чтобы не оставалось стоячего стебелька травы. Следом за ним начал Камаев. Широким взмахом косы он чисто и аккуратно срезал густую траву, так что даже земля видна. «Лучше бы не усердствовать так сильно: можно зацепить косой камень или пенек да корни травы можно повредить, что нежелательно», – подумал Ахмадук. Он вдруг удивился своим мыслям. А чистые ли они? Может, это заговорила зависть оттого, что Камаев так ловко владеет косой? Откуда здесь пеньки, когда никто не рубил этот кустарник и какой вред может нанести коса корням травы, разве Камаев пашет землю? Как бы там ни было, замечательно, что Камаев умеет так хорошо косить. Вскоре все начали свои валки и принялись к косьбе, кроме Пациева. Он слишком долго задержался возле Баги. В конце концов Бага крикнул и подозвал к себе Ахмадука.
– Этот не может держать косу на наковальне, руки дрожат, – сказал Бага.
– Были бы пятьдесят грамм или бутылка пива, до вечера не дрожали бы руки, – Пациев покраснел, и капельки пота выступили у него на носу.
– Я же объяснял еще в городе, что в горах выпивки нет. Ты разве не слышал? – спросил Ахмадук.
– Меня тогда не было… Ведь в горы все идут с выпивкой… – ответил Пациев. – Поэтому мне казалось, что здесь будет не только еда, но и выпивка.
– Что бы тебе там ни казалось, даже если весь мир пойдет в горы с выпивкой, здесь тебе на похмелье рассчитывать не придется, Пациев, – Ахмадук сам даже удивился своей холодной и безжалостной речи.
– Тогда я не могу здесь оставаться! Если завтра я не приму стопку, то умру. Врач мне сказал… – в глазах Пациева застыли страх и ужас. Отбросив косу, он рванул под гору. Он ускорял свой бег, словно бычок, устремившийся к водопою в знойный полдень. Через несколько минут он миновал овчарню и, все уменьшаясь, исчез совсем.
Ахмадук беспокоился о том, как же Пациев доберется до города. Ну не может он с ним здесь возиться! Не маленький, к тому же считается певцом. Как можно до конца жизни быть рабом бутылки? Что бы ни случилось, нельзя прервать начатое дело.
Его мысли нарушили крики косарей. Когда он прибежал туда, увидел, как противостоят друг другу композитор Хардашев и Забархоев. Последний кричал:
– Уступай дорогу, я догнал тебя.
– Не уйду, иди и коси за мной, – твердил вспотевший грузный Хардашев.
– Таков обычай у вайнахов – догнавшего надо пропустить на свою полосу, а самому встать на его место. Такова шутливая традиция. Уступи, – попросил Ахмадук.
– Ничего подобного! Пока я жив, никто не станет на мое место. И со мной такие шутки не пройдут, – Хардашев превратился в гранитную скалу.
– Тогда, Забархоев, уймись хоть ты… Ясно. Ты хороший косарь… Теперь не спеша закончи свой валок, – обратился к нему Ахмадук.
– Не бывать тому! Если мнение такого собирателя нелепых звуков ставится выше вековых традиций… – Забархоев в ярости метался с пенкой у рта.
– Какие нелепые звуки?! Сам не умеешь писать, пытаешься пародировать других и на этих наветах зарабатываешь кусок хлеба, сморчок! – с поднятой косой Хардашев ринулся к противнику.
– Только подойди, голову твою отсеку, как репейник! – Забархоев стал похож на тигра, приготовившегося к схватке.
Ягаев схватил Хардашева, а Ахмадук Забархоева. Побросав свои инструменты, подбежали остальные косари.
Поднялся гул.
– Судить надо. Намедни… к слову сказать… Пусть наш Совет страны начнет заседание, – громче всех заорал Ягаев.
– Нет. Мне ваш совет не нужен, мне вашего ничего не надо… Я не могу находиться там, где не чтут старинный чеченский обычай… Наложение валка… я не участвую в этом базаре… до свиданья… – Забархоев поспешил вниз. Несмотря на свой малый рост, он был накачан и закален с детских лет, поэтому был проворен и в потасовке, и в любом другом деле.
Когда он скрылся за горой, Ахмадук сказал:
– Заканчивайте свои валки потихоньку. Выявим опытных косарей и тех, кто сегодня впервые взял в руки косу, и завтра расставим их раздельно.
Когда закончили начатые валки, солнце уже скрывалось за горой. Самая длинная полоса досталась Владилену, потому что он начал последним. Своей вины в этом он не видел, а считал все кознями товарищей, которые были недовольны тем, что он сменил свое имя.
Закончив свои валки, все посмотрели в сторону Владилена. Он был раздосадован. Словно пытаясь одним махом завершить начатое, он яростно замахал косой, острый кончик которой глубоко вонзился в муравейник, изогнулся и со звоном сломался. Потерявший равновесие Владилен чуть не упал на этот обломок косы.
Ахмадук предложил Владилену отдохнуть, и сам закончил его валок.
Затем косарей разделили на две группы. Камаев возглавил тех, кто имел навык. А Ахмадук взялся обучать новичков. Группа Камаева должна была напряженно косить. А дня через два к ним присоединятся те, кто пройдет школу Ахмадука. Чтобы не мешать группе Камаева, Ахмадук удалился со своими учениками в другую сторону и начал преподавать им уроки косовицы трав.
– Нельзя крепко сжимать в руке держак косы! Коса от вас никуда не убежит! Держи легко! Если будете сжимать крепко, натрете мозоли. И размахивайте не очень сильно! И, когда коса входит в траву, своим телом придавайте ей ускорение. Кончик косы немного загибайте к верху, чтобы не коснуться земли. Будьте внимательны, следите за тем, есть ли впереди бугорок, куст или камень. Иначе будете ломать косы, как Владилен… Тогда нам и кос не хватит. К тому же, говорят, если ворошить муравейник, быть ненастью. А нам в этот период нужен дождь? Не нужен! Мы должны не только скосить всю траву на этой горе, но и собрать сено и заскирдовать его. Только после этого мы можем сказать, что выполнили поставленную перед собой задачу.
После такой теории Ахмадук приступил к практическим занятиям. По одному ставил косить, остальные наблюдали и слушали замечания учителя. Они проработали до вечера. В сумерках выпала роса, и после этого они накосили несколько валков. Прекратили работу только после того, как Бага пригласил их на ужин.
С большим воодушевлением и подъемом возвращались они к овчарне. Уселись за длинным столом, шутили, вспоминали былое, разговорились. Тотчас же перед ними поставили вареную баранину, курдюк и галушки из кукурузной муки. Все приступили к еде, жестоко утоляя голод, который у каждого чувствовался после утомительной работы и чистого горного воздуха. Один Хардашев не притрагивался к еде. Заметив это, Бага сказал:
– Ты чего не ешь?
– Мне нельзя баранину кушать…
– Это еще что? Говорят, кто-то сказал: если себе курдюк не кушаешь, то для меня и косить не сможешь! Подобно ему…
– Да, да, я слышал эту притчу… Сейчас ночь, завтра утром я уеду.
– Нельзя такое говорить, дорогой наш гость. Я не говорю, чтобы ты уехал. Если нельзя баранину, есть и другая пища… Эй, слышишь… Пусть принесут лепешки, хлебцы, сметану, сыр, простоквашу…– засуетился хозяин, сокрушаясь, что его слова обидели гостя.
Но Хардашев остался верен своему решению ехать домой. Утром к нему присоединились еще трое: Аржикантов, Гакашев и Девниев. Все они тайком сообщили Ахмадуку, что после баранины у двоих началась диарея, а у одного поднялось кровяное давление.
– Дай Бог вам здоровья и счастливого пути, – напутствовал их Ахмадук и, возвращаясь, наткнулся на Ягаева, который нес большой валун.
– Для чего тебе этот камень?
Ягаев положил валун и тяжело вздохнул.
– Видишь вон ту башню с осыпавшейся верхушкой? Пока мы здесь, хочу ее восстановить.
– Замечательно… Но если мы будем так уезжать, скоро никого не останется, – поделился своей тревогой Ахмадук.
– Это неизбежно… И не расстраивай себя из-за этого. Останутся те, кто верен своему обету. А вообще мир состоит из разлук и потерь, – утешил Ягаев.
Ахмадук согласился с ним.
– Знаешь, что меня удивляет? – вновь заговорил Ягаев. – Как люди жили в этих горах, довольствуясь самым малым, ничего не видя вокруг кроме этих гор?
– Когда я впервые приехал сюда, у меня тоже возникла такая мысль, – сказал Ахмадук. – Ответ я нашел только тогда, когда приехал в третий раз.
Здесь Ахмадук умолк, собираясь с мыслями.
– Поведай и мне об этом, если нет какой-то тайны, – Ягаев слегка поглаживал рукой свою лысину.
– Посмотри, Султанбек. Души скитающихся по миру людей рассеяны. Они познают мир в его широте и многообразии. А души жителей гор сконцентрированы, собраны, всегда насторожены, потому что здесь нельзя расслабляться. Споткнешься – и полетишь вниз с обрыва. Здесь всегда надо быть собранным. Замечал здесь камни, которыми вымощены тропы? Они подогнаны друг к другу, соединены, притерты. Здешние люди тоже должны были быть опорой друг другу. Иначе одно дуновение ветра погасило бы их очаги.
– Не знаю,как могли люди веками жить в этом ограниченном горами пространстве, не ведая про другие земли, сменяя одно поколение другим?
– И мир они познавали в своей глубине и высоте… Да, да, это именно так. Не все стороны здесь закрыты, небо ведь открыто. Поэтому их души стремились к небесам, познавали небо. Изучали его и возвышались сами. Они больше думали о Боге, и довольствовались хлебом насущным, и благодарили за это Всевышнего, – Ахмадук свободно делился мыслями, которые давно созревали в его сердце.
– В одном ты прав, – сказал, поднимаясь Ягаев. – О Боге здесь думаешь много. Хочу попросить Багу научить меня совершать намаз и начну молиться. Новичку здесь бывает трудно… Горы не такие безобидные, как выглядят на картинах… Они трудны и тяжелы… Наши товарищи убегают, не выдержав их тяжести, хотя и называют разные причины.
– А ты? Что ты решил?
– Я не сбегу… Я духом хочу покорить гору… Одолеть ее ногами недостаточно, надо душой покорить гору, – твердо и решительно заявил Ягаев. Он поднял свой камень и пошел в сторону башни.
Этим утром и вечером дважды выходили косари и хорошо поработали. Бага не участвовал в косовице. Он отбивал их косы, обеспечивал необходимым, вместе со своей семьей ухаживал за скотиной. Мать и дочь готовили еду.
После отъезда четверых Ахмадук установил режим дня, который был одобрен гостями: подъем – до восхода солнца; косовица – до падения росы; затем до тех пор, пока солнце не склонится к западным вершинам гор, каждый занимается своим творчеством (пишет стихи, рассказы, рисует, сочиняет музыку); потом до сумерек – снова косовица. Один день в неделю будет выходным – для подведения итогов работы, ознакомления с творческими успехами.
7
Прошло две недели с тех пор, как косари из города прибыли на Ковчег-лам. Из двадцати двух осталось десять: поэт, прозаик, критик, режиссер, певец, два художника, историк-лингвист, актер, которые жили по установившемуся режиму.
По росе начинали косить, через пару часов расходились по своим творческим делам, вечером снова косили.
Третья часть склонов Ковчег-лама была уже скошена. Ягаев завершал реставрацию верхушки башни, ему помогал Бакар. За ними повсюду следовала белая, мохнатая кавказская овчарка Гули. В минуты отдыха Ягаев начинал дрессировать собаку. Отбрасывал палку и приказывал псу принести ее. Потом имитировал схватку и катался по траве вместе с овчаркой, которая восторженно визжала. Бакар закатывался от смеха и сам пытался подражать Ягаеву.
Камаев облазил всю ферму, нарисовал портреты всех окружающих, дом, овчарню, Хазман во время дойки, Хазу, накрывающую стол, Бакара, погоняющего овец, Багу, отбивающего косу, кувшин под навесом, наковальню, косу, висящую под навесом, очаг, овчарку… – он успел нарисовать все живое и неживое, что окружало его. Ахмадук однажды сделал ему замечание, что ты, мол, все время крутишься на этом дворе, можно выйти и за пределы, в горах много чего красивого, что можно нарисовать. Камаев сказал, что его не надо учить рисовать, ведь он не советует ему, как писать сценарий, а он как художник-этнограф старается запечатлеть на бумаге особенности исчезающего быта чеченского жилища. За его улыбкой Ахмадук почувствовал еле сдерживаемую досаду и раздражение.
По правде говоря, возле фермы крутился не только один Камаев. Поэт Масаев декламировал перед Хазу каждое свое четверостишие, словно она в чеченской литературе занимала статус Белинского, а недавно отметивший свое пятидесятилетие Сираев свои очередные пейзажи «Рассвет в горах» и «Родник в сумерках» демонстрировал Хазман и Хазу, словно они были экспертами Эрмитажа. Языковед и историк Зилаев подходил во время дойки к Хазман и Хазу и, заглушая звон молочных струй, бьющихся в ведро, повышая голос, словно он был на международном симпозиуме, комментировал и толковал женщинам петроглифы, обнаруженные им на камнях местных башен. Творчество Ягаева у всех на виду. Однако он каждый вечер разворачивал на столе большой лист бумаги и продолговатым прутиком указывал на орнамент какой-то башни и рассказывал вначале о строении башни, затем о проделанной им работе, о том, что предстоит сделать, о каждом уложенном им камне, его размерах, прочности… Свою лекцию он всегда заканчивал так:
– Во время кладки древние строители в раствор добавляли яичный белок и молоко. У нас нет такой возможности… Постараемся сделать все, что можем.
Когда Ягаев в четвертый раз закончил свою речь этими словами, Бага сказал:
– Султанбек, дай Бог тебе долгих лет жизни. Если бы все, что ты говоришь, было верным, я направил бы на твою работу все яйца и молоко с этого двора. Как могли нищие и полуголодные люди готовить раствор для кладки камней, добавляя туда молоко и яйца? Сказки все это. Я тебе завтра покажу белую глину, которую они туда добавляли. Вон в том ущелье ее много.
Ягаев задумчиво молчал. Ахмадук, которому изрядно надоели эти ежедневные лекции, спросил:
– Ягаев, когда ты закончишь?
– Башню строили в течение года. Я всего лишь верхушку доделываю.
– Когда ты закончишь эту верхушку?
– Мне осталось выложить верхний балкончик, затем доделать пирамидальную крышу…
– Короче, сколько дней тебе необходимо? – Ахмадук начал терять терпение.
– А-а, три дня!
– Тогда, друзья, попутчики мои, в день, когда Ягаев закончит реставрацию башни, мы должны устроить своеобразный праздник по подведению итогов. В тот день каждый должен показать свое творчество: художник – рисунки или картины, поэт – новое стихотворение, режиссер – сценку, короче, кто во что горазд…
– Это будет хорошо!
– Я согласен.
– А в тот день косить будем?
– Нет, косить не будем. Праздник все-таки. Значит, все согласны. Через три дня будет четверг. Будем готовиться к нему.
Все задумались. «Ягаеву хоть есть что показать, а чем похвастаюсь я?» – подумал каждый из них, в том числе и Ахмадук.
После ужина все разошлись, обдумывая грядущий праздник.
8
Четверг выдался великолепным: дул легкий ветерок, изредка виднелись молочно-белые облака. Они не очень затеняли щедрый солнечный свет, напротив, их белизна ярче высвечивала синеву неба и зелень покрытых травой склонов. Тени этих облаков лежали в различных местах, подчеркивая и обнажая удивительную красоту этого дня…
Было около одиннадцати часов утра. Гости и хозяева собрались на лугу перед овчарней.
Ахмадук громко заговорил:
– Люди! Чеченцы! С вашего позволения мы начинаем этот праздник подведения первых итогов нашей творческой деятельности в горах. Для победителя наш гостеприимный хозяин выделил призы: барана, бурку и кинжал. И, думаю, будет правильно, если победителя определят сами хозяева.
– Правильно!
– Правильно!
– Начнем наш праздник с песни певца Ахаева.
Ахаев долго аккомпанирует себе и, наконец, поет с легким прононсом:
О красавица гор, о красивая дочь своей матери,
Неужели боишься ослепнуть, если посмотришь
На меня своими черными очами, что сияют
В плену у ресниц, как терн в клюве у ласточки?
Снова продолжительный аккомпанемент.
О гордая горянка, о красивая дочь своей матери,
Если отпустишь крыло своей матери и выйдешь к реке,
Неужели боишься ты, что быстрый ветер
Тебя унесет в заповедную даль?
О красавица гор, о красивая дочь своей матери,
Неужели боишься оглохнуть, если послушаешь,
Когда я тебе о боли своего сердца поведаю,
О сладких мечтах своих расскажу я тебе?
Все понимали, о ком эта песня, знала Хазу и ее мать Хазман тоже. Каждым утром и вечером, когда мать с дочерью уходили доить коров, Ахаев со своим дечиг-пондуром следовал за ними и напевал (в те моменты, когда там не было Зилаева) до тех пор, пока Хазу его не прогнала.
– Отстань от этих коров, с тех пор, как ты начал петь, у них пропадает молоко, – девушка, несмотря на свою юность, могла выдать острое слово.
Ахаев несколько дней ходил насупившись и коров обходил стороной. И, пользуясь случаем, сегодня он отводил душу:
Взглянув на меня, ты не ослепнешь,
Послушав меня, ты не оглохнешь,
И если поймешь мое сердце, счастливо
Мы заживем, о горянка, о красивая дочь своей матери!
Словно пытаясь порвать все струны, он яростно рванул их и, подобно раненому льву, издал гортанный звук, протяжный, высокий, низкий, и умолк.
Собравшиеся зааплодировали.
– Песня написана доступным и понятным языком, – заметил Владилен.
– Чтобы понять, и напрягаться не нужно, и так все ясно, – поддержал его Овш.
Однако та, которой Ахаев посвятил свою песню, видимо, не очень понимала ее смысл, на ее безмятежном лице не было никаких изменений: то же постоянное восхищение миром, легкое удивление и едва уловимая улыбка.
Ахмадук удивлялся тому, что более десяти человек, даже те, кто были ровесниками ее отца, пытались завоевать ее внимание. Даже он сам ловил себя на такой мысли, хотя и не разглашал ее, подобно Ахаеву. Если говорить о возрасте, то он и Камаев среди них самые молодые: Камаеву двадцать семь, а ему двадцать восемь лет.
– Ахмадук, о чем ты задумался, неужели песня Ахаева навеяла тебе грусть? – рассмеялся Овш.
– Нет, нет, песня была хорошей.
– Тогда продолжай торжество. Народ ждет тебя…
– Слово предоставляется поэту Масаеву! – закричал Ахмадук.
– Спасибо. Я возьму слово: прочту несколько своих четверостиший.
Говорят, что здесь мы косим
И заготавливаем сено.
Много подрезали молодой поросли,
Цветов, колючек и верб.
Положено, конечно, косить,
Вырастет трава молодая…
Не будет жизни без любви,
У матери не будет зятя.
…Не утаивай своей красоты!
Владилену очень понравились рифмы Масаева.
Взгляд Овши же был колючим:
– Последнюю строку ты оставил одинокой. Не можешь еще три строки дописать?
– Если надо, могу и три, и тринадцать дописать… Особенность этого стихотворения и заключается в одиночестве этой строки, – Масаев пустился раскрывать глубинный смысл своего творения.
– Я тоже так считаю! Спасибо! – сказал Ахмадук. Праздничную программу надо было вести динамично, чтобы завершить к полудню. Тогда они должны были полакомиться старинным чеченским блюдом – мясом, испеченным на углях. Оценку этому блюду должны были дать гости. Так же, как их творчество оценивали хозяин со своей семьей.
– Теперь дадим слово Владилену, – объявил Ахмадук.
Владилен некоторое время стоял, молча моргая. Потом прослезился. Все удивленно смотрели на него, не понимая, в чем дело.
– Извините, – произнес он наконец. – Я, как вам известно, романист. За три дня написать роман невозможно, да и прочесть тоже… Но… я для вас приготовил один подарок… – Владилен тяжело вздохнул, – я и вправду не знал, что у чеченцев есть такие благородные обычаи… Где-то читал о том, что были такие обычаи… А они, оказывается, еще живы… Чеченская кулинария, культура животноводства, гостеприимство – особый стиль жизни народа открылся мне здесь. Все перевернуло мою душу и мысли. Сегодня для меня дороже всего подкова, которую выковал Бага в своей кузнице, или тот камень, уложенный в стену башни, но еще дороже мне наши чеченские приязненные отношения, шутки, вечерние посиделки… Короче говоря, я раскаиваюсь… от души… Я решил восстановить свое имя, данное мне моим отцом… Отныне я – Вадуд.
– Вот это да!
– Что в мире творится!
– Вот это мужчина!
Раздались крики возбужденных косарей:
– Имя так просто не меняют… надо зарезать барана, совершить мовлид, – сказал Ахаев.
– Когда вернемся домой…
– Вам нечего возвращаться домой. Я зарежу барана, – сказал хозяин. – Мовлид сегодня же прочтем. Изменение имени – большое событие. Да зачтется тебе это Всевышним!
– Даже ради того, чтобы всколыхнуть твою душу, стоило сюда приехать, – заметил Ягаев.
– Продолжим нашу пахоту! – Ахмадук взял разговор в свои руки.
– Поехали. Покажи свое творчество, – сказал Зилаев.
– Тоже можно. Как вы знаете, я сценарист. А сценарий по объему бывает большим.
– Хочешь, как Владилен, поменять свое имя… Ха-ха! – раздался смешок Зилаева.
– Нет, Зила, мне не нужно менять свое имя. Сценарии пишут для фильмов… Мы пока не можем снимать кино… Поэтому я написал короткую новеллу, притчу. Ахаев, ты слегка аккомпанируй на дечиг-пондуре, пока я буду читать.
Ахаев согласно зазвенел струной.
Ахмадук начал читать:
– «Родниковая капля», – название рассказа.
«Знаете ли вы, как рождается родник? В недрах той высокой горы зреет любовь к земле, накапливается, увеличивается, и, где-то разрывая каменное чрево, выходит к солнцу, свету. Так рождается источник. Он состоит из миллионов капель и брызгов. И каждая из этих капелек сливается с другими, они притягиваются друг к другу и своим огромным количеством создают струю родника.
Однажды из недр этого Ковчег-лама на свет появился родник. Перед его каплями встал вопрос: пологими склонами, спокойным течением спуститься в низовье или самым трудным, тернистым путем, через валуны, срываясь с обрывов, разбиваясь о скалы на тысячи брызгов, стремительно достичь Аргуна? Много капель хотело избрать второй путь.
Одна Одинокая Капля заметила: «Если мы будем разбиваться об камни, есть опасность, что мы не воссоединимся снова. Поэтому давайте все вместе спокойно потечем вниз, внимательно разглядывая окружающий мир». – «Ничего не случится, – отвечали другие капли, – отбившаяся капля по камням стечет и соединится с родником».
Не слушая Одинокую Каплю, масса капель устремилась с горы, своей скоростью удивляя даже Солнце. Прямым ходом она сорвалась с высокого обрыва и, пролетев более двадцати метров, ударилась о каменные плиты и рассыпалась на мелкие брызги. Затем все капли и брызги устремились в расщелины среди камней и вновь слились в единый ручей.
Однако Одинокая Капля отлетела слишком далеко и упала на огромный валун. Она тоже поспешила и покатилась вниз. Но русло было далеко. И на полпути к своим собратьям под лучами горячего солнца Одинокая Капля испарилась. Сливаясь с испарениями, собирающимися в облако, она решила снова слиться с каплями своего родника. Вместе с тем зародилась и надежда на то, что когда-нибудь это облако, в котором она очутилась, разрыдается над этим родником, и она снова окажется в кругу товарищей. Однако облако, зародившееся на вершине Ковчег-лама, гонимое ветром, уплывало в сторону великих морей».
Когда Ахмадук закончил чтение, воцарилась тишина. Лишь Ахаев продолжал тихонько бренчать на дечиг-пондуре.
– Хватит! Ахмадук уже закончил, – сказал Масаев.
– А! – Ахаев вздрогнул и остановил свою мелодию.
– Я не очень понял смысл… Но подействовало на меня сильно, – сказал Владилен.
– К слову сказать… Намедни… На всех это повлияло сильно. Иначе и тишины такой не было бы. Это философское произведение, чтобы его осмыслить и понять, надо перечитывать вновь и вновь, – подытожил Ягаев.
– Тогда мы посмотрим на творчество художников, – очки Ахмадука вспотели от волнения, которое он испытывал, словно юный поэт, впервые читающий свои стихи.
Он это сказал во многом, чтобы отвлечь от себя всеобщее внимание.
Картины Камаева и Сираева были развешаны на плетеной изгороди. Всем понравились рисунки Камаева, изображающие домашний быт чеченской семьи. Особенно пришлись всем по душе эскизы к портретам Баги, его жены, сына и дочери.
В рисунках Сираева человеческих лиц не было. Это были пейзажи. И многие из них были светло-синего цвета.
– Почему у тебя все они небесного цвета? – спросил Овш.
– Таков мой мир…
– Судя по твоей фамилии, они должны были быть другого цвета – серого… Ха-ха-ха, – смеется Владилен (Вадуд).
– А кем же должен был быть ты, если соответствовать твоему сейчас измененному имени? – Сираев сердит и не намерен терпеть злорадство по отношению к своему творчеству.
– Если ты будешь так рисовать, то сам можешь окраситься в небесный цвет. Ха-ха-ха, – смеясь, не унимался Масаев.
Гнев Сираева достиг высшей точки кипения. Заскрежетав зубами, он, нагнувшись, схватил первый попавшийся в руку камень и кинулся на злопыхателей.
– Я тебя сделаю синим!
Однако Ягаев и Зилаев смогли удержать его на полпути к Масаеву.
– Отпустите меня! Я это так не оставлю.
– Ой, Сира, – Ахмадук преградил ему путь. – Ты что? Он же шутит!
– Со мной, валлахи, не будет так шутить, – в глазах Сираева заметно помутнение разума.
– Подожди… дай закончить торжество, потом Овшу поручим рассмотреть эту ситуацию на Совете.
– Мне не нужен ничей Совет! Я сам решу и вынесу ему приговор!
Сираев извивался, пытаясь вырваться из рук товарищей.
«Видимо, Сираев разозлился, подумав, что Масаев причислил его к так называемым «голубым»… или что было на уме у Масаева? Любит он всяческие колкости говорить», – размышлял Ахмадук.
Видя, что Сираев никак не уймется, Бага сердито сказал:
– Эй, товарищ! Эй! Этот человек не убил у тебя никого. Если даже так, свое отмщение в моем дворе не совершай! Такое в гостях не делают.
После слов Баги глаза Сираева немного прояснились, и лицо обрело нормальный цвет.
– Хорошо. Ты прав. Здесь нельзя… Потом… – пробурчал он что-то про себя.
Ахмадук быстро восстановил ход торжества.
– Теперь свое мастерство покажет режиссер Идалов.
Это был смуглолицый, худощавый молодой человек с большими, словно застывшими в раздумье, глазами, который никогда лишним словом не выдавал свое присутствие, а молча слушал остальных. Идалов попросил всех спуститься со склона на небольшую плоскость, где родниковая вода образовала небольшое озерцо шириной около пятнадцати шагов. Он расставил всех вокруг этой лужи, превратив их в участников своего спектакля, и повесил будильник на одну из ветвей дерева, растущего возле воды. Потом всем раздал по клочку бумаги, на каждом из которых было что-то написано.
– Прошу всех внимательно выслушать меня. Через пять минут вон те часы зазвонят. До тех пор вы должны смотреть на свое отражение в зеркале воды. Когда часы зазвонят, каждый, начиная с Баги, прочитает слова на своей бумажке. Читать будете поочередно, вторым будет тот, кто стоит по правую руку от Баги и так далее, не спеша. Понятно? Тогда начинайте смотреть на воду.
Все посмотрели на водную гладь. Вода была прозрачной и, словно в зеркале, отражала лица всех. Постоянно прибывающая родниковая вода подняла на поверхности рябь и искажала отражаемые образы людей. С каждым таким искажением в голове Ахмадука рождались новые мысли или прежние мысли возвышались на другой уровень. Перед глазами его пронеслась прошлая жизнь. Он старался хорошо учиться в школе, считая, что это самое главное, затем, ослушавшись родителей, поехал учиться в Московский институт культуры, потом по направлению работал директором районного Дома культуры в Костромской области. Там, в чужом краю, где долгой зимой казалось, что и снег падает ему в душу, пытаясь развеять одиночество, провел годы в обществе белокурых девчат, похожих на знаменитые березы, туманя рассудок морем водки и клубами табачного дыма. Такая жизнь могла бы и продолжиться, если бы внезапная смерть отца не вернула его домой.
Остался дома. Через полтора года умерла мать, и зажил он в одиночестве, как волк. Месяца через два уехал из села. Боялся, что сойдет с ума. По правде говоря, и в городе его никто не ждал. Много было специалистов его профиля, работы всем не хватало. Зато было с кем пообщаться. В городе было несколько мест, где собирались работники культуры и те, кто подвизался вокруг этой сферы. Он стал частенько наведываться туда. Не называя свою настоящую профессию («Организатор культурно-массовых мероприятий», короче говоря – «массовик-затейник»), он представлялся как киносценарист. Даже написал один сценарий. Организовал телемарафон для сбора средств, чтобы снять фильм по этому сюжету. Но все деньги, собранные на этом мероприятии, взял один его бессовестный рыжий товарищ, обещав, что пустит их в оборот и удесятерит. И они исчезли бесследно.
Он, увлекшись различными мероприятиями, организовал в Барзое день знакомства с народной культурой, экскурсию по восстановлению старинных чеченских башен, конкурс гармонистов… Сколько их было всего?.. Все его начинания, хотя не приносили ему никакой пользы, были эффективными и вызывающими интерес публики.
Поэтому он прославился как лучший организатор Чечни.
Также и косовица на Ковчег-лам была его очередной затеей. Однако, если это мероприятие завершится удачно, он решил бросить эти дела, жениться и жить для себя. Этнограф и фольклорист Иэсаев говорил ему, что, согласно преданию, если хоть однажды чеченцы придут к согласию и очистят Ковчег-лам от колючек, бурьяна и кустов, то для всего народа снизойдет благодать Всевышнего. Он говорил, что эта тайна открылась ему во время чтения древних чеченских хроник… Собравшийся ехать с ними, он внезапно приболел и остался в городе. Ахмадук уверовал в то, что они эту гору в этом году очистят, что от высочайшей благодати достанется и ему своя доля.
Прерывая его мысли, зазвенел будильник. Смотревшие в воду подняли головы. Тогда Бага прочел со своей бумажки: «Подумав». Потом остальные прочли свои слова. И получилось высказывание: «Подумав, постарайтесь понять смысл вашего созерцания воды и моего исчезновения». Одно слово, которое досталось Овше, не вписывалось в это предложение. И слово это было «Занавес». Прочитав последним свое слово, Овш удивился:
– Что это такое?
– Это значит, что спектакль окончен, – сказал Ахмадук.
– Валлахи, Идалов должен был обязательно выкинуть такое, чтобы засветиться, – сказал Зилаев.
– Думаю, что этот спектакль был придуман, чтобы улучить момент и самому убежать отсюда.
– Ой, не мог же он уйти, не попрощавшись, – удивился Бага.
– Идалов! Идалов! – начал кричать Зилаев.
– Ему бы только людей удивлять, – сказал Масаев.
Камаев сегодня молчал. Ахмадук удивился тому, что обычно словоохотливый товарищ сегодня ходил мрачнее тучи.
– Масаев… мне кажется, я не согласен с тобой, – заметил Вадуд. – Наше созерцание воды и его исчезновение имеет какой-то смысл.
– Какой смысл?
– Точно не знаю. Но уверен, что в этом что-то есть.
– Я тоже так считаю, – Ахмадук поддержал Вадуда.
– Есть над чем подумать, есть, – твердо сказал Ягаев.
Когда дали слово Овшу, он молча простоял несколько минут, глубоко дыша через нос, и, напыжившись, неожиданно громко начал читать монолог из «Отелло». Все вздрогнули, не понимая происходящего. А когда, закатив глаза, с протянутыми руками и возгласом: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» – он ринулся в сторону Хазу, подоспевшие Зилаев и Масаев крепко схватили за локти, а Хазман закричала: «Спрячься, дочка! Этот человек с ума сошел!». Но при виде спокойного и улыбающегося Овша у всех отлегло на сердце.
Потом они направились в сторону башни. Шестнадцатиметровую лестницу, которую сколотили Ягаев и Бакар, усилием всех мужчин с трудом прислонили к башне. Ягаев поднялся на ее верхние ступеньки. Он перекинул один конец веревки через верхнюю ступеньку и пропустил ее до земли. В ведро, к которому был привязан второй конец веревки, положили конусовидный отесанный камень высотой около полутора локтей. Находившиеся внизу потянули свободный конец веревки и ведро пошло наверх к Ягаеву. Он двумя руками достал этот камень с ведра. Посмотрев вниз, он громко сказал:
– Сегодня, водружая этот священный камень – цуркуо-венец – на макушку Ковчеговой башни, я говорю: «Дай Бог, чтобы благодатным было его будущее! Да благословит Аллах чеченскую землю!»
– Аминь! Аминь! – раздались внизу громкие голоса.
Ягаев с камнем в руках повернулся к пирамидальной крыше башни, но в этот момент лестничная перекладина под его ногами сорвалась и камень выпал из рук. Следом за ним и он сам с криком: «О Аллах!» рухнул на землю. Все подбежали к лежачему. Взгляд его застыл, голова свалилась набок, струйка крови просочилась изо рта.
– Великий Аллах, приди на помощь!
– О Аллах! Помилуй и прости!
– Что же это такое!
Крики, молитвы, плач…
Когда они утихли, пришло время принимать решение.
Решили: тело Ягаева необходимо срочно доставить домой. Шесть человек понесут его вниз до дороги. Четверо будут держать носилки, двое будут подменять уставших. Старшим группы назначили Овшу. Добровольно выполнить эту задачу взялись Масаев, Вадуд, Ахаев, Ниттаев, Сираев.
Ахмадук не очень хотел, чтобы Сираев вошел в эту группу по причине его ссоры с Масаевым. Но Сираев очень хотел. На том согласились.
– Мы все должны были стоять на его похоронах. Но нельзя бросать начатое дело. Оно необходимо нашим грядущим поколениям, – сказал Ахмадук.
– Ты прав. При любых обстоятельствах мы должны стремиться к своей цели. Когда завершатся его похороны, мы тоже вернемся… – сказал Овш.
– Было бы хорошо. Надо заканчивать задуманное, – сказал Ахмадук.
– Они не вернутся, – сказал Камаев, явно задевая тонкие душевные струны Овша.
– Не знаю, как другие. Но Овш вернется, – сказал Овш.
Четверо взялись за ручки носилок и остановились, так как заговорил Бага:
– Я узнал этого человека три недели назад. Но за этот короткий срок я понял, что он доброй души и сердца человек. Вы, наверное, обратили внимание, как он подружился с этим мальчиком и этой овчаркой. Ни ребенок, ни животное не полюбят плохого человека. Я свидетельствую сегодня перед Аллахом и вами, что он был хорошим и добрым человеком.
«Какой позор! Если бы Бага не заговорил, я мог отправить Ягаева в последний путь, не сказав о нем подобающего слова», – подумал Ахмадук.
– Щедрый был человек, – начал Камаев. – Из любой поездки он не возвращался без сувенира для каждого. Мне однажды он привез краски.
– И мне тоже, – подтвердил Сираев. – Щедрый был.
– А мне он начертил проект дома… ни копейки не взял, – сказал Зилаев.
– Добродушным был, – молвил Ниттаев. – Сам ни с кем ссору не начинал. Миротворцем был, всегда старался уладить конфликты между людьми.
– Бага, он намеревался научиться у тебя совершать намаз, – добавил Ахмадук.
– Ойт, что за жизнь! – на глаза Баги навернулись слезы. – Да благословит Аллах это его намерение. У вас нашлось много добрых слов для него. Все ваши добрые слова – это подарок и успокоение для его души. Пусть Аллах сделает его гостем Рая.
Группа отправилась в путь.
9
Прошла неделя, но никто из сопровождавших тело Ягаева не вернулся. Оставшиеся трое косарей трудились, как прежде. Утром и вечером – косовица, в промежутках – творчество, а ночью, как и прежде, собирались за ужином. Но уже не так шумно и весело. Стояла тишина. Говорил в основном Бага, который на правах хозяина старался как-то развлечь гостей, да было ему и что рассказать, несмотря на отшельническую жизнь в горах.
– Говорят, когда абрек Зелимхан готовился совершать рискованное мероприятие, как ограбление банка или что-то еще, он внушал своим соратникам: если вы минут пять сохраните самообладание и отвагу, то все быстро закончится нашей победой или поражением, то есть смертью. В сущности, эта жизнь – ничто. Еще вчера я бегал здесь босиком… А сегодня вы видите мое положение.
– Ты еще молод, – успокаивал Ахмадук.
Эти слова Бага оставил без внимания.
– К чему я это говорю… в пяти верстах выше есть поселение Келашка. Там тоже живет одна семья и занимается животноводством. Вчера утром, когда вы были на покосе, ко мне приходила мать той семьи Секимат, чтобы поведать мне свою тревогу. Говорит, что прошел уже месяц, а ее супруг Сосбек так и не вернулся с равнины. А ей тяжело управляться с хозяйством. В доме маленькие дети, старшему только двенадцать лет. Он старается помочь матери. Просит, чтобы я поехал вниз и узнал, что с Сосбеком. Я-то знаю, что с ним ничего не случилось. В прошлом году он тоже уехал и полгода скитался по чужим людям, наедаясь мяса на похоронах и поминках. Я к тому говорю, что, было бы у Сосбека немного терпения, все уладилось бы без позора.
На вторую ночь хозяин говорил уже о другом.
– Я ведь тоже не в восторге от этой жизни. Стоит только нашим нескольким семьям покинуть эти места, как соседи оккупируют их. Вчера я верхом ездил взглянуть на гору Ценлам. Там дагестанцы пасут свои отары. Я говорю: «Что вы здесь делаете?» А они: «Тебе-то что?! Все равно вы не используете эту землю и пропадает трава». Я говорю: «Используем или нет, не ваше дело. Сегодня вы пасете овец, а завтра заявите, что здесь жили ваши предки. Оставьте пустые разговоры и убирайтесь отсюда домой». Обещали убраться… А что будет на деле, кто знает?
– Хозяин, на каком языке ты говорил с теми дагестанцами?
– На чеченском. Они хорошо понимают наш язык и отвечают, хотя и с акцентом.
– Долго туда идти?
– Верхом час-полтора… Пешком три-четыре часа… Хочешь пойти?
– Не сейчас. Кто знает, что в голову придет? – Зилаев загадочно улыбался.
После расставанья с товарищами желание завершить работы у Ахмадука усилилось. Бага сказал, что двое косарей за два месяца могут управиться. Значит, трое смогут и за месяц закончить. Потом… может, здесь обнаружат залежи золота или алмазов. Косовицу надо закончить, пока трава не высохла… Месяц еще есть. Здесь, в горах, трава созревает и высыхает позже. И это хорошо.
Двое товарищей не разделяли его энтузиазма. Они молчали, но каждый шаг и взмах косы выполняли с неохотой. Особенно устал Зилаев. А Камаев еще держался бодро. Раньше после ужина Ахмадук спешил к своей палатке. Коснувшись головой подушки, быстро засыпал, даже сны не видел. Теперь долго не засыпает. И сны странные видит: ссорящихся людей, с искаженными яростью и гневом лицами, перевороченную землю, кружащиеся в воздухе копны сена, пыль, дым.
Ему не хочется их толковать. Хочется забыть, как не бывало. Но из этого ничего не получается, и они навевают тяжелые мысли.
Однажды в такую бессонную ночь он услышал вой собаки. Не нравится это ему. Она также выла и за несколько дней до гибели Ягаева. Он вышел. Ясная ночь. Полнолуние. Собака стояла возле башни, где трудился Ягаев. Он узнал Гули. Рядом с ней силуэт Бакара. Мальчик плакал, овчарка скулила.
Стараясь быть незамеченным, Ахмадук вернулся в шатер.
В один из дней Бага отвел его в сторону. Они присели в тени стогов сена возле овчарни.
– Ахмадук, ты не очень переживай… много людей приезжало сюда до вас. Эти группы распадались, не сделав и половины того, что выполнили вы, – Бага смотрел на белые вершины гор.
– Если не завершим начатое, то все напрасно.
– Я не думаю, что вам удастся закончить начатое.
– А я уверен! – твердо произнес Ахмадук.
– Дай Бог!
– Аминь!
– Если не обидишься, хотел спросить, – Бага решил перевести разговор в другое русло. – Это ваше главное занятие?
– Что за «это»?
– То, что вы показали в день смерти вашего товарища?
– Да. Один рисует, другой сочиняет стихи, третий поет, четвертый ставит спектакли.
– Хе-хе-хе, – грустно засмеялся Бага. – Удивительно, что взрослые мужчины не сеют, не пашут, не ухаживают за скотиной, а занимаются детскими забавами.
Ахмадук понял, что Бага из деликатности употребил слово «детские» вместо «бесполезные». Поэтому не рассердился.
– Во всем мире это занятие считается серьезным.
– Не знаю, как в мире, но чеченцам не к лицу… Я не говорю, что петь не нужно. Пой, танцуй, рисуй, работая на земле. Но как можно жить, превратив эти занятия в смысл бытия?
Ахмадук не стал возражать. Он понял, что никакими доводами он не сможет раскрыть Баге великий смысл искусства.
На следующий день к полудню прибыл Овш. Они были еще на покосе, когда Бага кликнул их домой.
Увидев Овша, они изумились: на нем была какая-то камуфляжная форма с полковничьими погонами на плечах.
Овш начал разъяснять:
– Пока мы находились в горах, внизу многое изменилось. У нас уже новая власть, правит Великий Генерал. Меня он поставил во главе охраны Зеленого базара, дал чин полковника. Скоро Великий Генерал станет Генералиссимусом, а меня обещал сделать бригадным генералом. Дал слово. А это много значит. Я тоже давал слово вернуться сюда, поэтому и приехал, отложив многие важные дела.
– Ничего себе! Неужели не закончим начатое дело?
– Только не я, Ахмадук. Здесь напрасно тратится время. Вы тоже спускайтесь, поучаствуйте в событиях. Этот Ковчег-лам никуда не денется и косовица тоже.
Наступило недолгое молчание.
Ахмадуку не понравились речи Овши. События, о которых поведал Овш, ему показались началом тех бед, что снились в последние ночи. Он опасался, что не осуществит задуманное. Заметив, что двое его товарищей не торопятся примкнуть к Овшу, он быстро заявил:
– Нет, мы не спустимся вниз. Мы закончим начатое дело. А те, кто спустился с тобой, думают возвращаться?
– Никто. Все заняли важные посты и проворно работают, кроме одного. Он тоже был бы там же, если бы остался жив.
– Ты про Ягаева?
– Нет, о Масаеве говорю. Когда мы спускались вниз, он споткнулся и сорвался в ущелье Аргуна. Его тело, оказывается, приплыло домой раньше нас, воды в Аргуне выбросили его на песок при выходе из теснины.
– Ва-а! Странное дело. Может быть, Сираев подтолкнул его? – удивился Камаев.
– Никто не знает об этом, кроме Всевышнего!
Ахмадук удивлялся другому – тому, что Овш рассказывал об этом с таким равнодушием, будто смерть Масаева была обыденным и пустяковым случаем.
После обеда Овш заторопился назад, объяснив, что внизу за речкой его ждет «Джип». Бага сказал, что поедет с ним искать Сосбека и отвезти барана, обещанного Владилену в честь его переименования, а также посмотреть на то, что творится на плоскости.
10
На следующий день после завтрака Зилаев заявил:
– Ребята! Настало время разлучиться и нам.
– Что это такое? Ты тоже решил спуститься? – расстроился Ахмадук.
– Я иду не вниз. Я пойду к своим дагестанцам.
– Твои дагестанцы?
– Да, мои дагестанцы… Мой прапрадед пришел сюда мусульманским миссионером и остался жить среди вас…
– Да кончай заливать, – сердито крикнул Камаев. – Все вы оказываетесь алимами. Когда твой прапрадед пришел сюда просить милостыню или пасти скот, лудить медную посуду, сельчане, наверное, пожалели его, выдали замуж хромую или косоглазую женщину, выделили надел земли и обустроили жить… Ваши матери и колыбельную пели:
Будь отважен, чтоб собак не бояться,
Будь красноречивым, чтоб выпросить подаяние…
– Говори, что хочешь. Спорить с тобой напрасно не буду, – веснушчатое лицо Зилаева вспотело, красные космы прилипли ко лбу. Он тяжело дышал, раздувая широкие ноздри. Видимо, нелегкое дело – смена национальности.
– Постой-ка, – вмешался Ахмадук. – А чего это ты именно сегодня вдруг захотел превратиться в дагестанца?
– По словам Овша, времена меняются. В такие переломные исторические моменты чеченцы всегда стараются быть в гуще событий и, как правило, для них это заканчивается плачевно. Я не хочу участвовать в такой заварухе.
– Прекрасно! До сих пор назывался чеченцем, научную карьеру сделал, а когда настало трудное время, ты превращаешься в дагестанца! О подобном я не слышал. Летучая мышь, которая превращалась в птицу, когда начиналась эпидемия среди мышей, и снова становилась мышью, когда заболевали птицы! – Камаев был беспощаден к Зилаеву.
– Мои предки не объявили себя дагестанцами и вместе с чеченцами пятнадцать лет находились в ссылке в Казахстане.
– Ты бы так не поступил!
– Кама, оставь его, – попросил Ахмадук. – Как бы ты его ни удерживал, из него не получится чеченец.
– Валлахи, Ахмадук, вы и не даете им быть. Шепчетесь, указываете пальцем в спину: «Он дагестанец! Он дагестанец!» Ну и что из этого? Да, я дагестанец! И поэтому возвращаюсь к своим корням.
– Это мудрое решение! Да поможет тебе Бог, – подытожил разговор Ахмадук.
– Посмотри-ка на них: голодный приходит милостыню просить, а сытый пытается имамом стать… А выучившись азбуке, ученым становится, – не унимался Камаев.
Взяв с собой в дорогу несколько лепешек, сыр и бутылку воды, Зилаев отправился к своим корням.
Оставшись вдвоем, Ахмадук и Камаев долго молчали.
– Помнишь, как Бага сказал, что двое косарей смогли бы за два месяца закончить эту работу?
– Помню.
– Тогда мы вдвоем должны завершить это дело.
– Хорошо, – согласился Камаев.
– В детстве я слышал от отца, что если двое придут к согласию, то Аллах будет третьим союзником.
– Хорошо.
– Подумай только, какой глубокий смысл… Если мы вдвоем согласимся завершить эту косовицу, то Аллах нам поможет. Ты веришь в это? – на Ахмадука нашло вдохновение и азарт. Глаза его заблестели.
– А ты веришь? – с таким же запалом Камаев задал встречный вопрос.
– Я-то верю!
– Если ты веришь, то и я верю… Но позволь нам сегодня отдохнуть.
– Зачем?
– Я душой устал. Тяжелые испытания достались нам в последние дни, – его толстые губы разошлись в широкой улыбке, обнажив большие белые зубы. Камаев почему-то улыбался, почесывая большой мясистый нос. Бог не поскупился, создавая его лицо.
– Пусть будет по-твоему. Но с завтрашнего дня придется напряженно работать, – и Ахмадук зашел в свою палатку.
Там он долго лежал, завалившись на подстилку из свежего сена, наконец взял в руки ручку и тетрадь, попытался что-то писать. Когда на том празднике всем понравилась его притча «Одинокая капля», он решил и дальше работать в этом жанре. С одной стороны, не надо напрягаться, как при написании сценария. И томиться в ожидании, когда по нему будет снят фильм. Написал и сразу довел до читателя, опубликовал в газете или журнале или прочел на публике. Сейчас он задумал притчу «Мотыльки». Здесь, в горах, он обратил внимание на мотыльков, которые ночью слетались на свет лампы и свечи. Видимо, от невыносимой тяжести ночной мглы они стремились к свету и мгновенно падали, опаленные огнем и жаром. И, невзирая на это, все новые и новые мотыльки летели на гибельный огонь. Жаждущие света мотыльки падали, опалив крылья. Да, это будет последняя точка. Таким образом, он завершит эту притчу.
Положив в рюкзак тетрадь и ручку, Ахмадук вышел. Он почему-то вспомнил спектакль Идалова, в котором тот ловко использовал их всех. Нет, тот сделал это не только для того, чтобы как-то выделиться и исчезнуть. В этом действительно был какой-то смысл. Какой? Он не знал. Может быть, и не было никакого подтекста, и Идалов просто хотел всех их заставить задуматься над происшедшим. Как бы там ни было, созерцание воды любому человеку приносит душевный покой. И ему самому будет полезно еще раз поглядеть в воду.
Ахмадук собрался к тому озерцу и поднялся на возвышенность. Завернув вниз, он заметил Камаева, который расставил мольберт с холстом и писал картину. Напротив него в тени зарослей орешника стояла Хазу.
«А-а, вот что у него было на уме. Бага уехал, Хазман под навесом крутит сепаратор, Бакар пасет овец…»
– Так, чуточку приподними руку и держись за ветку над своей головой. Так, так хорошо, взгляд пусть остается прежним… Главное в образе человека – его глаза и мысль, которая в них застыла. Я должен увидеть эту мысль и перенести ее на это полотно, – голос Камаева вкрадчиво нежен, и каждое слово имеет медовый вкус.
Ахмадук, наблюдая за ними, присел на корточки под кустом мушмулы.
Довольно долго Камаев молча наносил мазки на холст, останавливаясь и пристально вглядываясь в Хазу.
Немного постояв в задумчивости, Камаев сказал:
– Хазу, чуть-чуть повернись направо, нет, в другую сторону, взгляд пусть остается прежним, еще чуть-чуть повернись, еще…
Хазу, поскользнувшись, упала в воду и, быстро вскочив, стала на прежнее место. Она в растерянности, не знает, что делать. Кажется, Камаев и не заметил, что она упала в воду.
– Я пойду в дом и вернусь, – говорит девушка.
– Не надо. Так мне легче будет уловить твой образ, – говорит он, перемешивая на палитре краски.
Стыдливо краснея, Хазу попыталась распрямить промокшее и прилипшее к телу платье.
– Без этого платья было бы еще лучше, – легко и спокойно, словно речь идет о погоде, проговорил Камаев.
– Что? – Хазу напряглась, как струна, глаза ее мечут молнии гнева.
Она, нагнувшись, зачерпнула руками из лужи пригоршню грязи и ила и швырнула в сторону художника. Тот даже не успел среагировать, как его лицо и его произведение покрылись грязью.
Оставив Камаева с раскрытым ртом, девушка, словно серна, напуганная хищником, взбежала на бугор и скрылась в доме.
Ахмадук сейчас впервые заметил юную красоту ее тела. У него не было привычки обращать внимание на женскую стать. Для него было главным женское тепло, голос, запах, и если они привлекали его внимание, он ухаживал за ними. Женщин он ценил за их душевную красоту, а внешность, по его мнению, лишь второстепенное дополнение. И очень редко можно было встретить женщину, в которой органично сочетались две вещи: внешняя и внутренняя красота. Хазу была одной из них.
Его очень покоробили слова Камаева. И прежде ему доводилось слышать о том, что художник завлекал в свою мастерскую девушек, соблазном и обманом обнажал их и рисовал натуры.
Но это ведь не город. Здесь горы и берег ручья не могут стать его мастерской. Здравомыслящий должен это осознавать. Может, Камаев и не задавался целью раздеть дочь хозяина, в доме которого он жил несколько недель, возле этого озерца. Из его уст, может быть, вырвались слова, которые он привык шептать в своей мастерской. По неосторожности язык опередил сознание. Ахмадук про себя пытался найти оправдание поступку своего товарища. Опять закрадывались сомнения: а кто знает, что было на уме у Камаева, ведь человека познать до конца невозможно… Не выдавая свое присутствие Камаеву, который родниковой водой смывал грязь со своего лица, Ахмадук попятился и направился к своей палатке.
Камаев вечером не явился на ужин. Скамейки, стоявшие по обе стороны длинного стола, пустовали. По обоим концам стола сидели и ужинали Ахмадук и Бакар.
– Куда пошел твой товарищ? – спросила Хазман.
Голос ее спокоен. Видимо, дочь не поведала матери об инциденте возле озера. Похоже, что нет. Значит, Хазу не только красива, но и умна. Не стала она раздувать страсти из оплошности и недоразумения, которое допустил их гость. Если у нее на это хватило терпения и спокойствия, то девушка действительно мудра.
– Он решил прогуляться, посмотреть на здешнюю природу, – ответил Ахмадук.
– Когда бы он ни вернулся, его ужин будет стоять здесь, на печи под навесом.
– Хорошо, Хазман. Спасибо.
Хазу была задумчивей, чем прежде.
После ужина он ушел к своей палатке, здесь не с кем было теперь и словом обмолвиться. С тех пор, как погиб Ягаев, на глазах у Бакара всегда блестели слезы. И на любой вопрос он отвечал только «да» или «нет».
Когда Ахмадук засыпал, Камаева еще не было. Утром он не пошел на завтрак, сославшись на плохое самочувствие. Когда Хазман расспросила про него, Ахмадук сказал, что тот слегка захворал и он отнесет его завтрак к нему в палатку. Он обратил внимание на то, что Хазу приостановила свое занятие и внимательно слушала его слова.
Взяв с собой лепешку, сметану с творогом и простоквашу, Ахмадук пошел к палатке. Почуяв запах пищи, Камаев молча и яростно принялся за еду – видимо, волк проголодался сильно.
– Сегодня нам надо побольше накосить. День пасмурный, не слишком жарко, – заметил Ахмадук.
– Не получится, – сказал Камаев, запивая еду простоквашей.
– Как не получится? Я же тебе рассказывал, если двое придут к согласию, то Бог…
– Что ты из себя ученого алима корчишь? Всю жизнь мотался по России, за бабами бегал…
– Это тебя не касается, давай будем работать.
– Делай, что хочешь, а я ухожу вниз, на равнину.
– Если ты уходишь из-за того, что случилось возле озерца… девушка никому об этом не скажет…
– И об этом ты знаешь? Значит, следишь за мной!
– Не слежу. Случайно увидел… Между нами говоря, не подобающая шутка с твоей стороны.
– Не пытайся меня учить, Ахмадук! И имя у тебя нелепое. Знаешь, как меня зовут?
– Все называют тебя Кама.
– Камаев моя фамилия. А зовут меня Ахма. А ты добавил еще «дук2», чтобы и на имени превзойти меня. Ты это сделал, чтобы завтра эту гору и этот дук объявить своей собственностью,… – распалялся Камаев
– Ты вчера не ел какую-нибудь траву?
– Зачем ты спрашиваешь? – Камаев перешел на ор.
– Не съел ли ты дурманящую голову траву? Купырь лесной называется… Нормальный человек не может говорить такое.
– Почему?
– Мне мое имя дал мой отец, как только я появился на свет. Я его не менял, как Владилен, и ничего не добавлял к нему, как ты говоришь.
– Тогда замолчи… Надоел ты мне! – кулак Камаева угодил прямо в переносицу Ахмадука, очки его отлетели в сторону.
От головокружения он чуть было и сам не упал. Ослабленным зрением он увидел, как Камаев, прихватив свои пожитки, убежал. Пошарив руками перед собой, он схватил первый попавшийся камень и швырнул его в удаляющуюся расплывчатую фигуру.
Фигура споткнулась: камень, видимо, попал в цель.
– Ты отомстил! Больше не смей преследовать меня! – прокричал Камаев.
Ахмадук продолжил шарить по земле руками в поисках своих очков. Нащупав их, протер стекла о рукав рубашки. На правом стекле трещинка. Ничего, на время сгодятся, пока не купит новые.
Он оглядел мир, который с помощью очков вновь прояснился.
Камаев исчез за дальним углом овчарни. Вместе с ним угасла и последняя надежда Ахмадука на то, чтобы очистить Ковчег-лам. Большая тревога стала медленно одолевать его.
11
Не прошло и часа после ухода Камаева, как начался ливень. По склонам потекли мутные потоки. Летний зной сменялся приятной прохладой. Ахмадук, откинув полог палатки, наблюдал дождь, который лился на их инструменты, разбросанные по склонам и висящие на кустах. Если их так оставить, они могут покрыться ржавчиной. И сено, не сложенное в копны, может сопреть.
За все время их пребывания здесь всего лишь дважды слегка моросило. Погода стояла хорошая. И если бы они, не отвлекаясь на другие дела, работали, уже могли бы закончить начатое. Теперь… Теперь все пропало. Теперь небо плачет, как и сердце Ахмадука. Через верх башни, куда не удалось поставить макушечный камень-цуркуо, тоже протекает дождь. Мокнущие под дождем, брошенные беглым живописцем рисунки, изображающие овчарку, Хазу во время доения коров, Бакара, вскоре превращаются в мутные пятна и исчезают…
Через полчаса ливень прекратился так же внезапно, как начался. Тучи рассеялись, и показалось солнце. Оно начало сильно припекать, распространяя вокруг сырой зной.
Ахмадук вышел из шатра и направился к ущелью. Ему захотелось посмотреть на знакомый водопад. Сейчас, после такого дождя, он, наверное, еще более красив. Издали доносится его шум, который с приближением усиливается.
Он присел на край обрыва, наблюдая за водопадом. Вместо прозрачно-белой струи, сейчас с обрыва падает огромная серая, мутная масса воды. Многократно увеличилась и ее сила. Падая с высоты пятиэтажного дома, вода дробится о камни, заполняя ущелье пенистым облаком. Дробление воды кратковременно, все капли стремительно стекают с камней, сливаясь в один поток, который бежит дальше через валуны, сначала в тени обрывистых берегов, потом под лучами солнца, по гравию, по глинозему, снова срываясь с обрывов и рассыпаясь на капли и вновь сливаясь в единое русло…
Не все соединяются, подобно той, что описал в своей притче Ахмадук, отлетевшая далеко капля плавится на солнце, превращается в пар и исчезает. И все-таки без особых потерь капли собираются вместе. Такова особенность воды, ее стремление к единению.
Люди не похожи на воду.
Люди бьются о своеобразные черные камни, ломаются и рассыпаются на мелкие осколки. И не пытаются вновь собраться и соединиться. Со сломленными душами, они отдаляются и расходятся в своем одиночестве. Расходятся навсегда, забывая свое прежнее русло, общие цели, словно их и не было никогда. Нет, народ не похож на реку…
Погруженный в размышления, Ахмадук сразу и не заметил Хазу, которая уже несколько минут стояла рядом с хворостиной в руках. Этой продолговатой палкой, вырезанной Бакаром из лещины, она по утрам и вечерам погоняла коров.
Ахмадук вскочил и заорал в ухо девушки, заглушая шум водопада:
– Хазу, ты что здесь делаешь?
– Пришла полюбоваться водопадом, – так же ему в ухо прокричала она.
Дыхание девушки вызвало щекотку в его ушах, отчего он быстро отвернулся и кивнул головой.
Они долго стоят, наблюдая за водопадом. Нестерпимо жаркое солнце внезапно скрылось за черными тучами. Сверкнула молния. Раздался гром. Крупные капли дождя ударили по щекам.
Нелегко будет отсюда под дождем добираться до овчарни. Вопрошающим взглядом Ахмадук смотрит на девушку. Хазу указывает пальцем на склон с правой стороны.
Там, видимо, находится грот, заметна округлая впадина. К ней тянется узкая тропинка, выложенная песчаником. Ахмадук согласно кивает головой и следует за девушкой к гроту.
Там они в укрытии продолжают наблюдать за дождем.
– Не затянется ли этот дождь? – заглушая последние слова Хазу, сверху скатывается мощный селевый поток, который мгновенно засыпает и замуровывает вход в пещеру, погрузив ее в кромешную тьму. Отпрянув от этой массы грязи и камней, Ахмадук ударился затылком о потолок пещеры, потерял очки. Он шарит руками по полу, но очков не находит…
В растерянности он не знает, что предпринять, и начинает напевать услышанную в детстве песню о пастухе, оказавшемся вместе с отарой овец и овчарками запертым в пещере:
Отара осталась в пещере,
Я в несчастье остался,
Спаси нас от беды,
Великий Аллах!
– Собаки терзают овец,
Овцы терзают меня…– так начинается эта песня, – говорит Хазу.
– Ты тоже ее знаешь?
– Слышала от отца. Когда я была маленькой, отец напевал эту песню про попавшего в беду пастуха под мелодию смычкового пондура.
– Да, все когда-то случалось… И до нас кто-то оказывался запертым в пещере один.
– Тот был не один, с ними были овцы, овчарки, смычковый пондур…
– Мы вдвоем и, наверное, нам будет легче найти выход отсюда.
– Возможно.
– Ты не растерялась, Хазу?
– Нет.
– Будем затаскивать сюда ветки, камни и освободим выход из пещеры.
– Не нужно так трудиться… есть еще один выход.
– Какой выход?
– Видишь, в глубине пещеры тонкий луч света, словно завесу тьмы проткнули пальцем?
– Да, отдаленный предмет я немного различаю… Есть просвет.
– Там есть еще один выход из этой пещеры. Следуй за мной, – глухо звучит голос Хазу.
– Пока не найду очки, я дальше носа ничего не вижу, – говорит Ахмадук.
– В этой темноте будет нелегко найти твои очки… Держись за эту хворостину и иди, – Ахмадук почувствовал в ладони конец палки.
Он медленно делает шаг, другой, не видя ничего, даже силуэта Хазу. Спотыкаясь о камни, он продвигается куда-то. Через час тот лучик света увеличивается почти до размеров оконного проема, и он теперь замечает перед собой расплывчатую фигуру девушки.
– Немного отдохнем, – Хазу останавливается. Выпустив палку из рук, Ахмадук присаживается на камень. Проходит несколько минут в молчании. Они только слышат дыхание друг друга.
– Ты говорил, что если двое придут к согласию в хорошем деле, то и Аллах будет их третьим союзником…
– Говорят, что в Коране так сказано.
– Кроме как с Камаевым ни с кем другим заключать союз нельзя?
– Можно… Но никого из них здесь не осталось.
– А мы с тобой разве не можем быть в союзе?
Ахмадук еще не успел осмыслить этот вопрос, как его душу окутали исходящая от этого голоса родниковая свежесть и тепло, смешанное с запахами горного разнотравья, цветов и чистоты утреннего воздуха, разливающегося по лесам и ущельям. Его охватило какое-то приятное головокружение.
– Если у нас будет согласие, разве Аллах не поможет нам? – снова спрашивает Хазу.
– Поможет. Поможет, если на то будет Его воля, – словно в полусне, шепчет опьяненный Ахмадук.
Все происходящее: его приезд сюда, и то, что он застрял в этой пещере, и что в минуту опасности рядом оказалась эта девушка – он считал даром, который по своей милости Аллах послал ему, хотя он и не заслуживал того. В действительности, с людьми он ладил и не враждовал, не пытался унизить того, кто слабее его, не заискивал перед теми, кто был сильнее, всегда желал людям добра и стремился творить его для них… А разве этого достаточно, чтобы так вознаградить его? Слава Аллаху! Слава тебе, Всевышний! Как безмерно Твое милосердие!
Глаза его увлажнились.
– Тогда идем, – Хазу протягивает ему палку.
Ухватившись за хворостину, он следует за ней, от восторга не чувствуя камней под ногами. Впереди девушка, за ней полуслепой человек. Так они двигаются в сторону расширяющегося по мере приближения света выхода из этой пещеры, туда, к Ковчег-ламу, где травы, где пасутся стада коров и отары овец, где журчат родники, в которых по вечерам купаются звезды.
2008.
1Майста – один из этнических центров горной Чечни.
2Дук (дукъ) – хребет.
Перевод А. Исмаилова.
Рассказы
Боча
Боча в своей долгой жизни – а ему теперь было уже за семьдесят – впервые захворал серьезно. Впервые и в больнице этой он оказался в качестве пациента, прежде случалось тут бывать, чтобы навестить кого-то из родных и близких.
Вчера Боче его лечащий врач объявил, что у него очень плохо с почками, и предложил подумать и согласиться на операцию. Поначалу все стариково нутро воспротивилось: тут всего-то жить осталось совсем немного, лучше сколько-нибудь так протянуть, чем умирать на операционном столе. Однако протест, так бурно захлестнувший его сразу после разговора с врачом где-то около полудня, к вечеру несколько поутих. «А что, может, еще и поправлюсь, что это я сразу о смерти?» – стал теперь подумывать он.
Ночью ему снились разные сны: тяжкие и приятные. В плохих снах были какие-то мутные реки, мертвецы, кровь… Но потом виделось ему чистое синее небо, белые кони, что паслись на цветущем весеннем лугу. Несколько раз за ночь он просыпался, но о смысле снов старался не думать, как раньше, сразу сказав себе, что это попросту проделки шайтанов, которые не дают ему умереть спокойно. Потом, в который раз снова уснув, он впервые за последние десять лет увидал своего покойного отца… Почти сразу же он проснулся и на этот раз не сомкнул глаз до самого утра. Когда первые лучи солнца весело брызнули в окно, они осветили измученное, осунувшееся от бессонницы лицо старика. Боча сел на кровати, взглянул в окно на чистое голубое небо и тихо промолвил: «Вот, отец, не нашел я пока в себе храбрости явиться к тебе».
Он не—мог не признаться себе, что на долгие годы в этой жизни рассчитывать ему не стоит, но и торопиться в иной мир, где вкушали райскую жизнь его отец, двое братьев и многие знакомые и близкие, ему не хотелось тоже.
Опять посмотрел он в окно на весенний небосвод, и тут вспомнился ему его двор, сад, где теперь уже зацветали груши, яблони. Как они там без него, заметили ли его отсутствие? Боча был искренне убежден, что деревья, как и люди, имеют душу, характер, иногда даже ему начинало казаться, что груши и яблони из его сада нуждаются в нем больше, чем люди, его земляки. А в лесу!.. Как приятно, бывало, побродить по первому снегу с ружьем за плечом, выслеживая и настигая какую-нибудь дичь. А потом возвращаешься в родной дом: за окном подвывает вьюга, стучит в стекло, а ты подсаживаешься к очагу и чувствуешь, как тепло медленно разливается по всему телу, вдыхаешь запах варящейся фасоли или мяса из котла на огне и заводишь разговор о том о сем со своей женой Секиймат… Да, немало было таких нехитрых радостей в жизни Бочи, и ох как не хотелось бы с ними расстаться!
Потому в это утро, когда в палату в положенный час вошел врач Хаид и вопросительно взглянул на него, Боча, более не раздумывая, дал согласие на операцию.
День, когда его повели в операционную, был пасмурный, унылый. Бочу распяли на операционном столе, сделали укол, – а там уже он ничего и не помнил. Пока шла операция, небо успело очиститься от туч, и, когда Боча очнулся от наркоза в своей палате, в окне снова сияло солнце.
Под внимательной опекой врача и медсестер здоровье его быстро пошло на поправку. Пришло время, когда совсем уже окрепший Боча стал подумывать, как бы ему отблагодарить доктора, который продлил его дни на этом свете. Когда врач появлялся в палате, Боча всегда старался сказать ему что-нибудь приятное, всеми силами стремился выказать ему уважение и почитание. Но всего этого ему казалось мало. Однажды он велел Секиймат принести из дому хороший кусок вяленой баранины и при удобном случае преподнес его доктору. Хаид поначалу наотрез отказывался принимать подарок, но потом, видя, как огорчился старик, поблагодарил его и взял мясо. Боча, однако, понял, что не очень-то он в нем и нуждался.
Но мысль о каком-либо действительно значительном для врача подарке продолжала его преследовать. И вот однажды случай помог ему прознать, чем он мог бы порадовать своего благодетеля.
Как-то он прогуливался по аллее в парке больницы, опираясь на палку, и остановился передохнуть у какого-то куста. За кустом послышались голоса: там, оказалось, стояла скамья, на которой, как Боча узнал по голосу, пристроился его врач с несколькими коллегами, и вели они такую беседу:
– За медвежью шкуру я заплатил бы рублей пятьсот, – говорил Хаид.
– Да на что она тебе, если стоит таких денег? – воскликнул один из его собеседников.
– Задумал я, понимаете, комнату свою дома устроить по-старинному, как предки наши жили. А повесить на стену медвежью шкуру – это уже, почитай, полдела…
Да, если бы Боча познакомился с доктором Хаидом ровно два года тому назад, то мог бы сам подарить ему медвежью шкуру.
За хозяином этой шкуры охотился он тогда двое суток. Повстречав медведя в первый раз, Боча лишь успел сделать один выстрел и ранить его. Зверь ушел, и Боча решил, что преследовать легко раненного, как ему показалось, зверя бессмысленно, и он ни с чем возвратился домой. Однако, проходя вблизи того самого места на следующий день, он опять наткнулся на своего медведя. Рана, выходит, оказалась не такой уж безобидной: медведь лежал, плашмя распластавшись по земле, на прижатую к морде лапу из пасти сочилась кровь, которую обессилевший зверь вяло слизывал языком. Боча два раза подряд выстрелил в него и… тотчас пожалел об этом. Тот жалобный предсмертный крик стоит у него в ушах и поныне.
Медвежья шкура какое-то время висела у Бочи дома на стене. А потом случилось так, что он подарил ее одному молодому парню, ходившему в джинсовом костюме и с наголо обритой головой. Это был художник, на время приехавший в их аул из города.
Было ему чуть больше двадцати, он с утра до вечера бродил по окрестностям, нося с собою мольберт и краски с кистями. Местным жителям, спросившим, что он тут высматривает, он сказал, что приехал отыскать здесь какое-то «дохновение». Старуха Карийбат, прожившая на свете уже семьдесят пять годков, сказала тогда гостю:
– Сынок, я с малых лет знаю эти края, но никогда нигде не видала этого странного «дохновения». Не только не видала, но и не слыхала о таком ничего. Смотри, только потратишь напрасно время на бесполезные поиски. Спросил бы лучше в соседних аулах…
Гость из города только улыбнулся, выслушав совет, и ничего не ответил.
В свой дом Боча сам позвал художника, узнав, что тому приходится ночевать в шалаше. Теперь юноша обрел надежный кров над головой, а старик – собеседника для вечерних разговоров, какого прежде у него не было. Собеседником парень оказался неплохим, был не по годам рассудителен, знал много такого, о чем и гораздо старший годами Боча слыхал впервые. Польстило старику и то, что Алмагомед – так звали художника – с уважением отзывается об обычаях предков. И голову-то он обривал, как объяснил, потому, что так велела традиция, не ходить же ему лохматым, как юнцы из города…
Правда, довольно скоро Боча обнаружил, что Алмагомед чрезмерно самолюбив, даже самовлюблен, в беседе больше слушает себя, чем человека, с которым разговаривает, запросто может перебить старика и вообще способен говорить с легкостью, о чем попало, лишь бы его слушали. Потом как-то случайно выяснилось, что и голову-то он бреет вовсе не из уважения к традициям, а оттого, что волосы у него выпадают и он опасается остаться совсем лысым уже в молодые годы.
И все же Боча не мог отказать гостю и подарил ему медвежью шкуру, когда тот попросил об этом перед самым отъездом. Засовывая шкуру в свой большой зеленый рюкзак, чего только не наобещал тогда Алмагомед привезти старику в свой следующий приезд: и несколько пачек пороха, и дробь, и брезентовый плащ, даже какой-то особый фонарь с большой дальностью освещения…
С тех пор только его и видели.
Но никогда за два прошедших года Боча так не жалел о потерянной шкуре, как теперь. Вот бы был настоящий подарок его исцелителю! Но… Что ушло, то ушло. И Боча решил по выходу из больницы еще однажды – в последний раз! – сходить на охоту и добыть шкуру для «старинной» комнаты доктора. Нет, не забыл он того жалобного и жуткого крика умирающего зверя! Недаром с той поры, если и случалось ему бродить по лесу с ружьем, то оно так и висело без дела на плече, ни разу Боча не снял его… И только вот теперь он задумал снова отправиться – и уж точно в последний раз! – на настоящую охоту.
Как-то вечером Боча разговаривал с одним из своих соседей по палате, и тот, просто между прочим, сказал ему:
– А ты знаешь, у нас тут лежит и отец нашего Хаида.
– И в какой палате, ты знаешь? – спросил Боча.
– В терапевтическом отделении, палата пятнадцать.
Боча, не медля ни минуты, отправился искать терапевтическое отделение, ему не терпелось хотя бы старику, отцу Хаида, сделать приятное: побеседовать с ним, сказать, какой достойный, уважаемый человек его сын.
В палате номер пятнадцать он никого не застал. Проходивший мимо молодой человек спросил: «Вам кого?»
– Отца Хаида я хотел бы увидеть.
– А! Вам нужен отец нашего хирурга? Подождите здесь, он скоро придет… Да вот как раз и он!
С трудом переставляя ноги, с лицом белым, как стена, по коридору двигался человек. Высокого роста, уши оттопырены, небольшая жидкая борода – Боче показалось, что он когда-то уже встречался с ним. Он вспомнил, кто перед ним, лишь когда человек, шедший по коридору, повстречался с ним глазами… От неожиданности лицо у Бочи тоже сделалось белее снега, нижняя губа и руки судорожно затряслись. Между тем, больной свернул не в свою, а в соседнюю четырнадцатую палату – то ли в свою очередь узнал Бочу, то ли в четырнадцатой у него были какие-то дела. А Боча, точно оглохший и онемевший от переполнявших его чувств, повернулся и заковылял к своей палате, оставив в полном недоумении молодого человека, указавшего ему на отца Хаида.
В палате Боча сел на свою кровать и, собравшись с силами, постарался успокоиться, сообразить, не ошибся ли он. Нет, сомнений не было: только что он видел человека, встречи с которым искал пятьдесят с лишним лет. Искал, чтобы отомстить. Потому что этот человек был повинен в смерти его отца и двух старших братьев. Вот как все это случилось в те давние времена.
Жил тогда этот человек – Барзнак его звали – в родном ауле Бочи – Варш-Юрт. Однажды, когда двоюродная сестра Бочи и его братьев Заман работала в поле, Барзнак, который все увивался вокруг нее, взял девушку за руку – «коснулся» ее. В те времена такое считалось большим бесчестием для девушки и ее родни. У Заман не было родных братьев, которые могли бы отомстить Барзнаку, потому это должны были сделать Бауди и Аднан, братья Бочи. Как и велел обычай, они, поймав Барзнака, спустили с него штаны. Старики примирили враждующих. Казалось, на этом все и кончится, да не тут-то было!.. Большое зло затаил Барзнак. Задумал он во что бы то ни стало отомстить Бауди и Аднану, а прежде всего их отцу, главе рода Доке.
Говорили люди, что Барзнак подкупил какого-то крупного чиновника в Шатое, дав ему корову и пятнадцать гирд[1] пшеницы, – вот какого богатства не пожалел, чтобы сгубить трех ненавистных ему человек. По навету того чиновника Доку и его сыновей обвинили в помощи абрекам. Барзнак же и его дружки выступали на суде как свидетели и столько представили «доказательств» виновности подсудимых, что те навсегда сгинули на каторге…
Боче тогда шел пятнадцатый год. Оставшись единственным мужчиной в роду, он должен был свершить правую месть. Он поклялся себе, что кровь отца и братьев будет отмщена… Но Барзнак в скором времени исчез из Варш-Юрта. С той-то поры Боча разыскивал его и нигде не мог найти. Лишь однажды, спустя уже много лет, как-то до аула дошел слух, что Барзнак сам угодил в тюрьму. Но когда, где – никто точно сказать не мог. И вот теперь…
Видно, так было угодно судьбе, чтобы уже на самом склоне лет, больным и слабым, Боча повстречал своего кровного врага. «Хотя бы еще лет десять назад! – думал он, лежа на своей койке в палате. – Но нет, ничего! Мужчина и в старости должен оставаться мужчиной: за добро платить добром, за зло – злом…»
И долго еще в этот день два голоса говорили между собой где-то близ сердца Бочи, спорили: «Но ведь он теперь очень слаб, болен… Так что же! Ведь и мой отец тогда был болен, но его не пощадили. Троих погубил этот злодей. Как предстану я перед их душами, не отомстив за их смерть?.. Но ведь врач, которому я обязан жизнью, – его родной сын… Не этот, так другой врач сделал бы операцию. Раз суждено мне было поправиться – на то воля Аллаха…»
Все же голос, который говорил, что убивать он не должен, звучал убедительнее. И сколько ему ни сопротивлялся Боча, голос этот говорил в нем все громче и настойчивее, и Боча, чтобы отмести всякие сомнения, решился – как только приблизился час ужина, поскорее направился в столовую – раздобыть себе нож.
Людей в столовой оказалось совсем немного. Не притронувшись к еде, Боча хлебнул киселя из стакана. Высмотрев наконец на дальнем столе, где нарезали хлеб, то, что ему требовалось, он подошел, быстро сунул нож в рукав и направился к выходу.
– Не забудьте возвратить нож на место! – послышался вслед ему голос посудомойки.
Испуганный, Боча машинально кивнул головой и вышел из столовой…
Был уже довольно поздний час, почти все голоса в палатах и в коридоре уже стихли. Боча давно лежит в постели, под его подушкой – нож. Перед ним, измученным сомнениями, проходят воспоминания, больше похожие на тяжелые, давящие сны.
Зима. На улице навалило много снега, метель порывами стучит в окно. А в доме у них тепло и уютно. На паднаре сидит глава семьи Дока, два брата, Бауди и Аднан, беседуют о чем-то меж собой. Боча с младшей сестрой Непой дожидаются галушек, которые мать готовит на очаге… И вдруг двери с грохотом падают на пол, ветер со снегом врываются в дом, задувая очаг. Он с Непой и матерью оказываются на какой-то заснеженной равнине среди гор, все трое босые. Бредут, бредут куда-то по этой равнине, плачут от холода и усталости.
Наконец они видят свой дом на краю равнины. Но из дверей выходит Барзнак, несет поднос с мясом и кастрюлю с кипящими галушками, ставит их на снег. Потом захлопывает двери, подпирает их колом. Неожиданно, как будто с небес, раздается громкий голос. Боча смотрит вверх, на макушки гор: они словно пригнулись под тяжестью навалившихся на них черных туч. Снова раздается тот же голос. Это же голос его отца зовет его, Бочу! А Барзнак тем временем снова идет к их дому, в руке его зажженный факел… Вот дом уже объят пламенем. В окна видны освещенные огнем лица отца Доки, Бауди, Аднана: они пытаются выбраться наружу, но окна слишком узки, им не протиснуться… Боча хочет побежать к своему дому, помочь им, но ноги будто приросли к земле, и, как он ни рвется, не может сделать ни шагу, только дико кричит…
Весь в поту, но все ж с радостным сознанием того, что это был лишь сон, Боча наконец проснулся. Однако радость эта тут же исчезла, едва вспомнил, что под подушкой у него лежит нож. «Ну что ж, я должен исполнить свой долг, – подумал он смиренно, – смерть родных требует отмщения!» Он поднялся, сунул нож в рукав пижамы. Луна в окне ровным светом освещала палату, в форточку был слышен шелест тополиной листвы.
Дверь едва слышно скрипнула, когда он потянул ее на себя, Боча быстро проскользнул в щель. В коридорах стояла мертвая тишина. Часы на стене показывали ровно три ночи. Словно в каком-то забытьи шел он по коридорам к терапевтическому отделению, не слыша сонных бормотаний, доносившихся порой из приоткрытой двери, покашливаний, храпа… Он слышал одну только звонкую, оглушительную тишину.
Приблизившись наконец к пятнадцатой палате, Боча привстал на цыпочках, заглянул поверх закрашенной нижней рамы внутрь. Барзнак лежал на ближней к окну койке: он кашлянул, пробормотал что-то сквозь сон. Лунный свет, падавший на его лицо из окна, придавал ему какое-то необычное, неземное выражение.
«Быстро открою дверь и кинусь на него», – сказал себе Боча. Но что-то заставляло его медлить. «Как только он перевернется на другой бок, сразу вхожу», – решил он теперь. Барзнак, точно подчиняясь его мысленной команде, почти тотчас же перевернулся на другой бок, лицом к стене. Теперь, казалось, преград для Бочи больше не было: чего же, чего он медлит?.. Ах да: из соседней палаты, четырнадцатой, вышел в коридор больной! Боча спрятался за выступ стены, и человек, не заметив его, прошел мимо. «Как только он скроется!» – говорит себе Боча. Потом, чуть погодя: «Нет, пусть сначала пройдет обратно в свою палату…»
Когда больной из четырнадцатой возвратился и дверь за ним закрылась, у Бочи больше не осталось причин медлить. Кругом тихо. Барзнак лежит лицом к стене. А нож у него, Бочи, в руках… Что еще надо мужчине, приготовившемуся отомстить за родных? Он с трудом передвинул одеревеневшие ноги, взявшись за ручку, чуть приоткрыл дверь в палату… и в тот же миг отпрянул, словно неяркий лунный свет из окна ослепил его. Он стоял теперь, припав спиной к стене, и понимал, что никогда не осуществит своего замысла. За этот краткий миг, когда он занес ногу, чтобы ступить в палату, два ослепительных виденья пронеслись перед ним, остановили, отбросили назад. «Как себя чувствуешь, отец? – на табурет рядом с его постелью садится человек в белом халате. – Все хорошо, скоро встанешь на ноги, а помирать придется в другой раз. Ну-ка, как у нас пульс…» – чуткие пальцы Хаида ложатся на его руку… А вот лежит медведь, обессиленно слизывая с лапы кровь. Из глаз катятся слезы, он хрипло скулит. «Гр-рв» – грохочет выстрел…
И все это пронеслось в долю секунды. Он с шумом швырнул нож, но никто не проснулся. Боча чувствовал, как слезы текут по его щекам, ему хотелось завыть во весь голос на всю спящую больницу от злобы и бессилия. И все же сила милосердия переборола в нем этот порыв.
Он спустился по лестнице на первый этаж, прошел мимо заснувшей в своем кресле дежурной медсестры и, повернув торчащий в дверной скважине ключ, вышел на улицу.
Перед ним, вытянувшись, казалось, до самых небес, стояли ряды пирамидальных тополей, длинные тени лежали на земле, тихо перешептывалась на деревьях листва, перебираемая весенним ветерком. Где-то неподалеку в темноте глухо рокотал Аргун.
Боча вышел за больничные ворота и, всхлипывая, медленно побрел по дороге. Вскоре плач сотрясал уже все его тело. И потом, уже успокаиваясь, он долго с отчаянием повторял:
– Вот и все, чего ты стоишь, Боча… А еще считал себя мужчиной!.. Не смог ты, Боча, не смог…
1978.
[1] Гирда – мера веса для зерновых.
Перевод Ю. Доброскокина.
Телефон
Раньше Зелимхан думал, что Баа[1] живет только в сказках, которые ему по вечерам рассказывала мама. Это была злая старуха, сгорбленная, со скрюченными пальцами, вечно строившая козни добрым и честным людям. В жизни Зелимхана, среди знакомых людей и предметов, ей вроде бы не было места, но все же он побаивался, как бы Баа не наведалась к ним, и иногда, проснувшись среди ночи, затаив дыхание, прислушивался к шорохам и скрипам, к шуму ветра в саду.
Теперь-то он точно знает, где живет Баа, поэтому целыми днями просиживает на траве напротив дома с вывеской «Отделение связи». Он следит за Баа. А она притворяется, делает вид, что работает. Люди протягивают ей в круглое окошко телеграммы и квитанции, пересчитывают мелочь, улыбаются и говорят даже: «Спасибо, Зайна». Они ведь не знают, что никакая она не Зайна, и не знают, зачем она день-деньской сидит за круглым окошком. Знает только Зелимхан. Он, его отец и друг его Шарпудин знают, что Баа сторожит телефон.
Год назад Зелимхану было всего четыре. Как-то он стоял на веранде, пережидая дождь, который шел прямо сквозь солнечные лучи. Через минуту все блестело: трава, листья фруктовых деревьев. Солнце, пройдя дневной страдный путь, катилось на ночлег за лесистую гору. Под легким ветром деревья перебирали листьями, стряхивали на землю капли, и Зелимхану казалось, что он слышит какой-то знакомый напев, но слов разобрать не мог – как ни прислушивался.
Он спрыгнул с крыльца прямо в мокрую траву и побежал по саду. У старой яблони нагнулся, чтобы поднять огромное красное яблоко, только что сорванное налетевшим ветром и дождем.
Уже давно было это яблоко на примете у Зелимхана. И сейчас он держал его в ладонях и радовался: он оставит маме ровно половину. Или – нет. Пожалуй, он только откусит, попробует, а все остальное отдаст ей. Мама в больнице. Уже две недели, как она там. Он спит теперь в комнате вместе с отцом и перед сном слушает сказки про воинов, битвы и драконов. Но мама рассказывала совсем-совсем другие сказки.
Больше всего на свете Зелимхану хотелось, чтоб мама приехала домой сегодня же, сию же минуту. Чтобы, тихо скрипнув, открылась калитка и она вошла во двор. Он подбежит и обхватит ее колени. Она крепко обнимет его, закружит, подбросит вверх. И он будет взлетать в небо и смеяться, и она будет смеяться, и солнце, глядя на них, тоже…
Потом он скажет:
– Нана, а я для тебя яблоко оставил.
– Правда? Ну и сын у меня! Жить мне да радоваться! А я тебе тоже кое-что привезла.
И она достанет из сумки то, что привезла: конфеты, пряники, а может быть, рубашку или новые ботинки…
Зелимхан вздрогнул, когда калитка действительно скрипнула и во дворе появилась их соседка Абдат. Едва войдя, она громко запричитала и заплакала:
– Ва-а! Горе горькое пришло к нам! Не глядеть бы на белый свет – не видеть бы его!..
На этот плач выбежал из дома отец – застыл у дверей.
Вскоре двор заполнился людьми. И Зелимхан, стоявший в стороне, не знал – зачем они все пришли и от чего женщины плачут и причитают в голос. Он не знал этого, но по тем взглядам, которые бросали на него чужие люди, и по тому, как странно, отрешенно смотрел на него отец, он ясно почувствовал, что в их дом пришла беда.
А когда на другой день ему сказали: «Несчастное ты дитя! Родила мать на сиротскую долю. Иди, посмотри на свою нану в последний раз», он отчаянно заплакал: «Почему в последний? Не хочу! Почему?» А когда взглянул на бледное застывшее лицо матери, закричал страшным, пронзительным криком.
Какие-то женщины вывели его из комнаты, и он, не помня себя, не чувствуя взглядов, побрел по дорожке в летнюю кухню, стоявшую в углу двора. Он вошел в единственную комнату с небольшим окном, упал на кучу старых, изношенных вещей, наваленных прямо на пол, и громко заплакал. Так, зарываясь лицом в ветхое тряпье, он плакал долго, безутешно. Спускались сумерки. На дворе стихли посторонние звуки: плач, шаги, сдержанный говор.
Тогда наконец открылась дверь, и в кухню бесшумно вошел отец. Он сел рядом и погладил сына по голове, и тот опять содрогнулся в рыданиях. Тьма за окном сгустилась, а отец все сидел по-прежнему, не мешая ему плакать. Но вот он взял сына за руку и сказал:
– Вставай. Идем.
Он повел Зелимхана через двор в их большой, просторный дом. И, усадив на паднар, принес ему ломоть хлеба и кружку молока.
– Ешь.
Зелимхан попытался жевать хлеб, но не смог.
– Я не хочу, дада, – он отвернулся от еды.
Вскоре они потушили лампу, улеглись и затихли. Тикали в темноте часы, они отсчитали уже, наверное, час или больше, но ни мальчик, ни отец не спали.
– Дада!
– Чего тебе?
– Нана никогда больше не вернется?
Отец не сразу решился ему ответить на этот вопрос. Он глубоко вздохнул и через какое-то время как бы через силу сказал:
– Нет, не вернется.
– Почему?
– Она умерла.
– А ее нельзя было оживить волшебной живой водой?
– Живой водой? Нет, это только в сказке.
– А почему только в сказке?
– Потому что в жизни все по-другому. А сказку придумали люди, чтоб им легче жилось.
Зелимхан примолк. Вдруг комната на миг осветилась, это сверкнула молния. Вслед за ней прокатился гром. Тишина разбилась, как стеклянный сосуд, и все отдельные ночные звуки поглотил шум падающего дождя.
– Дада, – снова повернулся Зелимхан к отцу.
– Что?
– Если она ушла насовсем, то почему не попрощалась и ничего нам не сказала?
– Но мы ведь были дома, а она – в больнице. Правда, говорят, по ее просьбе звонили сюда, на почту, по телефону.
– А что это такое?
– Такая штука, которая позволяет говорить с человеком на расстоянии.
– А почему же этот телефон не закричал изо всех сил, чтоб мы услышали?
– Телефон же не живой. Как бы тебе объяснить? Одним словом, это вещь, вроде нашего радиоприемника. Телефон тут ни при чем… В этот день, говорят, он долго звонил, но трубку поднять было некому.
– А кто должен был поднять его трубку?
– Да одна женщина, которая работает на почте. Люди видели, что как раз в это время она стояла на улице с каким-то парнем.
Зелимхан широко раскрытыми глазами смотрел в темноту. Раньше, рядом с мамой, он ничего не боялся, даже Баа, которая по ночам заглядывает в окна. Баа ни за что не сумела бы им навредить, когда они были вместе. Мама была доброй, поэтому, наверное, Баа невзлюбила ее и не дала ей поговорить последний раз с сыном. И телефон зря старался ему помочь.
Прошли месяцы, но мысли о матери, телефоне не покидали мальчика. С наступлением весны, едва подсохла грязь на дорогах, он каждый день стал приходить сюда, к отделению связи.
Если он видел через большое окно, что Баа сидит на своем месте, то становился поодаль под деревом и наблюдал за ней и телефоном. А когда она уходила обедать или по другим каким-то делам, он перебирался ближе – на траву под окном и так же сосредоточенно смотрел на телефон, думая о чем-то своем.
Иногда Баа, проходя мимо, заговаривала с ним и даже пыталась погладить по голове, но он не верил ее ласкам. Однажды она хотела угостить его конфетами, но он не взял их, ведь она только прикидывается обыкновенной доброй женщиной. Но его не удастся обвести вокруг пальца! И когда она, пожав плечами и отвернувшись, уходила прочь, он твердил ей вслед: «Баа! Самая настоящая Баа!»
Почему-то сегодня Баа не пришла и не открыла ключом большой черный замок на дверях. А телефон сиротливо стоит на своем обычном месте и выглядит совершенно беспомощным. Он похож на крохотного Русланчика, брата Шарпудина. Тот тоже не умеет говорить, а только плачет и улыбается беззубым ртом. Конечно, телефон рад бы был помогать людям и искренне этого хочет, но Баа мешает ему, зная, что телефон ничего не расскажет. Но Зелимхан все прекрасно понимает и без слов. Поэтому он и ходит сюда.
Мысли мальчика прервал резкий звонок телефона. Вот он на мгновенье умолк и звонит опять. Пауза – и снова звонок. Что же делать? Сердце Зелимхана колотится в груди. Он встает. Ему кажется, что еще минута и он оглохнет от этих звонков. Звонит! Звонит! Зовет! Требует помощи! А вдруг это сестра Шарпудина? Она ведь тоже сейчас в больнице. Шарпудин – его лучший друг, они живут в соседних домах и каждый день играют вместе. Но даже Шарпудин не поверил ему, что Баа сторожит телефон. Зря он не поверил Зелимхану. И вот теперь звонит его сестра из больницы, хочет попрощаться, сказать какие-то важные слова Шарпудину. Поэтому и Баа не пришла. Чтобы не поднимать трубку. Как в тот самый день, когда звонила его мать. И телефон так же надрывно вопил, звал, требовал. Так же, когда звонила из больницы мама… Мама…
Зелимхан локтем ударил в стекло, посыпались осколки. Он протянул руку к телефону. Дыхание прерывалось, он почти кричал:
– Ты из больницы? Кого позвать? Шарпудина? Я сейчас побегу за ним!
Трубка ответила громким мужским голосом:
– Что за чушь? Алло. Кто там у телефона? – Мальчик осекся и быстро положил трубку.
В это время к нему приближалась распаленная Зайна. Она выскочила из дома, стоявшего по соседству, в тот миг, когда услышала звон разбитого стекла. За ней следом торопились еще несколько женщин.
– Хулиган! Вот зачем ты здесь околачивался! Ремень по тебе плачет! – подбежавшая Зайна схватила мальчика за рукав, отшвырнула на траву.
Он не ушибся, но слезы хлынули разом. И он закричал, показывая на Зайну рукой:
– А ты – Баа! Я все про тебя знаю! Это ты сторожишь телефон! Это ты не дала мне поговорить с мамой в последний раз!
Он снова и снова показывал пальцем на Зайну и повторял:
– Ты – Баа! Баа!
А женщины молча стояли вокруг, застыв от удивления.
1980.
[1] Баа – отрицательный персонаж чеченских сказок.
Перевод А. Смородиной.
Денисолта
Странные какие-то вещи происходят в Варш-Юрте. В разговорах жителей этого аула появилось много неведомых ранее слов. Если бы кто-нибудь из местных жителей несколько лет назад ушел жить в лес, а теперь возвратился, многое было бы ему не понять из того, о чем говорят его земляки. Наверное, он в какой-то миг просто остолбенел бы и мысли у него были такие: «Это что же: я сошел с ума или все они? Но как сразу столько людей в одночасье может сойти с ума? Стало быть, все же я?..» И вот, схватившись за голову и громко вопя: «А-а-а?..», этот человек убегает обратно в лес, откуда не вовремя пришел.
Так что же за речи звучат нынче в ауле?..
– Я иду с репетиции кружка… – А я иду в избу-читальню… Ты не знаешь,
избач там?
– Не знаю, я сегодня там не была. Скажи, а твой записался в ТО3?
– Да, как раз вчера, когда к нам заходил депутат сельисполкома, он его и записал.
– А у нас вчера ночевал финагент…
– Это тот, наверное, что носит брюки галпеш? А к нам дня два назад заходил налоговый агент, так говорил, что операции надо поскорее закончить. Обут был в калоши.
– А ты не слыхала про сына Баадулы, Баха? Он стал селькором. Мне вчера вечером читали его филитон1 о Шамтаке, «Разоблачение злоумышленника» называется. Брат же его, говорят, пошел в комсомол.
– Ну так что же! У иных вон родня в НКВД служит!
Эти и подобные разговоры слышатся во всех уголках аула. Все его жители теперь поделились на три группы: кулаки, середняки и бедняки. Того, кого называют теперь «кулак», принято стало остерегаться. Слово это, когда-то казавшееся вполне обычным, теперь звучит как что-то угрожающее, норовящее обрушиться на головы всех, кто сам не «кулак».
Зато слово «бедняк» казалось поначалу Денисолте каким-то жалким, чумазым. Но вот очень скоро выяснилось, что считаться бедняком вовсе не позорно, наоборот, как раз им более всего стремится помочь новая власть. И друг Денисолты, шестидесятилетний Хама, теперь любит часто повторять: «Скоро вся власть будет в руках у бедняков!» Денисолта тоже «бедняк», плюс к тому еще и «единоличник». И из хозяйства на его дворе всего четыре козы.
Через восемь месяцев Денисолте исполняется тридцать лет, уже давно пора бы ему жениться. Но пока ни одна девушка не идет за него; пошли даже разговоры по аулу, что так, видно, он и останется до старости бобылем, как его друг Хама. А жениться Денисолта хотел бы не просто на ком попало, а по любви. И уже есть такая девушка, ее зовут Келисат. Вот сейчас и идет он повидать ее у родника, который бьет вон в тех зарослях за околицей аула. Там мало кто бывает, но Келисат всегда ходит за водой туда, потому что это близко к ее дому.
И теперь Денисолте повезло: он слышит за кустарником песенку, которую напевает знакомый голос. Он раздвигает ветви – и вот она перед ним, его любимая: напевая, танцует, кружит вокруг родника.
– Ау, ты что делаешь, Келисат? Ты сейчас как Росса, который танцевал вокруг своей палки…
– Ли-ли-ли-ли-ла-лила-ла-ла… – не отвечая ему, Келисат еще кружит некоторое время, наконец прерывает свой танец и говорит: – А что, может, у меня здесь репетиция!..
– Знаю, – говорит Денисолта, – этот завклубом, кривляка Завалу, всех вас с ума посводил!
Еще только неделю назад лишь что-нибудь плохое, сказанное о Завалу, вызвало бы протест Келисат. Ведь он ухаживал за ней, и это было ей по душе. Но теперь ей уже все равно. Как раз с неделю назад она узнала, что у Завалу в городе есть жена. Да и кроме того… Людям в ауле Завалу не устает повторять: «Я приехал, чтобы вывести вас из тьмы к свету!», а сам недавно на репетиции так бесцеремонно, вопреки обычаю, взял за руку Кебират… Братья Кебират тогда чуть самого его не «вывели на свет!»: еще б немного, и пустили его принародно без брюк по аулу. Еле люди их примирили, для этого Завалу пришлось давать клятву, что прикосновение было случайным, без злого умысла. И Келисат с той поры все равно, что бы и где ни говорили про Завалу. И без него у нее шесть ухажеров, да еще не считая вот этого Денисолту, что сейчас стоит перед нею.
– Ты зачем сюда пришел?
– Я-то? Чтобы кое о чем тебе сказать.
– Ну так говори!
– Слушай, Келисат! Я хочу сказать, что, когда я думаю о тебе, мне хочется пойти в Грузию, пригнать для тебя целый табун скота, и я, бывает, уже начинаю подниматься в горы… Но тут вспоминаются мне мои четыре козы, и, боясь их лишиться, поворачиваю назад, – Денисолта начинает хохотать, думая, что развеселил и Келисат. Но та принимает сердитый вид и объявляет ему:
– Вот и живи себе спокойно, ухаживай за своими козами! – она поднимает с земли свой кувшин, собираясь уйти.
Денисолта останавливает ее, преграждает путь:
– Умру на этом месте, если ты сейчас уйдешь!
– Ну и что же еще ты хочешь мне сказать? – она опускает свой кувшин, ставит его снова на землю.
– Прислушайся к моему сердцу.
– И что я могу услышать? Оно разве песни поет?
– Да, песни любви поет оно! – Денисолта торжественно кладет ладонь на левую сторону груди, закрывает глаза и замирает, прислушиваясь к пению своего сердца.
Тут его отвлекают слова Келисат, которая насмешливо произносит:
– Эти песни мне уже надоели…
– Нет, не говори так! – Денисолта раскрывает глаза и принимается страстно заклинать: – Келисат, дай воды жаждущему; дай тень тому, кто изнывает под палящим солнцем; страдающему от болезни дай лекарство… Выходи за меня, Келисат!
– Я – за тебя?! Девушка, закончившая ликбез, научившаяся даже играть на гармони, – за тебя, который вместо подписи на бумаге прикладывает к ней палец, который на голове не имеет ни волоска и у которого живот подтянуло от бедности?.. Я, сестра трех братьев, которые владеют восемнадцатью головами скота да еще двумя лошадьми; я, у которой никогда не было отбоя от женихов, за которой ухаживают шестеро парней из трех сел?.. Не бывать этому!
– Зачем ты говоришь все это, Келисат?.. Зато, клянусь тебе могилой отца, если выйдешь за меня, то вся работа, которая тебе достанется, – лишь иногда подмести листья в саду…
– Да, да, дальше я и сама могу за тебя продолжить: «Если прогневаюсь – ударю тебя только четвертой частью чепалга, а зато вослед кину кусочек сахара…»2
– И это на самом деле правда! Выходи за меня!
Келисат, видимо утомленная таким долгим объяснением, вместо ответа стала ему напевать:
Если б сказали оставить вам то,
Что сладко, как мед,
Что так приятно, что так любимо, –
Разве оставили б вы?
Если б предложили съесть вам то,
Что горько, как желчь,
Что неприятно, что нелюбимо, –
Разве б вы стали есть?
Келисат перестает петь и спрашивает у Денисолты:
– Ну так что, смог бы ты это съесть?
Денисолта знает, что «горькое, как желчь», в песне – это его любовь, и твердо отвечает:
– Да, смог бы!
– Ах, так! Ну тогда… Тогда съешь-ка вот это! – Келисат указывает на грязь у родника.
Денисолта невозмутимо берет кусочек грязи и проглатывает, приговаривая:
– О, какая вкусная, какая сладкая…
– Ва, да ты с ума сошел! Да ты действительно не шутишь, ты и вправду готов на что угодно!
– Келисат!..
Денисолта пытается еще что-то сказать, но девушка перебивает его:
– Есть у тебя что-нибудь, скажи, чтобы дать калым за меня?
– Позволь мне самому об этом позаботиться! – восторженно восклицает Денисолта.
– Хорошо. Тогда пусть это будет позолоченный кинжал на ремне и десять рублей денег.
– А если я их принесу уже сегодня вечером?!
– Если можешь, то хоть прямо сейчас…
– Пусть же твои уста всегда вкушают только мед, хотя меня и заставила ты сегодня отведать грязи!
Келисат исчезает, а Денисолта еще какое-то время стоит как вкопанный, сам не свой от радости… Потом вдруг пускается в сумасшедший пляс, скачет и напевает: «Вот она, радость, вот она, удача!..» Но он так же резко останавливается и, задумавшись, начинает рассуждать вслух:
– Да что же ты делаешь, Денисолта, чего только не наболтал твой хвастливый язык! Удача-то удачей, да только где ж это ты добудешь этот кинжал с ремнем да еще и десять рублей? Четыре твоих козы?.. За них не получишь ни гроша! Ну-ка, отправляйся поскорее к Хаме, может, он чем-то поможет – горазд на выдумки, как бес!
Перед низким старым домом без изгороди сидит, греясь на солнышке, старик: босой, в проеденном молью бешмете. Это и есть Хама. Разные слухи ходят о нем в ауле, особенно о его отношении к женщинам. Одни говорят, что он, дожив до преклонных годов, так ни к одной и не прикоснулся; зато другие утверждают, что… Короче говоря, изыскания по этой части еще ведут его односельчане.
Перед Хамой лежат на земле осколки синего бутылочного стекла. Он берет то один, то другой осколок, подносит к глазам и долго глядит сквозь стекло куда-то вдаль… Потом, покачав головой, говорит сам себе:
– Эйт! Вот и был бы ты, мир, всегда таким, каким видим через это стекло. Синим-синим… Да, когда-то ты таким и был. Но прошли те времена, эх, как быстро прошли!..
Снова он смотрит через стекло, медленно поводя им из стороны в сторону, и попутно напевает такую бесконечную песню:
Вот солнце яркое горит,
Вот овец идет отара:
Воду пить идут они…
Это песня его души, его печали; сочинил он ее пятнадцать лет назад. Тогда, возвращаясь из леса, он повстречал шедшую к роднику Пезилат, дочь Садаки, ласково заговорил с нею, и она, подобно утреннему солнцу, ему улыбнулась… Вот и все, что было. Она пошла своей дорогой, а Хама – своей, и песня как-то сама собой стала складываться на ходу… С той поры и напевает он ее, чуть станет грустно, и мелодия навевает ему сладкое воспоминание:
Вот солнце яркое горит…
Неожиданно за спиной старика слышится голос: «Добрый день, Хама!» Хама все еще в забытьи, ему кажется, что это Пезилат приближается к нему, такая, какою была пятнадцать лет назад. Вот встала перед ним, спрашивает участливо:
– Ты отдыхаешь?..
– А куда ты направляешься, Пезил… То есть, то есть… Ке… Келисат.
Келисат, улыбаясь, отвечает:
– Иду на куржок.
Хама снова быстро хватает свое стеклышко и смотрит вослед Келисат, которая уже удаляется, раскачивая бедрами. И снова напевает он свою песню, а за спиной его тем временем раздается другой голос:
– Бедный, бедный Хама! Холостым, без женской ласки прожил ты жизнь!
Это уже Аха, меньший из братьев Келисат. Длинный, тонкий, как прут, на ходу припадает на одну ногу. Аха активист, ходит на все репетиции, и ни одна вечеринка не обойдется без того, чтобы не пел Аха. Особенно любит подпевать, когда слышит девичьи песни… Шутки его дурацкие давно уже надоели Хаме.
– Оттого что я не женился, – говорит он Ахе, – ты и не пытаешься быть мужчиной…
– Хи-хи-хи, – тонко хихикает Аха. И, уходя, запевает новую песню:
Красивее луны наш колхоз,
Красивее солнца наш колхоз,
Цветя, растет наш колхоз,
Все записывайтесь в колхоз…
– Был бы ты мужчиной, не пел бы.
– А, предрассудки все это…
Прошло совсем немного времени, и вот уж новое явление: по дороге, что проходит мимо дома Хамы, движется человек с громадным животом и большущими усами. Это один из самых неприятных для Хамы жителей аула, старший брат Келисат – Бовта. Он женат на женщине по имени Шайлагаз, родом из Чеберлоя.3 «Смешение далеких кровей дает здоровое потомство», – заявил в свое время Бовта, отправляясь за невестой в Чеберлой. И выбор его был удачен: жена в нем души не чает. Любой свой разговор начинает так: «Знаете, а мой вчера говорит…» И все время кормит простоквашей, перемешанной с кусочками чурека, – это его любимая пища… Хама хотел было скрыться до приближения Бовты, но было уже поздно – тот заметил его:
– Во-хо-хо-хо! Бедный Хама! Бедняк Хама! Что это ты сидишь тут, чем занимаешься?
– Да так, ничем, просто сижу, — отвечает Хама. – А у тебя что это в руках?
– Это позолоченные кинжалы с ремнями. Несу продавать. Может, ты их купишь, бедный Хама? Во-хо-хо! Отдашь кинжалы за калым, женишься наконец, а, бедный Хама?! Ха-ха-ха… Будешь есть простоквашу с чуреком, ха-ха-ха… Съел бы, да нет ее у тебя, бедняк! Ха-ха! Название-то вам дали какое подходящее. Ну, бедный Хама, я пошел. А ты сиди, смотри на белый свет через бутылочный осколок: может, увидишь какую невидаль, хо-хо-хо… Бедный Хама! Умный всегда живет в довольствии, а разиня только смотрит на него издалека да завидует. Вот как ты, бедный Хама. Вот так-то оно, и никаких тут секретов нет!..
Он скрылся, а вдалеке еще долго слышалось его «во-хо-хо». Когда наконец и голос его смолк, Хама неожиданно резко взмахнул руками и заговорил:
– Подумаешь, распустил хвост: «Бедный Хама, бедный Хама…» Уж и вообразил себя князем, как завел десять голов скотины! Будто долголетия тебе прибавит твое богатство – ничего с собой в могилу не утащишь! И еще вот что ты позабыл – что власть переходит в руки бедняков! Моя власть, хоть я и не имею ничего, кроме собственных штанов!..
Выговорившись и немного успокоившись, Хама снова берет с земли стеклышко, смотрит сквозь него вокруг и тихо напевает. Но что это: ему начинает казаться, что кто-то есть поблизости, украдкой наблюдает за ним.
– Асса-лам алейку-у-м! – подкравшись сзади, Денисолта подхватывает старика на руки и, не давая опомниться, начинает кружить.
– Что ты делаешь? – причитает Хама. – Опусти меня, уронишь!
Но Денисолта только поднимает его еще выше:
– Какой же ты гордый, Хама, даже не желаешь отвечать, когда тебя приветствуют…
– Сначала поставь меня на землю, потом уж будем разговаривать! Вот так… Ва алейкум салам!.. Ты чего это так сегодня разошелся?
– Лучше ты мне скажи, Хама, зачем смотришь ты на этот мир через стеклышко, разве он и сам по себе не прекрасен?
– Да, вижу, вижу, что тебе он по душе! Ну, говори, что случилось?
Денисолта, ничего не ответив, принимается танцевать.
– Вот она, удача, вон оно, счастье… – напевает он. Неожиданно останавливается и быстро говорит Хаме: – Твой друг женится! – И снова кидается танцевать, напевая: –Удача, удача, удача…
Когда наконец он останавливается передохнуть, Хама, который теперь все понял, говорит ему:
– Денисолта, раз она уже согласилась, надо тебе скорее привести ее в свой дом, слышишь: побыстрее! Вот, перед тобою сейчас один из тех, кто все откладывал однажды, все откладывал на завтра – да так и остался холостяком до старости… Ах, Пезилат! Ты, Денисолта, знаешь, о ком я говорю? О той, что для Баги теперь уже одиннадцать детей народила: в верхнем конце аула они живут. А ты думаешь, она не хотела выйти за меня? Она-то хотела! Да только я был нерасторопным: решил жениться только после того, как куплю корову… Год копил и больше, пока наконец, помню, в один дождливый день отправился в Шатой-крепость на базар, а когда возвратился и корову с собою привел, тут соседка и сообщает мне весть, какую не дай бог услыхать даже врагу моему: «Вчера ночью Пезилат вышла замуж за Баги, что с верхов аула». И далась мне эта корова, можно ведь было ее и после купить! Да и она, кстати сказать, вскоре сдохла, когда пошел мор среди животных…
– Прошедшее не вернешь, Хама, – сказал Денисолта. – А если не хочешь, чтоб и друг твой остался одиноким, скажи лучше, где мне можно добыть позолоченный кинжал с ремнем и десять рублей денег?
Услышав такое, Хама схватился обеими руками за голову:
– Уффай! Что же это за Малх-Азни4 такая, что надо платить за нее втридорога?
– Келисат.
– Сестра Бовты? Келисат, которая окончила ликбез и играет на гармони?!
– Да, она самая. А что ты так удивился, или считаешь своего друга недостойным ее?
– Да нет, я не про то. Хочу сказать, что за нее такой калым невелик, за нее и в десять раз больше можно отдать. Такая же красавица, какой была когда-то моя Пезилат.
– Что там Пезилат! Я на десять Пезилат ее не променял бы!
– Ну, не скажи…
– Хорошо, хорошо, будем считать их одинаково прекрасными. Но все же – что делать с калымом?
Хама, поднеся опять осколок стекла к глазам, задумался. Денисолта в беспокойстве стал вышагивать кругами, поглядывая на него.
– Даже в долг попросить нам не у кого, – говорит он.
– Попросить найдется у кого, да вот нет такого, кто бы дал, – качает головой Хама.
Оба опять помолчали. Наконец Хама произносит:
– Я придумал кое-что… Если ты только не побоишься. Наклонись, об этом громко говорить нельзя.
Хама что-то нашептывает Денисолте на ухо, и у того понемногу глаза от удивления ползут на лоб:
– Да ну! Хама, о чем ты говоришь! Это просто невозможно!
– Нет ничего невозможного в этом мире! Надо только сильно захотеть!
– Но кто может поручиться за нас?
– С Наа я сам буду разговаривать, он почитает меня за настоящего праведника. Но, может быть, до него и дело не дойдет…
– А что, если мы попросим муллу похлопотать о нашем деле?
– Ну да! Будет Бовта их слушать, когда он и молится-то лишь в тех случаях, если вдруг хворь найдет…
Хама размышляет несколько минут, что-то бормоча про себя. Наконец начинает говорить снова:
– Вот, Денисолта, видишь, как плохо, что ты не состоишь в комсомоле! Комсомол мог бы помочь… А еще лучше председатель сельсовета. Никакой мулла не имеет такого авторитета.
– Хама! – восклицает Денисолта. – Как плохо, что не ты у нас председатель сельсовета! Тогда бы для нашего дела вообще бы не было преград… Правда, я слышал, все боятся грозную Азман. Но…
– Правда, я слышал, что он боится Азман. Но…
– Она это дело уладит, если ты запишешься в ТОЗ.
– Не то что в ТОЗ, а куда хочешь запишусь… Ну, пойду я, может, что и выйдет из этой затеи. Если дело сладится, я привезу тебе повозку дров и повозку сена.
– Хорошо, Солта, и Ази ведь хочет обещанного, так ведь говорят…
Они заразительно смеются, а Денисолта время от времени повторяет: «Да, и Ази хочет…», припоминая смешную историю.
Одна вдова попросила придурковатого Ази нарубить для нее дров, пообещав, что выдаст за него свою дочь Зелимат. Закончив рубить дрова, Ази сказал:
– Выводи свою дочь. Вдова, рассмеявшись, сказала:
– Ой, Ази, что ты говоришь, я же пошутила!
– Какие могут быть шутки, и Ази хочет обещанного, – сказал Ази и накинулся на проходившую мимо с кувшином Зелимат.
«Хороший у меня друг. Никогда не скрывает от меня свои радости и печали. Каждую украденную курицу, придя ко мне, со мной съедает. Что бы я делал без него?» – думает Хама, оставшись один.
Бовта, поджав под себя ноги, сидит на паднаре, поедает накрошенный в простоквашу чурек. Время от времени с удовольствием выговаривает: «Ва-ах!» – и утирает рукавом бешмета усы. Дремлет в углу, что-то про себя нашептывая, покачивая головой, средний из троих братьев – Наа. На голове его, как обычно, старая облезлая ушанка, одно ухо которой опущено, а другое торчит в сторону, покачиваясь, как крыло ворона… Тишину вдруг нарушает яростный лай собак во дворе.
– Эй, ты слышишь?! – недовольно кричит Бовта. – Пойди глянь, кого там принесло.
Шайлагаз, его жена, выйдя из дому, видит окруженного псами Денисолту.
– Ва, это ты, парень! – говорит она, отгоняя собак. – А то мой что-то сегодня как будто ждет каких-то неприятностей: плохие сны прошлой ночью ему снились.
– Думаю, не я тому причиной. Про меня ни плохих, ни хороших снов, думаю, никому не снится.
Денисолта вслед за Шайлагаз входит в дом и здоровается с Бовтой и Наа. Увидав его, Бовта разражается зычным хохотом:
– Во-хо-хо! Как ты сюда попал, лысина?.. Бедняк… Во-хо-хо! Название-то вам какое точное придумали… Во-хо-хо! Ну, говори, что занесло тебя в мои владения, куда ни зверь не проскочит, ни птица не пролетит?.. А, Денисолта?
– Об этом и тороплюсь сказать, уважаемый! Кто во всем варшхоевском крае, да и во всей Чечне самый благородный, самый мудрый и самый щедрый человек? – вот какой вопрос мучил меня и моего двоюродного брата Хамби, что с Верхнего Варша. К тебе послал меня мой брат. Он собирается жениться. Невеста хочет, чтоб калым заплатили позолоченным кинжалом с ремнем и десятью рублями денег. Кто, как не ты, уважаемый, может одолжить моему брату такое богатство!..
– Что же, больше и пойти тебе не к кому было, кроме как ко мне?
– Нет, я сразу себе сказал: кто у нас самый благородный и добрый, чей ум и щедрость известны и в варшхоевском крае, и во всей Чечне, в горах и на равнине…
– Во-хо-хо! – польщенный его речами, Бовта откладывает ложку и допивает остатки простокваши прямо из миски. Оставив ее и утирая усы рукавом, говорит: – Вах, хорошо, дам я тебе то, что просишь для брата!
– Долг я скоро верну, задержки за мною не будет.
– Куда ж ему долг возвращать, когда у него ничего нет?.. Бедняк – кличку-то какую себе придумали хорошую! – смеется Наа.
– Бовте долг всегда вернут! – говорит Бовта. – Нечем будет самому возвращать – отниму у его рода. Не будь я мужчиной и пусть имя мое будет не Бовта, если кто-то вознамерится не отдавать мне долги!
Денисолта, заполучив в свои руки кинжал и деньги, весь сияет ярче солнца, отсвечивающего в его лысине в погожий день.
– Скоро, скоро возвращу я долг, – говорит он. – Может, еще сегодня успею.
– Во-хо-хо! Старайся, ищи, бедняк Денисолта, – посмеивается Бовта. – А пока, может, подкрепишься простоквашей?..
Утром дом оглашается громкими криками Шайлагаз:
– Ва-а-а, горе! Ва-а-а, несчастье нас постигло!
– Ва-а-а! – очумело просыпается и вскидывается Бовта. – Что случилось, какое горе? Простоквашу пролила?
– Какая простокваша, какая там простокваша… Ах, легче мне умереть!
– Да что же произошло, говори!
– Наша красивая сегодня ночью ушла из дома и вышла за того самого парня…
– За какого за «того»?
– Который вчера к нам приходил.
– За Денисолту? Наша Келисат, которая закончила ликбез, которая играет на гармони, – за этого сопляка?!
– Да, – говорит Шайлагаз. – А вот это дали за калым…
– Как?! – вопит неистово Бовта. – Это же мой кинжал, который я дал в долг, и десять рублей мои. Смотри, Наа, видишь, здесь краешек надорван, я запомнил… Во-хо-хо!
Наа еще не понимает, в чем дело.
– Ты меня звал, что случилось?
– Наша Келисат вышла за Денисолту.
– Как? За него?! Девушка, закончившая ликбез…
– Да! – кричит Бовта. – Закончившая ликбез, играющая на гармони!.. А вот это, гляди, принесли нам за калым.
Наа разглядывает кинжал и червонец, глаза его округляются.
– Во-о-о! – снова вопит Бовта. – Несите мой пистолет, несите мой кинжал, ружье, все несите!.. Бовта не остается в долгу ни перед кем!
На ходу пристегивая к поясу оружие, он выбегает из дому.
– …Хама, скажи мне, что будет с теми после смерти, кто в этом мире живет обманом: сожгут их на адском огне или поджарят на сковороде?
– Их, Наа, ожидает большой котел с кипящим маслом.
– Ах, горе, ах, беда… – причитает Наа, утирая нос рукавом бешмета.
Хама некоторое время сидит молча, прикрыв веки, будто думает о чем-то. Наконец он тихо начинает говорить:
– Послушай, Наа, все на земле случается по воле Аллаха. Может быть…
– Да сам-то я бы и не против был, да вот только не знаю, что собирается сделать Бовта, – Наа опять утирает нос рукавом, качает головой.
В это время у дверей слышится голос Бовты:
– Дома нету этого недоноска, сбежал. Но он от меня не уйдет, я отыщу его…
Двери с шумом распахиваются, входит Бовта и видит Хаму.
– А тебя что сюда принесло? Иди вон отсюда, побыстрее! – кричит Бовта, не здороваясь.
– Хорошо, сейчас, шапку возьму…
– Бери свою шапку! – он пинком отправляет шапку Хамы в сторону двери.
Хама уходит, а Бовта уже готов наброситься теперь на своего брата, но в это время входят два старика. Один из них низкорослый, с только еще начавшей седеть бородой, коротко подстриженной; другой тощий, высокий, борода у него длинная и белая, как снег. Эти двое, единственные в ауле, читают по-арабски, они знатоки Корана. Когда в доме праздник или похороны, люди зовут к себе этих стариков. Сейчас, стоя у двери, после приветствия, оба они приставили ладони к ушам и запели:
Если стрелять из ружья, пистолета – не течь от того молочным
рекам.
Послушай, слуга Аллаха: родство лучше вражды.
Смирись со случившимся; желая уже невозможного,
Только позор навлечешь на себя, бедный слуга Аллаха!..
– Ну, чего вам надо? – обрывает их, едва сдерживая злобу, Бовта.
– Мы по делу к тебе…
– Ах, по делу… Здоровы ли вы, уважаемые, как ваша родня?.. Простокваши не желаете?
– Нет, спасибо.
– Простокваша у меня хорошая. А если чурек покрошить – просто объедение…
– Спасибо! Нам надо обговорить с тобой одно дело.
– Оставьте это! Лучше, если вам нужно, я буду землю копать.
– Хоронить никого не собираемся, зачем землю копать?
– Это хорошо, что у вас все здоровы. Отведайте простокваши, очень хороша с чуреком, я всегда с удовольствием ем.
– Тогда мы уходим, раз так встречаешь ты нас.
– Уже идете? Ну что ж, раз вы торопитесь… Может, вареного мяса поедите? Есть бульон с галушками из кукурузной муки… Ах, все же уходите? Хорошо, до свиданья…
Проводив гостей, Бовта возвращается в дом и говорит брату:
– Второй раз покрыли мы себя позором, Наа! Тогда, десять лет назад, помнишь, наш дядя Пхара поставил надгробный камень на могиле чужого человека, ошибся. А мы решили, что с могилы нашего родственника камень украли, подняли шум и тем осрамились. А теперь вот это… Этот позор мы должны с себя снять – я, ты и Аха, и чтоб никто не вмешивался. «Не неси сор из избы», – говорит пословица… – А где Аха? Аха-а!
– Хо-вай! – открывается дверь со двора, входит Аха.
– Где ты пропадаешь? – сердито спрашивает у него Бовта.
– На куржок ходил.
– Ты что, не знаешь, что произошло в нашем доме?! Тут разве до песен!
– Знаю. Но должна же она была за кого-то выйти! Ты гневаешься из-за калыма? А Завалу говорит, что вообще калым – это пережиток прошлого.
– У-у, поди ты со своим Завалу! – Бовта в сердцах швыряет в Аху ложкой, которую хватает со стола. – Вот: брюки на тебе – это тоже пережиток прошлого, что же ты не ходишь без брюк?! Ты…
Больше Бовта ничего не успевает выговорить, застывает с открытым ртом, потому что видит входящую в их дом председателя сельисполкома Азман, дочь Бачи. Эта Азман из тех женщин, о которых пословица говорит: «Хорошая дочь лучше, чем десять сыновей, особенно если у тебя их нет». Верхняя одежда на ней мужская, револьвер на ремне, кроме того, она беспрерывно курит крепкие самокрутки из табака, смешанного с кукурузными листьями. Высокая, крупная, темные волосы – в самом расцвете сил молодая женщина.
Пройдя мимо застывших Наа и Бовты, словно бы даже и не замечая их, Азман останавливается посреди комнаты, выпускает из папиросы клубы дыма и громко произносит свое любимое слово:
– Ре-во-лю-ци-я!
– У-у-у!.. – вдруг снова взвывает Бовта.
Азман выпускает еще один клуб дыма, потом начинаeт говорить:
– Бовта, ты понимаешь, кто ты такой?
– Середняк я… Но не кулак.
– А середняк – это элемент, который клонится то в одну, то в другую сторону – куда подует ветер.
– Это не про меня. Это наш хромой Аха раскачивается…
– И ты тоже! Потому слушай. Денисолта, бедняк, со вчерашнего дня принят в ТОЗ, он будет ухаживать за общественным скотом. И никому преследовать его мы не позволим.
– Нет, Азман, в этом деле ты мне не…
– Ре-во-люци-я! – обрывает его грозный оклик. – Ты смотри у меня, Бовта!..
– Хорошо, хорошо, не гневайся, – Бовта обмякает, как смазанный жиром сапог. – Но ты же должна понять: над нами люди смеяться будут!
– Что же смешного в том, что девушка вышла замуж?
– Но ведь он нам дал за нее…
– А-а, чепуха! Просто не говори никому, что это ты сам дал ему в долг.
– Но об этом уже все слыхали.
– Ничего, а я теперь стану всем говорить, что все это ты просто придумал в шутку. И сам ты, если снова станут спрашивать, признавайся, что пошутил.
На минуту все в комнате замолкают. Слышится только однообразное «з-з-з…» – это над миской с простоквашей кружит муха. Первым тишину нарушает Аха.
– Выплата калыма, – говорит он, – это темное наследие прошлого…
Взгляд Бовты заставляет Аху умолкнуть. Азман одобрительно кивает головой:
– Видишь, Бовта, была бы у тебя хоть половина ума твоего младшего брата!
Тут в разговор вступает молчавший до того Наа.
– Послушай, Азман, что я тебе расскажу. Говорят, когда-то жил в наших краях человек по имени Туха, который зарабатывал тем, что кастрировал собак. Получал он за это в день по двадцать копеек, которых хватало как раз на то, чтобы купить мыла да отмыть себе руки… Какая-то похожая у нас с Денисолтой история получилась, хе-хе-хе…
– Хи-хи-хи! – тоненько заливается Аха.
– Ax-ax-ax! – развеселилась и грозная Азман. Насмеявшись, она произносит: – Нет, Наа, твоя притча здесь не совсем уместна, расскажешь ее как-нибудь при случае. А соединение Келисат с Денисолтой будет записано в истории.
– Это что же такое – история?
– История? Как бы тебе сказать… Все мы слышали предание о том, что у чеченцев был когда-то такой большой котел, на стенках которого были выбиты названия всех наших тайпов. Вот и история подобна такому большому котлу, на стенках которого записываются все большие дела, что свершаются в мире.
– Имена одних запишут на стенках котла, а другие просто сварятся в нем, хе-хе-хе… – смеется Наа, вспомнив свой сегодняшний разговор с Хамой.
– А ты правду говоришь, что замужество нашей Келисат тоже будет записано на таком котле? – спрашивает Аха.
И Азман отвечает:
– Конечно! Это большое событие, потому что с этих пор чеченские женщины будут выходить замуж не за калым, а только по любви. И я пришла сказать вам: сегодня в нашей избе-читальне состоится первая такая красная свадьба…
Безоблачная, звездная летняя ночь перевалила уже на вторую половину. А в ауле по-прежнему слышатся веселые песни, звон барабана, выстрелы, возгласы: «Хорс-то, Хорс-вай!..»
На дальнем краю аула сосед спрашивает соседа:
– Ты не знаешь, что это за шум?
– Женится Денисолта, а красную свадьбу справляют в избе-читальне.
– Красную, говоришь… А если не в красной рубахе – так туда и не пускают?
– Не знаю, пойдем поглядим…
В противоположном конце аула тоже беседуют двое:
– Говорят, Денисолта женился…
– Да еще как! Женился как надо!
– Ха-ха-ха!..
– Угу-гу-гу!..
– Вах-вах-вах!..
– Кхи-кхи-кхи!..
Довольные, смеются люди. «Ишши!» – раскачиваются смеясь, зеленые леса, что разрослись по склонам кругом села. «Чхар-чхар», – шелестя между камней, ручеек бежит вниз с гор, резвится, смеется. «Булк-булк-булк», – басовито посмеивается река, катящая свои воды через самый центр аула… Да и сама Луна наверху так и расплылась в улыбке.
1983.
[1] Филитон (искаж.) – фельетон.
2 Слова из чеченского традиционного объяснения парня девушке.
3 Чеберлой – один из этнических центров горной Чечни.
4 Малх-Азни – дочь Солнца, персонаж чеченских сказок.
Перевод Ю. Доброскокина.
Проснулся
На шее у него висел красный галстук, который раскачивался из стороны в сторону каждый раз, когда он начинал расхаживать, выпуская клубы сигаретного дыма. И, когда узел на галстуке слабел, освобождая его шею, он двумя пальцами вновь затягивал его. Затем, бросив оценивающий взгляд на собственное отражение в зеркале, что стояло на столе, он легко кашлянул. Вообще-то, днем он закашлял бы гораздо громче, но сейчас была глубокая ночь – время перешагнуло далеко за полночь.
В соседней комнате, равномерно посапывая, спали его жена и дочь. Жена, проснувшись пару раз и не обнаружив его в постели, недовольно спрашивала: «Ты сегодня спать ложиться собираешься»? Но он не только не прислушивался к ней, но даже не сказал ей ни слова в ответ и уж тем более не посвятил ее в свои мысли.
Он еще долго ходил по комнате, потом, наконец, сел за стол. Начал что-то быстро писать, зачеркивал написанное и писал вновь. Спустя какое-то время начал печатать на машинке последние свои записи, наполнив тесную комнатенку ее треском.
Спустя короткое время он вытянулся в кресле и затих; затем, закрыв глаза, негромко заговорил сам с собой:
– Да, Вадуд Вахаевич, ты сам виноват… Вот если бы ты, когда в прошлый раз поехал в Москву, привез ему финские туфли, которые он просил, а не отговорился тем, что якобы не нашел их. Или, опередив Гуся, помог бы ему надеть пальто, когда вы выходили из театра… А ведь мог бы выйти из зала минут за пять до окончания спектакля и подождать в фойе возле вешалок… На Восьмое марта мог бы его жене французские духи подарить… Но оставим теперь ахи и охи! Что не сделано, то не сделано. Теперь, Вадуд Вахаевич, ты должен быстро завершить все это, если только не хочешь до конца жизни сидеть на своем скрипучем стуле… Ага, это будет здорово, это надо записать…
Быстро схватив ручку, он начал записывать пришедший ему на ум пример. Вновь несколько раз перечеркнул написанное, переписал начисто и затем начал печатать на машинке. После опять негромко заговорил, обращаясь к самому себе:
– Говоря по правде, Вадуд Вахаевич, ты должен был занять это место. У кого в вашем секторе наибольшее количество научных работ? У тебя. Кто раньше всех написал диссертацию? Ты. Однако в большинстве случаев справедливость не торжествует. Кого год назад послали на стажировку в Москву? Гуся послали, Гуся. А кого должны были направить по справедливости? Тебя, Вадуд Вахаевич, тебя. Этот Гусь, правда, умеет себя приподнести: где нужно улыбнуться – улыбнется, а где нужно склонить голову – поклонится. Ты, Вадуд Вахаевич, тоже мог бы поддерживать с людьми нормальные отношения и завести нужные связи. Однако, если заниматься этим всерьез, то Ее Светлость Наука отойдет на задний план. И как этот Гусь успевает делать два дела? Да он научной работой и не занимается. Да-да! Научный работник ничего не делает для науки! Смешно. Однако это на самом деле так. Есть ли у Гуся диссертация? Конечно, нет. Только конспекты различных работ. Хаос. И теперь этот Гусь будет мной руководить. Не будет, если только у меня сил достанет.
Он неплохой ученый, этот Носатый. И он не раз раз хвалил меня в своих докладах. Тем не менее он предпочтет Гуся, который привез ему не только финские туфли, но и золоченые запонки, хотя его и не просили об этом. Да и в театре, опередив меня, несколько раз он подал ему пальто… К тому же ровно четыре раза он приглашал его с женой вечерком к себе отдохнуть и разливал всем желающим шампанское. Гусь со своей женой также был в гостях у Носатого. И при таких обстоятельствах можешь ли ты, Вадуд Вахаевич, рассчитывать, что Носатый, став директором института, не передаст свое место Гусю, а рекомендует на должность заведующего сектором именно тебя? Не знаю. Но сегодня я буду знать это точно… Уже рассвело.
Он встал, прошел в ванную и, ополоснув лицо водой, вернулся. Поправил галстук, при этом два-три раза негромко кашлянув. Осторожно, чтобы не разбудить спящую жену и дочь, начал одеваться. Уже одевшись, некоторое время размышлял: стоит ли поесть или же пойти на работу, не позавтракав. В конце концов он решил пройти на кухню и выпить чашку кофе. Сделав это, он вернулся к столу и начал внимательно рассматривать результат долгой бессонной ночи: перед ним лежали двенадцать листов машинописного текста – мысли, лишившие его сна. Несколько минут он перебирал бумагу… Затем слабо улыбнулся, удовлетворенный результатом своей работы.
Сложив листы в свою черную папку, он, неспешно ступая, вышел на улицу. Холодное утро первого месяца осени. Город только просыпался. Лишь редкого прохожего можно было увидеть на городских улицах.
«Надо пойти пешком, как раз дойду к началу работы, а заодно и физзарядка будет», – решил Вадуд Вахаевич.
Как и рассчитывал, к институту он подошел вовремя. У входа стояли двое, о чем-то весело разговаривая: один – высокий, второй – низкий. Глянув на высокого, Вадуд Вахаевич побледнел: «Гусь, это Гусь!» – сказал он про себя и, повернувшись к ним спиной, попытался пройти мимо. Однако в это время послышалось:
– Эй, да это же Вадуд Вахаевич! – и с этими словами Гусь, подойдя прямо к нему, протянул руку.
– Ну да, я, – Вадуд Вахаевич неохотно пожал его руку.
– Ты какой-то без настроения, наверное, ночь не спал. Слишком уж увлекся ты наукой. Глянь, и портфель у тебя с каждым днем становится все толще.
Когда он протянул руку к портфелю, Вадуд Вахаевич заметно вздрогнул и побледнел еще больше. Но, быстро опомнившись, спрятал портфель за спину и ответил:
– Твой портфель не тоньше.
– В моем портфеле только чистая бумага, а в твоем – исписанная… – пошутив напоследок, тот направился к своему кабинету.
Не успев открыть дверь кабинета, он услышал, что его окликнули. «Носатый», – Вадуд Вахаевич сразу узнал этот голос.
Обменявшись приветствиями, тот пригласил Вадуда Вахаевича в свой кабинет. «Довольный он сегодня, может, хорошую новость скажет?» – размышлял Вадуд Вахаевич.
– Давай свою руку, – засмеявшись, тот взял его руку, – твоего друга вчера назначили директором.
– А меня? – неизвестно как, вырвалось у Вадуда Вахаевича, побелевшего как известь.
Тот рассмеялся, приняв эти слова за шутку:
– Ха-ха-ха! Скажешь – меня! И это все поздравление? Ну, ты и шутник!
– Поздравляю, – улыбнулся Вадуд Вахаевич.
– Вот так бы сразу и сказал, вот так… Теперь у меня для тебя еще одно хорошее известие.
– Какое известие? – в глазах у Вадуда Вахаевича вспыхнули огоньки.
– Эту новость нельзя сообщить просто так. Вначале ты должен пообещать, что отметишь это событие…
– Отменить-то нетрудно…
– Ладно, хорошо. Я рекомендовал тебя на свое место заведующего сектором… Поздравляю!
– Спасибо, спасибо, – огоньки в глазах Вадуда Вахаевича засияли электрическими лампочками.
Потом они еще долго обсуждали, как именно отметят эти радостные события.
Мысли Вадуда Вахаевича оставались светлыми и безмятежными до конца дня, если не считать нескольких секунд, когда он сильно испугался.
А было это так. Пока они говорили о том о сем, новый директор случайно взял подвернувшийся ему под руку портфель Вадуда Вахаевича. И, не замечая растерянность своего товарища, поинтересовался: «Что у тебя здесь?» – и с этими словами открыл портфель. – «Да нет там ничего», – Вадуд Вахаевич быстро вырвал свой портфель и до конца дня уже не выпускал его из рук.
Лишь вечером, вернувшись домой со своим портфелем, он немного успокоился. Достав из портфеля то, что было написано им до рассвета и что он так тщательно оберегал в течение всего дня, он, дымя сигаретой, принялся перечитывать некоторые страницы.
«…Как известно, наше общество сильно высоким сознанием каждого человека. Человек, воспитанный нашим временем и нашим социалистическим обществом, не имеет права пройти мимо совершаемого или готовящегося преступления. Его первейший долг, как настоящего гражданина социалистической родины, выявлять и разоблачать карьеристов с черным сердцем. Поэтому я считаю своим долгом сообщить вам следующее…»
– Кха, кха, хороший повод найден и мотивировка хорошая, – прервав чтение, тихо сказал Вадуд Вахаевич. Затем, немного покурив, он снова принялся читать свои бумаги: «Без внимательного анализа может сложиться впечатление, что работы Дачаева имеют глубокое научное содержание. В большинстве случаев, именно так и кажется многим средним читателям. Однако, если вдуматься, добраться до сути, – за его насыщенной терминами речью обнаруживается пустота. На это обстоятельство можно было бы закрыть глаза – мол, молод еще, кто не лишен недостатков? – но никто не имеет права оставаться равнодушным к гнилой идейной стороне этих работ.
Например, возьмем его работу под названием «Чеченская литература и наше время». В ней он делает попытку отнести к художественной литературе писанину, некогда составленную кровопийцами простого народа – муллами, которые пытались порочить земную жизнь и призывали «готовить себя к смерти». Между тем, как мы знаем, религия и служители религии в истории человечества всегда играли реакционную роль. К тому же чеченские муллы ничего другого и не умели, кроме как связывать между собой арабские буквы или переводить на чеченский язык надписи из Корана.
Здесь возникает вопрос: неужели сам Дачаев всего этого не знает? Конечно, знает. И не может не знать. Тогда зачем он пишет именно так?
Ответить на это нам поможет этимология. Откуда произошла его собственная фамилия – Дачаев? Вероятно, она происходит от имени его деда – Дача. И что из того? Ничего, если бы товарищ Дачаев не скрывал вторую часть имени своего деда.
В последнее время по своей научной работе мне часто приходится бывать в селах. Так, мне пришлось побывать и в селении Х. Как известно, Дачаев происходит именно из этого селения. В каждом разговоре со старожилами этого села они непременно упоминали Дача-хаджи: «Это было там, где находился магазин Дача-хаджи… Там, где стояли мельницы Дача-хаджи…» – и так далее.
– Кто этот Дача-хаджи? – спросил я одного из стариков.
От него я узнал, что это был хаджи, совершивший паломничество в Мекку и знавший арабскую письменность, а также богач, владевший магазинами и мельницами. Когда я поинтересовался его потомками, мне стало известно, что наш Дачаев является его внуком.
Приняв во внимание это обстоятельство, без всяких комментариев становится понятно, почему в своей вышеупомянутой работе Дачаев стремится из мулл сделать литераторов».
– Кха, кха, – Вадуд Вахаевич опять прервал свое чтение. Еще раз холодно улыбнувшись, он встал со своего места и начал расхаживать по комнате. Через некоторое время начал озвучивать свои мысли.
– Честно говоря, оценка, данная в его работе муллам, полностью соответствует диалектическому материализму. Его дед действительно совершил хадж в Мекку, но не был муллой и не владел магазинами и мельницами, как я написал, если не считать построенной им самим водяной мельницы. Если верить старикам, он содержал свою семью как раз на доход с этой мельницы; а сын Дача-хаджи, отец Носатого – Чахкарах – погиб на войне с Деникиным… Видно, не зря народом создана поговорка, в которой сказано: «Гончар приделает ручку к горшку там, где ему захочется».
– Ха-ха-ха! – вновь попытался засмеяться Вадуд Вахаевич, но ему это не удалось.
Тогда он вернулся в свое кресло и со словами: «У меня тут еще одно хорошее место было», – углубился в свои бумаги. Быстро обнаружив это «хорошее место», Вадуд Вахаевич принялся читать: «Существует еще одно обстоятельство, показывающее, что Дачаев не имеет морального права возглавлять такое учреждение, как институт. Как известно, Дачаев женат и имеет двоих детей. И тем не менее товарищ Дачаев «крутит любовь» со своей секретаршей (извините меня за невольное употребление этого словосочетания)».
Прочитав «хорошее» место, Вадуд Вахаевич сказал сам себе:
– Мой друг Носатый, еще минута и не быть тебе директором института, не быть…
Встав, он начал напевать мотив песенки: «Разве мы, разве мы, разве мы не молодцы?» – что обычно делал, когда пребывал в хорошем настроении. Однако на этот раз мотив звучал без обычного душевного подъема. Как ни пытался он развеселить самого себя, это никак не удавалось. Почему? Причину он понял ночью, которую опять провел без сна. Все дело заключалось в двенадцати листах бумаги, которые он напечатал прошлой, такой же бессонной ночью, и которые теперь лежали в письменном ящике его рабочего стола. Это беспокойство Вадуд Вахаевич расценил как ненужную слабость своего характера. «Что за детские выходки, стоит ли зря волноваться?» – сказал он сам себе. И, повернувшись к стене, захрапел.
…Он идет по городу, неся под мышкой свой черный портфель. Внезапно он роняет портфель и бумаги, лежавшие в нем, они рассыпаются. Он бросается к своим бумагам. Что будет, если кто-то прочтет их? Однако внезапный порыв ветра разносит бумаги. Но кто это? Это Носатый читает то, что было написано им вчера. И он огромен. Так огромен, что, глядя снизу вверх, не видно его всего целиком… А Вадуд Вахаевич совсем маленький. «Что сделает со мной Носатый? А-а-а!» – проснувшийся с криком Вадуд Вахаевич некоторое время не мог понять, где он находится. «Что это было?» – сев на край кровати, он ногами начал искать свои мягкие тапочки. Встав и попытавшись прикурить сигарету, он заметил, что руки у него дрожат. Две спички сломались, так и не вспыхнув. «Еще бы минута, еще бы минута, еще бы минута…» – шептали губы, пока он метался по комнате. Внезапно остановившись, он громко сказал:
– Что было бы через минуту? – прошло немало времени, а он все неподвижно, словно замороженный, стоял посреди комнаты. Потом тихо заговорил: – Еще одна минута, и я умер бы, оставаясь при этом живым. Да, именно так. «Лишь Божьей милостью избежал ты этого зла», – сказал бы отец, если бы был жив. И разве одним злом ограничилось бы все? Стыд. Позор. До самой смерти. Грязь на моем имени, на имени отца. Меня же не называют просто Вадудом – всегда добавляют: Вахаевич. «Никогда среди потомков Нажи не было доносчиков, подлецов и лгунов», – часто повторял он. А я… Еще минута, и я стал бы ими всеми. Лучше бы мне умереть, чем быть настолько слабым. Действительно, как говорят старики, благодаря одной только милости избежал я этой беды…
Лишь изорвав на мелкие куски все написанные вчера бумаги и бросив их в мусорное ведро, он почувствовал облегчение, словно свалилась с него огромная тяжесть…
1980.
Перевод Э. Хасмагомадова.
Раскаялся
Лицо у него налито кровью и опухшее. Голубые глаза – удивительно большие и полны страха. Волосы, выгоревшие на висках до желтизны, стоят торчком, как ежовые иглы. В довольно редкой бороде кое-где видна седина. В довершение всего, его порядком перепачканная верхняя одежда кажется очень изношенной. Ходил он, ссутулившись и неподвижно опустив вдоль туловища руки (одна из них, изувеченная, тоньше другой). Вздувшиеся на лбу вены, этот взгляд и покрывавшие лицо морщины подсказывали внимательному человеку, что сознание бродяги подверглось большим потрясениям.
Каждое утро он обходил городской рынок, оглашая его криком:
– Мама, прости меня, мама, прости меня, о-о-ой, мама, прости меня!
Любой, услышавший этот крик, сразу же понимал, что нормальный человек так кричать не может. Крик был силен и безумен. Заслышав его, постояльцы рынка говорили сами себе: «Гляди, идет»; те же, кто слышал его впервые и не понимал, что случилось, начинали искать глазами кричащего. Заметив их удивление, знающие поясняли: «Это сумасшедший»; некоторые в ответ вздыхали: «Ей-богу, как жалко его», а другие, неожиданно развеселившись (или им хотелось казаться такими), внимательно прислушивались к безумному голосу и поощрительно бросали: «Вот молодец!»
Когда тронувшемуся умом надоедало кричать, он подходил к кому-нибудь и говорил:
– Мама у меня только одна, зачем ее похоронили?
Тот, опасаясь, что сумасшедший испачкает товар, обычно отвечал:
– Уходи, не приближайся со своим грязным тряпьем!
А затем:
– Ты что, думаешь, у других людей по две мамы бывает? Ха-ха-ха! – после чего оглядывался по сторонам (понравилась ли кому острота?), а, найдя такого, понимающе подмигивал.
Вот так помешанный ходил целыми днями: оглашал рынок криками, питался подаваемой людьми милостыней, докуривал брошенные окурки, а если повезет – то и подаренную кем-то целую сигарету, причем, половину он, как правило, просто жевал. Вечером он бесследно исчезал. Никто на всем базаре не знал, где он проводит ночи. Но утром он появлялся и вновь принимался за свою «работу».
В детстве Чуоча был добрым и легко ранимым ребенком. В шестом классе, несясь во весь опор на санках по склону, он упал и повредил плечо, которое так и осталось изувеченным, что стало еще одной причиной его вечных страданий.
В том, что плечо не срослось, как следует, виноват был и сам Чуоча. Хотя плечо болело невыносимо, он молча терпел боль. Больше всего Чуоча боялся, что отец узнает об этом случае. Его отец был суровым человеком с огромными усами и в разговоре постоянно переходил на крик. Иногда, когда он кричал на мать, испуганный Чуоча со словами: «Ой, мама!» – бросался в ее объятия.
Отец строго-настрого запретил ему катания на санках и игры с детьми… Он запретил ему все, кроме работы. Боясь, что отец побьет его за ослушание, Чуоча долгое время скрывал случившееся даже от матери. А когда терпеть дальше сил уже не осталось и он рассказал ей все, она повела его к их односельчанину Ухе, о котором шла молва как о «знающем человеке».
Тот вначале осмотрел его плечо, приговаривая: «Слишком поздно ты пришел, слишком поздно…», долго качал головой, затем почти час что есть силы вытягивал руку, сделал припарку из куриных желтков, поставил на плечо лубок и, перевязав, отправил Чуочу домой. Только от этого лечения плечо у мальчика так и не срослось…
Отец часто бил его, и Чуоча каждый раз покорно принимал мучения, дрожа от страха. Стоило только отцу взять палку, стоявшую в углу, и потребовать: «Выставь вперед ногу», как Чуоча с криком: «О Боже!» – быстро подставлял ногу под удар. Он знал, что, стоит ему хоть немного замешкаться, отец будет нещадно лупить его палкой, не разбирая, где голова, а где нога. Крики и плач Чуочи его не трогали, поскольку свой метод воспитания он считал самым верным.
– Старую жердь в обруч не согнешь, для этого годится только молодое дерево, – отвечал он соседям, когда те упрекали его за постоянные избиения сына. – Я из этой хворостины обруч сделаю.
А иногда он грубо кричал в ответ на упреки, заставляя пожалеть, что вообще обратились к нему:
– Кому какое дело до моей семьи? Я не ребенок, чтобы ты учил меня и поэтому никогда больше не приходи ко мне с такими замечаниями.
Он знал, кому и как нужно отвечать (по крайней мере, он сам так считал).
Отец Чуочи искренне верил, что в жизни один должен бояться другого, а тот, в свою очередь, должен помыкать первым. Поэтому он смело кричал на людей, не ищущих ссоры, но если его не боялись, не стеснялся по-лисьи лебезить.
Только мама всегда приходила Чуоче на помощь. Но каждый раз, когда она вставала перед отцом, упрашивая не бить сына, тот вначале избивал ее, а затем – мальчика. Потом, обняв сына, она долго плакала где-нибудь в углу, вспоминая все свои беды и невзгоды, которые вставали у нее комом в горле. У нее не было ни родителей, ни брата, ни сестры. Братьев и сестер у нее никогда и не было, а родители умерли во время войны… Из братьев ее отца ни одного не осталось в живых. Какое-то время она жила в доме двоюродного брата своего отца, а затем вышла замуж за будущего отца Чуочи, когда тот сделал ей предложение…
Каждый раз, когда ее избивали, Синеглазка (так ее звали) думала, что с ней так обращаются только потому, что ей не к кому обратиться за помощью и некуда уйти. Эта мысль постоянно угнетала ее, отчего собственное положение казалось ей безнадежным. Тем не менее, несмотря на все издевательства, она никогда не жаловалась на людях. Только, совершая намаз, неизменно просила облегчить ее страдания и послать согласие в семью. Она и Чуочу научила молиться, и в своих молитвах он просил о многих вещах: вылечить больную руку, новенький велосипед, сестренку, с которой он мог бы в любое время играть, ничего не боясь…
В семье был еще один ребенок. Еще один мальчик – Ади, старше Чуочи на три года. По своему нраву и повадкам он был вылитый отец. Полностью безразличный к побоям, которые терпели его мать и Чуоча, он всюду ходил за отцом, смеялся или хмурился вслед за ним, одобрительно подхватывая каждое его слово. Иногда он специально рассказывал что-нибудь такое, что должно было понравиться отцу: «Папа, какое огромное бревно ты поднял вчера!» или «Вчера Аказ хотел побить меня за то, что я оттаскал за уши его сына, который грязно выругался в твой адрес». Отец громко спрашивал: «Он что-нибудь сделал тебе?» – «Я сказал, что пожалуюсь тебе, и после этого он молча ушел».
Отцу очень нравилось, когда Ади говорил что-нибудь в таком духе; он расплывался в улыбке, а затем, нахмурившись, зло бросал:
– Так и отвечай им, я не боюсь, что они осмелятся хоть на что-то.
Два года назад Ади еще учился в школе. Впрочем, учебой это нельзя назвать, поскольку он еле-еле дошел до третьего класса, застревая в каждом классе на два-три года, дерясь со слабыми, заискивая перед сильными и воруя при случае все, что удавалось украсть. Читать он так и не научился, поскольку толком не знал все буквы. Каждый раз, когда из школы приходили с требованием повлиять на сына, Курба (отец Ади) поднимал шум, требуя признать черное белым, делал вид, что рвется в драку, так что соседям приходилось удерживать его. В конце концов, Ади, который и не думал исправляться, исключили из школы.
Ади не только не приходил на помощь Чуоче и своей матери, если им приходилось терпеть побои, а наоборот, услышав однажды, как избитая Синеглазка сказала в сердцах: «Пусть Бог тебя осудит», – он тут же сообщил об этом отцу: «Отец, она там что-то говорит против тебя», – после чего тот избил ее во второй раз.
Когда Чуоча перешел в пятый класс, у него уже не было возможности учиться дальше. Его отец, забрав семью, ушел в горы, на хутор, где занялся разведением овец. Подвигло его к этому только одно желание: «Эти сельчане еще узнают меня, когда лет через пять-шесть я куплю машину!» А чтобы не иметь проблем с властями, он одновременно пас и некоторое количество колхозного скота.
Когда Синеглазка попросила оставить Чуочу в селе для окончания учебы, Курба крикнул в ответ:
– Не оставлю, он что, профессором должен стать? К тому же, чтобы пасти овец, совсем не нужно умение читать книги.
На хуторе ничего не изменилось. Только работать приходилось больше, чем в селе, так что порой не оставалось времени, чтобы просто присесть. Устававший на работе до изнеможения, Курба здесь стал еще злее.
Прошло пять лет. Чуоче исполнилось шестнадцать.
Это время, когда человек все видит в удивительном, прекрасном свете, он верит в самого себя, в нем начинает проявляться его собственное «Я», а в сердце рождаются самые чистые и светлые желания. И для Чуочи наступило такое время, однако груз тяжелого детства не давал ему от всей души радоваться жизни. Минуту назад окружающий мир казался ему прекрасным, а потом вдруг тускнел: то ему казалось, что он способен на любые свершения, но через минуту он чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. «Я уродлив, изувечен и не образован – что я могу в этом мире?» – размышлял он, воспринимая свое положение в гораздо худшем свете, чем оно было на самом деле.
Но и в самые тяжелые минуты, как бы плохо ни думал он о себе, все же была у него душевная мечта. Ему всегда нравилось размышлять о ней.
А мечта была такая. Светлой лунной ночью он идет по поляне среди леса. В лунном сиянии появляется девушка в платье из блестящей шелковой ткани, а ее распущенные черные волосы закрывают всю спину. Она одета в традиционное праздничное платье, на ногах башмачки, только голова не покрыта – волосы свободно ниспадают на плечи. Глядя на луну и улыбаясь, она идет, легкая, как воздух, по траве, покрытой росой, идет, не замечая его. Внезапно она замирает в смущении. Он что-то говорит (хотя и не осознает сам, что именно). Тогда, робко взглянув на него, она улыбается… Через короткое время (сами не зная, каким образом) они уже поняли друг друга и вдвоем, взявшись за руки, выходят на дорогу. И дальше не будет ничего, кроме любви и радости для всех…
Размечтавшись, он порой забывал обо всем на свете, и ему казалось, что все это уже происходит с ним наяву. Поэтому услышав вдруг голос отца: «Чуоча! Чуоча! Ты что делаешь? Иди сюда», – он терялся, словно его застали раздетым во время купания. Свою мечту, как будто другие могли узнать о ней, он в ту же минуту прятал в глубине сердца. Юноша боялся, что кто-то испачкает чистую и дорогую для него мечту.
Когда Чуоче шел семнадцатый год, в начале весны попав в снежную лавину, сорвавшуюся с горного склона, сгинул тот, кто полагал, что смысл существования сводится к разведению живности.
Через год после смерти отца Ади распродал весь скот и, хотя Синеглазка умоляла остаться в селе, перевез семью в город.
Подыскав для матери и Чуочи жилье на окраине, он сам женился на разведенке. Вернее будет сказать, перешел жить к ней. Ади начал новую жизнь: устроился в столовую грузчиком, купил шляпу с загнутым вниз козырьком, отпустил усы, быстро располнел, перед кем-то заискивал, перед другими сам возносился, а в разговоре у него появилась привычка постоянно повторять «вот так вот». По правде говоря, к матери он теперь относился не так плохо, как в детстве. Он часто посещал ее, каждый раз принося небольшие подарки. Более того, из денег, вырученных от продажи овец, он себе оставил лишь небольшую часть, а все остальное отдал ей.
С переездом в город Чуоча еще больше утвердился в жалости к самому себе. Он еще более ясно осознавал теперь не только свою физическую несостоятельность. С тоской вспоминал годы, проведенные не в школе, а в горах. Еще тяжелее было ему видеть молодежь, вечерами прогуливавшуюся по городскому парку. Ему казалось, что ни одна девушка не захочет даже приблизиться к нему. Лишь изредка, стоило только кому-нибудь из них с улыбкой взглянуть на него, в сердце у Чуочи вспыхивал огонь радости, который сразу же гас, стоило ему лишь вспомнить о своем физическом недостатке и отсутствии образования.
Ему начинало казаться, что улыбнувшаяся ему девушка все понимает и смотрит на него с жалостью. А с некоторых пор ничто так не раздражало его, как людская жалость к себе. Он скорее готов был умереть, чем услышать слова сочувствия.
Дни он обычно проводил в городе, а вечерами, когда обиды и неприятности (к его удивлению, он всегда находил их, даже если за целый день с ним ничего не случилось) петлей стягивали горло, он порой плакал, втайне от матери. Впрочем, мать видела его печаль. Время от времени Синеглазка предлагала:
– Чуоча, давай мы тебя женим, тогда и у меня помощница появится.
Однако Чуоча, убежденный, что ни одна девушка не согласится выйти за него, неизменно отвечал отказом:
– Мне не нужна никакая жена, – хотя сам тайно мечтал об этом.
Так шло время, и Чуоча наконец нашел себе товарищей. Это были длинноволосые парни в широких штанах, большие любители выпить, а потому считавшие своим другом любого, у кого в карманах водились деньги. Синеглазка всегда давала Чуоче карманные деньги, надеясь, что хотя бы обычные развлечения развеют его постоянную печаль. Поскольку у него были деньги, Чуоча легко стал для своих новых товарищей «сердечным другом» и они быстро пристрастили его к спиртному.
Положение матери стало еще тяжелее. Она видела, что сын может окончательно потерять себя. Однажды, когда Ади пришел навестить ее, она поделилась с ним тревогой за Чуочу. Тот поступил так, как обычно поступал их отец: избил Чуочу. После этого Чуоча не только не бросил пить, но и стал пропадать ночами. Поэтому мать скрывала это от Ади, боясь, что тот снова займется рукоприкладством.
Однажды Чуоча пришел домой вовремя, трезвый и, к удивлению матери, улыбающийся и просветленный. Довольно долго он не расскрывал, что у него на душе. Одной из основных черт его характера была застенчивость, которая проявлялась у него к месту и не к месту. Наконец он сказал:
– Мама, я хочу жениться.
– Ой, как хорошо, я уже состарилась и одна не могу управиться по хозяйству! – радостно засуетилась мать.
– Только вот… только вот… – снова попытался заговорить сын.
– Не знаю, ни твоего, ни своего «только», но мою невестку нужно привезти завтра же!
Ах, как обрадовалась мать этому известию! Ни разу от души не улыбнувшаяся на протяжении многих лет, она теперь откровенно радовалась: ее любимый сын женится, забудет о выпивке, черные мысли навсегда оставят его, у нее будет хорошая невестка, а потом – внуки…
– Вот только она не чеченка, мама. Ее зовут Эльза, – тихо сказал Чуоча.
С этими словами радость матери исчезла без следа. Глаза наполнились слезами. «Как можно жениться на христианке?» – мелькнула первая мысль. Однако, подавляя ее, в сознании выросла другая мысль: «Какая разница – христианка она или мусульманка, если у нее хватило силы сделать счастливым моего сына?»
Поэтому Синеглазка не стала ни в чем упрекать Чуочу, не заявила ему: «Ты никогда не приведешь ее в мой дом», – но в сердцах спросила:
– Неужели ты не мог найти чеченку?
Чуоча, боясь, что она воспротивится его желанию, заговорил:
– Мама, если бы ты знала, какая она хорошая! Она будет делать все, что ты скажешь.
Ответ матери обрадовал его:
– Хорошо, я согласна. Если она такая хорошая, то мне все равно, какой она национальности.
С Эльзой Чуочу познакомили его товарищи в один из осенних вечеров.
Она не была похожа на девушку его единственной мечты, у нее не было длинных, опускающихся на всю спину, волос, она не носила белое традиционное платье и не могла увести его туда – в страну веселья и радости. Она носила короткую юбку, кофту с короткими рукавами и коротко стригла волосы. Тем не менее он влюбился в нее. Благодаря ей, для него открылись новые, доселе ему неизвестные стороны жизни. Чуоче казалось, что в этом огромном мире нет больше другой девушки, которой он мог бы понравиться. Поэтому он был готов на все, чтобы жениться на ней.
В тот же день, получив согласие матери, Чуоча направился к Эльзе.
– Эльза, выходи за меня, – сказал он.
Та, сперва удивившись его словам, а потом, поняв, что он не шутит, ответила:
– Ты больше ничего не хочешь, Чуче… Я не собираюсь тебе детей рожать… И потом, я завтра в Сочи уезжаю.
Чуоча ушел, не сказав больше ни слова. Он сразу вспомнил свою искалеченную руку, так и не оконченную школу, уродство своего лица… Он был уверен, что именно этим объясняется отказ девушки. Между тем, девушка даже и не думала о его недостатках. Прежде всего, она просто еще и не думала всерьез о замужестве. И потом, если бы Чуоча проявил настойчивость, возможно, она и согласилась бы. Но он не сделал этого. Он и так считал себя самым несчастным и самым обездоленным в мире. Отказ девушки только укрепил его в этом мнении. Он не знал, что есть люди, лишившиеся ног, зрения, прикованные к постели – нашедшие в себе силы пережить беду и приносить пользу не только себе, но и людям. Наконец, он не замечал, с каким трудом мать поддерживала его раньше и поддерживает теперь. Он видел только себя… Поэтому пьянствовал сутками, пытаясь заглушить свою боль. Когда у него заканчивались деньги, вымогал их у матери, угрожая, что в противном случае пойдет попрошайничать по базару.
Так прошло несколько месяцев. Однажды мать твердо решила не давать ему больше денег на водку.
– Именем Бога, именем твоего устаза заклинаю тебя – купи мне водки! – обливаясь слезами и скрежеща зубами, нечеловеческим голосом умолял сын.
Однако мать стояла на своем. Тогда, схватив со стола нож, он упал навзничь, словно под ним подрубили ноги, приставил нож к своему горлу и закричал:
– Мама, Богом клянусь, зарежу себя, если ты не пойдешь в магазин!
Мать увидела безумные, пугающе незнакомые глаза своего сына. На секунду она представила его лежащим в крови с перерезанным горлом.
– Прекрати, я пойду в магазин, – забрав у него нож, она быстро вышла из дома.
Она почти бежала, обливаясь слезами и почти ничего не видя вокруг. Она не увидела быстро приближающийся трамвай, не услышала тревожный звонок, когда слишком близко подошла к трамвайным путям. Она оказалась перед трамваем. Потом… Потом прекратились все ее беды, тревоги и ожидания – все прекратилось…
Сосед, узнавший в погибшей женщине его мать, привел Чуочу к остановившемуся трамваю и столпившимся вокруг людям. Там он и увидел свою мать, окровавленную и буквально перерезанную. Он застыл. Какое-то время его сознание и сердце оставались пустыми, без единой мысли или чувства, только отяжелели, как камень. Затем, как вышедшая из берегов река, на него обрушились мысли, крики, голоса, образы, тоска, тревога, раскаяние…
«Мама… Как?.. Что я буду делать?.. Я же не был таким… О-о Боже! Сделай так, чтобы этого не было! Но это правда… Правда… Что мне делать? О-о мама, о-о мама!.. Врачи… Опоздали!.. Как?! Я же не был таким, я… ты… так… я… ты… Избейте меня…Мама, мама, что мне делать?.. Я мучил тебя… Я… ни разу не сделал тебе ничего хорошего… мама… Я не успел… Что мне делать?.. Я… мне… я тебя… ты?..»
Все это произошло в десятую долю секунды. А потом с его и без того болезненным сознанием случилось нечто непоправимое. Он жутко закричал, привлекая к себе всеобщее внимание:
– О-о, хо-хо-хо…
С этого времени его и прозвали «сумасшедшим», с этого времени он и бродит по базару…
Осеннее утро. Бегают по своим делам люди, вставшие с рассветом. Город просыпается, а вместе с ним и рынок. На базарной площади продавцы расхваливают покупателям товар, выставленный на прилавках: «Помидоры, хорошие помидоры», «Попробуйте яблоки «Джонатан», «Купите апельсины».
Начали открываться небольшие бакалейные магазины и мастерские.
Ожидающий клиентов сапожник обратился к своему товарищу:
– Что-то наш друг задерживается сегодня.
– Какой еще друг?
– Да я говорю об этом сумасшедшем.
– А-а, не беспокойся, он появится.
Словно подтверждая его слова, через открытые ворота на рынок вошел среднего роста, очень сутулый человек, его рубашка на груди была мокрой от обильной слюны.
– Мама, прости меня! – закричал он.
1977.
Перевод Э. Хасмагомадова.
В пути
Молодой человек Говда возвращался из армии в отпуск с сержантскими погонами на плечах. Заканчивались последние дни января. Безостановочно шел снег. В далеком горном районе, занесенном снегом, в восьми километрах от автобусного маршрута лежало село Говды, и теперь, зимой, тем более нельзя было надеяться, что попадется попутная машина. К тому же пританцовывавший на автостанции от холода Говда не знал, придет ли последний автобус до райцентра, потому что этого не знал и диспетчер. Тем не менее он не ушел ночевать к знакомым, надеясь сегодня же добраться до дома, чтобы обрадовать близких.
Наконец, когда он, прихватив чемодан и сумку, уже направлялся к диспетчеру с тем же вопросом, из репродуктора донеслось: «Желающие выехать автобусом до села Ш. могут приобрести билеты в кассе».
Обрадовавшись, словно уже добрался до дома, он быстро направился покупать билет. Автобус тронулся без задержки.
Битый час машина колесила по заснеженным дорогам, и перед последним селом Говда с чемоданом и сумкой направился вперед к выходу. Сидевший впереди пожилой мужчина обратился к нему:
– Сынок, поедем с нами, переночуешь, а утром пойдешь в свое село.
– Да придет к вам только добро, дедушка, я все-таки выйду, – ответил Говда и, засмеявшись, добавил:
– Знаете, как обрадуются мои домашние.
– Конечно, знаю, а предлагаю это, потому что погода уж очень суровая, – погладил свою бороду старик. Сидевший рядом мужчина возразил:
– Перестань, Кахим, в его возрасте мы частенько ходили и по более суровым горам.
Водитель остановил автобус у поворота, ведущего к селу Варша-Юрт. Говда со словами:
– Счастливой вам дороги, – вышел.
Метель сразу же приняла его в свои объятия. Хотя ночь была темной, благодаря выпавшему снегу, можно было различить дорогу, идущую от Аргуна вверх в гору.
Запустив руку за пазуху, Говда достал сигарету и закурил. Затянувшись, взял в одну руку чемодан и, только тронулся в путь, как услышал вой, холодный, как снежная буря. Потом еще, еще и еще.
– Волки…
«Да сгорите вы синим пламенем! Что же теперь делать? Возвращаться нельзя. Скорее всего, сразу же за Аргуном они меня и окружат, – размышлял Говда. – Да и что толку возвращаться? В это время машин все равно не бывает».
Размышляя таким образом, он медленно побрел по дороге, ведущей к селу.
Жаркое лето. Кружатся желтые бабочки. Болото. Громко крича, лягушка идет прямо в пасть к змее.
Неизвестно почему, но Говда вспомнил именно эту картину, однажды уведенную давно, еще в детстве.
«Почему я вдруг вспомнил об этом?» – подумал он, остановившись.
Затем, подавляя страх, вслух сказал: «Возможно, волки далеко, а вой их доносит сюда ветер».
Поужинав, семья готовится отойти ко сну: пожилого возраста родители, дочь лет пятнадцати-шестнадцати и сын, которому не больше семи-восьми лет. Пока дочь стелит постель, отец кладет в очаг большую колоду, чтобы комната не остыла за ночь. Сейчас мать выйдет в коридор, закроет щеколду, и они улягутся спать. В это время скрипнет в коридоре дверь, потом послышится топанье ног, сбивающих снег с обуви. Выскочившие в коридор домашние горячо обнимут и поведут в комнату сына, вернувшегося из армии. Все удивлены и обрадованы. Мать быстро разводит огонь, а сестра вновь собирает постель. Младший братишка тем временем снимает с его кителя значки, тут же прикрепляя их к своей рубашке.
Затем отец, гордо сев на почетное место, спросит:
– Рассказывай, сын, какими путями…
Он прошел примерно полкилометра вверх по дороге, вьющейся вдоль Аргуна, настолько зачарованный представившейся ему картиной, что забыл про волков. Какое-то время их действительно не было слышно. «Они боятся людей больше, чем люди их», – ободренный этой мыслью, Говда ускорил шаг. Однако, когда дорога, круто идущая вверх, выбралась на более-менее ровное место, волчий вой раздался так близко и так громко, что испуганный Говда выронил в снег чемодан. Затем, снова подхватив его, изо всех сил помчался вверх по дороге. Он не успел еще далеко отбежать, когда пришлось повернуть назад, так как впереди мелькнул волчий оскал и отчетливо послышалось клацанье зубов; однако волчий вой, сразу же раздавшийся сзади, буквально пригвоздил его к одному месту. «Окружают!» – эта мысль закралась в сердце. Но он еще не хотел в это верить. Оглянувшись вокруг, он различил силуэты нескольких волков, отчетливо выделявшиеся на белом снегу. В темноте горели их глаза. «Горят, как раскаленные угли», – мелькнуло у него в голове еще до того, как он огласил лежащие вокруг леса отчаянным криком:
– А-а-а!
Хотя кричал он изо всех сил, крик его не долетел до людского жилья: мчащиеся навстречу ветер и буря отбросили его назад и, смешав с шумом Аргуна, погасили. «Не хватало только погибнуть из-за них», – мелькнуло в глубине его сознания. «Надо что-то делать, звать на помощь», – вслед за первой мелькнула вторая мысль.
– А-а, помогите, помогите…
Волков его крики ничуть не смутили. Эта стая уже несколько дней ничего не ела, если не считать увязшей в глубоком снегу косули, которую они добыли четыре дня назад. Голод заглушил в волках обычный страх перед людьми. Стоящий перед ними человек (живое существо, ходящее на двух ногах) был только едой. Поэтому они намеревались как можно быстрее наполнить едой свое нутро, терзаемое голодом.
Говда все еще не верил происходящему, но прежнее оцепенение уже прошло, и теперь он лихорадочно думал, что предпринять.
«Еще съедят чего доброго! Оказывается, те слухи о парне, которого волки съели подчистую, оставив только ноги в сапогах, – были правдой. Раньше это воспринималось как сказка: «Откуда, как это возможно, чтобы волки съели человека? Этого не может быть!» Рассказывали, что вместо тела в могилу положили ноги того парня, оставшиеся несъеденными… Сейчас они доберутся до меня – эх, автомата нет… Я бы из вас сито сделал. Круг сжимается… Что делать?.. И дерева нет поблизости, чтобы взобраться на него».
Деревья-то были, только далеко, примерно в ста-ста пятидесяти метрах. Там росла огромная лесная груша, а за ней начинался лес. Говда не догадался при появлении первого волка сразу же броситься в ту сторону и взобраться на грушу. Теперь уже было поздно, так как груша осталась за пределами образованного волками кольца.
«Что делать? – зубы его громко стучали. – Надо развести огонь! Из чего? Да из вещей, что лежат в чемодане!.. А что делать, когда они сгорят? Потом придумаю что-нибудь. Что именно? Да какая разница, придумаю что-нибудь, когда придет время. А если не придет, тогда что? Ничего… Плачем делу не поможешь. Надо искать выход… Но прежде надо поджечь свое барахло».
Открыв чемодан, он зажигалкой поджег находившиеся в нем вещи. Порыв ветра едва не задул огонь, вспыхнувший от рубашки, которую он купил своему брату (спереди на ней было изображение двух прославленных борцов), но огонь быстро окреп под ветром и перекинулся на другие вещи из чемодана. За освещенным огнем местом – черная мгла, в которой мелькали волчьи глаза. Они и не собирались уходить. Правда, огонь все же задержал их, на некоторое время отложив «пир». «Огонь не будет вечно гореть, он погаснет, и тогда…» Что будет тогда, можно было понять по сверканию глаз, смотревших на него из темноты. Говда стоял возле самого огня, часто вглядываясь в сверкавшие вокруг глаза. «Эх, нет автомата, уж я бы… Хотя бы ружье было…»
Обливаясь потом, он лежит в постели с температурой почти в сорок градусов. Перед ним встают разные образы. Какими странными были эти сны… Большой, просто огромный ком сливочного масла, и он растет, растет, растет… По мере его роста Говде все труднее дышать. Наконец ком масла превратился в его голову, и теперь она растет, растет. Стала больше его самого. (Рассказывают, однажды, в священную ночь, некая женщина взмолилась, чтобы у ее сына, родившегося с неестественно маленькой головкой, голова стала больше. И тогда она выросла больше его самого…). У него тоже голова тогда стала в два-три раза больше его самого… Сам он был ростом с палец. Зато голова увеличивалась в размерах едва ли не с земной шар. Хотя так не должно было быть.
– Мама! Ма-а-ма! – он немного пришел в себя. Мать стояла рядом, положив руку на его лоб. Краем платка она вытирала слезы, льющиеся по его щекам.
– Мама. О-о ма-а-ма, – кричит он, потому что ему кажется, что она очень далеко.
– Говори, я же рядом, – произносит она.
– Мама, есть нечто, что убивает меня…
– Что это такое? – спрашивает мать.
– Нечто огромное, огромное…
– Посмотри, Говда, – это говорит уже отец, оказывается, он тоже стоит рядом. – Смотри, сейчас я сожгу эту вещь.
И, действительно, он поджигает что-то. Но это нечто вдруг превращается в старшего брата Махмуда.
– Не жги его, – стонет он.
– Кого? – спрашивает кто-то. (Чей это был голос?)
– Это же не Махмуд, это Бука…
– Вон та, большая такая?
– Да…
– Сожгите ее…
Она горит. Слабеющий огонь гаснет…
«Это мой костер гаснет… И волки соскучились по своей еде. Да уж, красиво получается: я, Говда, сын Соадулы, сына Абы из Варш-Юрта, сержант танковых войск, должен стать едой для этих волков, для этих диких зверей. Почему?.. Этого не должно быть! Нет? Но получается, что и пожаловаться некому. Здесь все сводится к одному: голодный и сильный съедает слабого».
Светлые классы. Покрытые белой известью стены. Парты пахнут свежей краской. Учительница:
– Это А, это Б. Вот это парта, а это – стена…
Девочке, сидящей за первой партой, очень хорошо известно, что это парта, а вот это – стена… Какой красивый у нее бант! Все это мне тоже хорошо известно. И все-таки, красивый у нее бант. И обувь у нее похожа на мою.
Мы идем на экскурсию. Дай сюда горн. Не дашь? Конечно, отдашь. Учительница говорит, что его отдадут тому, кто сыграет лучше других. А лучше всех сыграю я. И сыграл. Я иду впереди, играя на горне. Лес наполнился песнями. Множество цветов. Мы играем в разные игры. Мы играем в «Невесту Солнца». «Невестой Солнца» выбрали ту девочку с красивым бантом. Теперь все мальчики должны дарить ей цветы. Затем она выберет одного, с которым и заговорит. Потом все будут танцевать и петь вокруг Невесты Солнца и ее избранника, осыпая их цветами.
«Тогда та девочка выбрала меня среди всех. Совсем как эти волки сегодня. Что бы они делали, если бы я остался ночевать в городе? Подохли с голоду? А вот если бы я поехал дальше, в село Ш… Ничего не происходит просто так, ему обязательно предшествует какое-то событие.
Когда отец сжег Буку, казалось, в мире не останется жестокости. Тогда у меня прошел жар, я вновь почувствовал вкус жизни и поправился. А теперь эти волки…»
Костер горел неровно, то слабея, то вновь вспыхивая. Когда он слабел или склонялся под ветром, в глазах, окружающих его, вспыхивала радость и волки, рыча, начинали медленно приближаться. Однако в это время огонь вспыхивал с новой силой, и тогда волки вновь отступали на прежнее расстояние.
Наряду с самыми важнейшими событиями своей жизни, Говда вспоминал также самые мелкие и незначительные. Когда он вспомнил умершего старшего брата, ему представилось, как он, еще совсем маленький, наигравшись в мяч, разгоряченный и томимый жаждой, со всего размаха упал на землю и пил воду из озерка, он словно заново ощутил болотный привкус той воды.
«Махмуд… Ты умер в более старшем возрасте, чем я сейчас. Не хотелось верить, что ты умер. Ты хорошо учился в школе, а затем и в институте, вот только голова у тебя часто болела. Мама все время твердила: «Махмуд, не читай много… книг, поэтому у тебя голова болит». Махмуд, мне это все безразлично. Вот только домашних жаль. Врачи сказали, что ты умер от кровоизлияния в мозг…»
Окончив восьмой класс, мы готовимся к экзаменам. Учительница по литературе (эх, журавли, журавли… в голубом небе каждую весну и осень…) дала всем задание написать сочинение на тему: «Кем я хочу быть». Я написал: «Хочу быть строителем, строить высокие дома. А по завершении строительства я зайду во все квартиры, покажу новоселам их новое жилье, пожелаю всем счастья и благополучия…»
А та девочка написала: «Хочу стать киноактрисой». Но написать мало, нужно еще стать ею. Она не стала актрисой, а когда я в Ш.-Юрте учился в десятом классе, она вышла замуж. Я не винил ее. Я ведь ничего не сказал ей о своих мыслях и чувствах. Чтобы тебя поняли, недостаточно только краснеть при каждой встрече. Необходимо объясниться, объясниться наяву, а не во сне.
«А тогда – о-о эти весенние ночи… порывы ветра… прояснившийся после дождя край горизонта… – не так уж и переживал я по поводу того, что она вышла замуж. Потому что в десятом классе появилась девочка с длинными косами и голубыми глазами. Сейчас она в каком-то институте. И я буду там же учиться…
Буду?! Ты же еда для волков!
Много раз мать твердила мне, когда я учился в интернате: «Больше не приходи ночью домой, когда-нибудь зверье наткнется на тебя». И все-таки я приходил. Сердце громко стучало в груди. Зверья боялся, хотя бы и скрытого за семью горами. А оно, зверье, оказывается, ходило вот здесь.
Я обещал привезти «Вайнах»[1] … Домашние, наверное, ждали меня со дня на день.
Раскинулась широкая равнина. Танковые учения. Первые в моей жизни. Тогда я прекрасно положил в цель снаряды. Ни один из «врагов» не спасся. Со дня творения люди суетятся, придумывая разные способы, как бы уничтожить своих «врагов». И тем не менее враги никогда не заканчиваются. На Хиросиму сбросили бомбу небывалой мощи. Летом ходил пасти скот, какое сухое стояло тогда лето… Весной в лесу бывает так много земляники. А современные бомбы, говорят, мощнее раз в сто. Они способны уничтожить не только человечество, но и землю. Что тогда будет? Без людей, без земли? Летом в лесу всегда бывает ежевика. Какой холодной была вода, даже зубы заболели… Что же было до людей и до того, как появилась земля? Ах, эти журавли, журавли… в голубом небе, каждую весну и осень…
Кому бы пришло в голову, что я умру именно так? Где люди пили брагу, нарт-орстхоевцы2 пили расплавленную медь. Обладай я такой же силой, уж я бы вам показал. Я бы этого хилого волка, схватив за хвост, забросил к подножию вон той горы. Узнал бы ты тогда, как на людей нападать. Хорошо бы шапку-невидимку иметь. Я бы ушел, надев ее. Вот тогда бы они побегали тут, скрежеща зубами от досады. Хотя нет, они бы почуяли мой запах. Лучше иметь волшебную дудочку, навевающую на всех сон… Славный Боже, великий Боже, избавь меня от этой напасти. Этот старик с длинной бородой говорил, что никто не умрет до назначенного ему срока. А если мое время истекло? О великий Боже, сделай так, чтобы время мое еще не пришло. Сейчас я обращусь к святым, чтобы они попросили для меня помощи у Бога. Я не забыл, мама, молитвы и аяты, которым ты научила меня…
Сгорела рубашка, предназначенная для Султана. Сгорела. Осенью, в туманный день, шли собирать лесные шишки. Сгорел нейлоновый платок, приготовленный для Йиситы. Как многозначительно улыбалась продавщица, когда я покупал его. Она думала, что я покупаю его не для сестры, а для кого-то другого. Но и подарок, предназначенный для той, другой, тоже сгорел. А парень-то собирался не позднее, чем завтра, встретиться с тобой у родника».
Ту, другую, звали Эниса, в том году она окончила восемь классов, а теперь ей исполнилось семнадцать лет. Говда обратил на нее внимание только за неделю до того, как уйти в армию. Ее семья жила на краю села, там, где начинался лес. Он шел в лес нарезать хворостин для плетня, и увидел, как она в своем дворе развешивает выстиранное белье. Увидел как-то странно, как не видел никогда прежде. Она стояла к нему спиной. Когда она распрямлялась, чтобы повесить рубашку или другую вещь, красота ее тела становилась еще более очевидной. Тонкая талия казалась еще тоньше, а волосы каждый раз, когда она нагибалась, чтобы взять новую вещь, колыхались на легком ветру, словно пушинки.
Вначале Говда решил, что это приехавшая откуда-то гостья. Но, когда она обернулась, он ее узнал, как и она его. Поняв, что он обратил на нее внимание, она покраснела и ушла. И Говда в этот вечер пошел домой. Но за неделю, оставшуюся до ухода в армию, он развернул бурную деятельность: взял с девушки слово, что она будет ждать его возвращения домой.
«Теперь ей очень долго придется ждать моего возвращения. Еще упрекала меня, что редко пишу. А ведь каждую неделю по одному письму отсылал. Она же мои письма берегла. И никому не показывала.
Почему наша жизнь не похожа на сказку? Если сегодня мне суждено погибнуть – кости-то мои все равно остались бы – завтра брызнули бы на них живой водой и я ожил. «Эх, как долго я спал», – вот с этими словами и встал бы. А вокруг стоят отец, мать, Йисита, Султан… да, и она тоже.
Кажется, я готов поверить в сказку. Просто красота. Ха-ха-ха. Ах, эти журавли в голубом небе… осенью и весной…
Почему я не нарт-орстхоевец? Почему я не герой? Да все потому же. И почему волки не овцы?!»
В этот момент на место, где стоял Говда, попал свет от фар машины, что ехала вниз по дороге, ведущей в город.
– Эй, возьмите меня! – завопил Говда.
Но на повороте машина свернула, и свет исчез еще до того, как он успел закричать. Этот свет только увеличил его желание жить. Жизнь приближалась к концу, но ему она казалась чем-то самым желанным (как выбившемуся из сил пловцу совсем рядом видится остров, покрытый деревьями, фруктами и ягодами). Для него это так и было теперь.
– Вы же не насытитесь мной, а я хочу жить, хочу жить…
Огонь слабел и вот-вот должен был погаснуть. Тогда он открыл сумку и достал оттуда дубленку. Она предназначалась отцу, который специально прислал ему денег. Говда долго размышлял – бросить ее в огонь или нет. Если бросить – это может продлить ему жизнь. А если нет, то завтра люди найдут здесь сумку с дубленкой. Наконец, он решил: «Кто знает, вдруг за то время, что она будет гореть, что-нибудь произойдет…»
«Я мечтал жить с Энисой в восточной комнате. Теперь этому конец… Все с тобой ясно теперь, Говда. Ха-ха-ха. Твои родители испытали много трудностей. А ты ничего не испытал. Они пережили голод. Трудные годы войны. Они преодолели все трудности. Я же ничего не преодолел. Теперь конец… теперь конец. Какая разница, что ты пережил, конец-то всегда один. Ах, эти журавли… журавли… в голубом небе… осенью и весной… Есть все-таки разница. Великое счастье умереть за любое большое дело, а не быть растерзанным здесь диким зверьем. Погибнуть вот так вот, стать жратвой для волков… не имея могилы… так, что даже трупа не останется – только две ноги в сапогах. Да уж, хорошенькое дело! Эниса… Может, оставить записку для нее?»
Затянутое мглой лето. Лес. Он идет по лесу с ружьем за спиной. Неподалеку дом Энисы, он покажется сразу же, как закончится лес. Но перед этим хорошо бы воды попить. Из того водопада, что срывается с обрыва.
Она купается под водопадом, там, где струи воды падают на гладкие камни. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву деревьев, отражаются в каплях воды на ее теле. Сверкает на солнце водяная пыль вокруг водопада. Она думает, что ее видят только склоны гор, лес, поросший на них, и солнце, пробивающееся сквозь листву. Время от времени она становится под водопад, как будто хочет его ледяными струями остудить жар своего тела.
Казалось, среди темной ночи в глаза ему ударил яркий электрический свет. И, хотя ноги не слушаются его, он быстро уходит, оставшись незамеченным.
«Зачем оставлять ей записку? Вспоминает ли она обо мне? И зачем мне, чтобы она напрасно страдала. Она должна найти свое счастье… Тем более, что я уже не смогу составить ее счастье… Как это будет? Да так и будет… Или тебя нельзя заменить?»
«Пекин хочет развязать третью мировую войну». Ах, эти журавли, журавли… в голубом небе… осенью и весной… «Днем и ночью солдат должен стоять на страже мира!..» А если начнется термоядерная война? Погибнет все живое… И что тогда?.. Да ничего. Разве случается что-нибудь без причины?.. Если бы началась такая война, эти волки погибли бы. И я. И не осталось бы людей, чтобы положить мои ноги на носилки и отнести на кладбище. Как не было бы людей, чтобы прийти на обряд поминовения по мне и исполнить там принятое в таких случаях песнопение. Когда Ахмиев Аднан на своей машине слетел в пропасть, на его надгробном памятнике изобразили машину. А что изобразят на моем? Волка… Ха-ха-ха. И как же это так получается, что я, отправившийся в армию, чтобы защищать весь мир… я, в котором 1 метр 85 сантиметров роста и 72 килограмма веса, должен стать едой для этих безмозглых диких тварей?! Говорите, значит, что хоть вы и дикие, но зато знаете, как управиться с такой «едой»?.. А знаете ли вы, что я все это тоже знаю? Говорите, что люди тоже едят подобных себе? И это правда. Говорите, что мы еще более дикие, чем вы? А вот это неправда. Люди строят дома, выращивают кукурузу, а вы можете только разрушать и жрать. И тем не менее вы утверждаете, что от вас природе нет большого вреда, а мы, люди, хотим уничтожить весь мир… Это тоже неправда. Неправда! Эти люди не из нашего рода, они из вашего рода. Хотя и ходят на двух ногах. Да, да… Вы же никогда не думаете. Говорите, мы думаем, а, подумав, уничтожаем тысячи и тысячи людей? Миллионы людей? Но это делают те, что из вашего же рода. Нет? Да. Нет? Да».
Синее-синее небо. Белые облака там, где оно касается покрытых лесом вершин. Лес украшен красно-желтой листвой. С деревьев, кружась на ветру, опадают листья, и с печальным криком летят журавли.
– И не надоедает им все время летать?
– Напротив, полет и есть их счастье.
Ах, эти журавли, журавли, в голубом небе, весной и осенью…
– Ничего у вас не получится!!! – казалось, Говда перекричит бурю и ветер.
«Я схожу с ума. С кем я говорю? С волками… Может, стоит написать матери. А потом записку спрячу в сапог. Почему меня зовут Говдой, а не Бовтой, например? Нет-нет, не нужно. Они и без записки поймут мое состояние.
Странная штука жизнь. В детстве она казалась бескрайней равниной. Казалось, времени хватит на все: играть, гулять, бродить, а когда это надоест, – работать, добиваться великих свершений, проявить доблесть. А жизнь оказалась узким коридором. Как соломинку, подхваченную бурным потоком, время несет тебя через этот коридор, и не успеешь пройти его до половины, как волки, скрывающиеся за одной из дверей, норовят пресечь твой путь… Хотя… Почему меня зовут Говда, а не Бовта? Волки все ближе, хватит ли меня на вас всех… Вон тому, самому слабому из вас, оставьте его долю, будьте вы прокляты! Если бы этот нож был чуточку длиннее. Но ничего, храбрый бьет тем, что у него есть под рукой.
И все-таки, почему мое имя Говда, а не Бовта? И что означает Говда? Меня? Но как я могу быть буквами Г, О, В, Д, А. Ха-ха-ха. Я схожу с ума. И что с того? Мне ведь уже недолго осталось. А уж волкам-то все равно, сумасшедший я или нет. Каким бы я ни был, для них я все равно только еда, пища. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не дрожи… Ах, журавли, журавли… в голубом небе осенью и весной… Эниса… делай, что хочешь… Султан, сгорела твоя рубашка… Я нарт-орстхоевец… Когда ходили за лесными шишками… почему… Хиросима… коньяк… «Вайнах»… Это тот, огромный Бука убивает меня… А-а-а… Меня зовут Говда…»
В темноте между горными склонами погас огонь. Последняя искорка. Отпущена до предела натянутая тетива семи луков – семь волков одновременно оторвались от земли.
Говда чувствует дыхание, исходящее из пастей волков. Окруженный ими со всех сторон, он вытягивает вверх руки, как будто пытается взлететь. Рот его открыт в беззвучном крике. Сейчас…
Из-за поворота, ведущего к селу, на дорогу вылетает грузовик, и мощный свет его фар останавливает волков, уже находящихся в прыжке. Но и голод, сводящий волков с ума, силен… Силен и свет… Он достигает туч… Говда стоит как раз между ними.
– Свет! Свет! Све-е-ет!!! – кричит он, перекрывая шум Аргуна и рычание волков.
1977.
[1] «Вайнах» – сорт коньяка.
2 Нарт-орстхоевцы – легендарное племя великанов из чеченского народного эпоса.
Перевод Э. Хасмагомадова.
Ореховые деревья шумят
Нет, не во сне почудились ей эти звуки. Семилетняя маленькая Лайса уже давно не спит, просто она лежит с закрытыми глазами, прислушиваясь к шуму деревьев за окном. Почувствовав тепло солнечных лучей на лице, Лайса открывает глаза, улыбается яркому утру. Но радость ее быстро гаснет – Лайса чувствует, как пришедшее неделю назад неясное беспокойство снова вернулось к ней.
Это странное чувство было у Лайсы в тот день, когда она только приехала сюда, к своей Бабе[1]. Прошло больше двух месяцев с тех пор, а Лайса и сейчас помнит, как долго она следила взглядом за маленьким желтым трактором, тяжело карабкающимся в гору. Вот он почти скрылся из виду, и у Лайсы из глаз потекли слезы: этот трактор увез ее маму, а она осталась здесь, у Бабы, на все долгое лето совсем одна – без мамы, без отца, без маленького братика Кюйри. Лайса плакала и представляла себе, как мама подъезжает к дому, а отец с маленьким Кюйри на руках встречает ее во дворе.
– Иди ко мне, Лайса, иди к своей Бабе. Если б ты знала, как я по тебе соскучилась! А твоя мама никуда не денется. Тебе понравится здесь, у нас село большое, отсюда и до города можно быстро добраться… А к вам как доберешься? Только на тракторе. Иди, девочка моя, к Бабе, сядь на колени. Ах, какая у тебя маленькая, какая красивая ножка!
Ножка, ножка, всем ножкам ножка,
Глиной запачканная ножка,
Травой вытертая ножка,
От жира заблестевшая ножка,
Ласканая-заласканая ножка,
Ягнят нежных караулившая ножка,
В танце летящая ножка,
Всем ножкам ножка…2
И Лайса, слушая тогда песенку Бабы, не выдержала, прыснула в ладошку, и грусть ее улетела прочь, словно легкое облачко.
А вечером у Лайсы уже появился приятель Асхад, он был ее ровесник и осенью тоже должен был пойти в первый класс.
Но почему-то в последние дни снова загрустила Лайса. Вот и сейчас ей хочется заплакать. Лайса встала с постели, пригладила свои непослушные, коротко постриженные волосы и вышла на веранду. Свежий утренний ветерок раскачивал ветви больших деревьев грецкого ореха, растущих у дома. «Шу-шу-шур», – шелестели листья.
Под деревянным навесом Лайса увидела Бабу, разговаривавшую с бродившими по двору курами:
– А ну кыш под навес, не то вас съест лиса! – Баба оглянулась и увидела Лайсу. – А ты, доченька, надень-ка платье, простудишься.
Но Лайса не пошла в дом. Она присела на корточки и, ежась от холода, прислушалась… Шумят деревья, будто разговаривают.
В ту первую ночь в доме Бабы Лайса спала крепко. Но на рассвете она проснулась, разбуженная шумом деревьев, и долго лежала в постели, с удивлением и страхом прислушиваясь к незнакомым звукам за окном. Лайсе казалось, что к их дому приближается гроза, а может, и настоящая буря… А вдруг буря опрокинет их дом?!
– Лайса, – услышала она ласковый голос Бабы, – ты уже проснулась?
– Баба, на улице дождик?
– Дождик? Да что ты, девочка моя! – Баба подошла к окну. – На небе ни одной тучки.
– А шум откуда?
– Это ветер раскачивает ореховые деревья.
И снова шумят деревья, подрагивая на ветру ветвями. Их причудливые тени скользят по двору. Сквозь густую листву едва пробивается солнечный свет.
– Вставай скорее, умойся и поешь, – говорит Баба, продолжая вылущивать из кукурузных початков зерна для кур. Лайса идет умываться. Умывается она тщательно, дважды моет лицо с мылом, насухо вытирается полотенцем, расчесывает волосы. И в этой комнате слышит Лайса тревожный шум орехового сада. Баба говорила, что ореховые деревья посадил вокруг дома ее отец. Он хотел, чтобы и соседи, и прохожие могли полакомиться вкусными орехами. У отца Бабы не было ни одного сына, в семье родилось шесть дочерей. Баба рассказывала Лайсе, каким искусным мастером был ее отец, как ценили люди его золотые руки: а делал отец Бабы крепкие деревянные бочки, мастерил железные печки. Благодаря отцу семья не знала нужды – в доме всегда было мясо. Баба с сестрами запрягали в сани волов и отправлялись в лес за мушмулой.3
Теперь у Бабы в живых осталась только одна сестра. Она живет за горой, в большом селе Шали. Недавно она приезжала к Бабе в гости со своим сыном – высоким усатым человеком. Они привезли много разных продуктов: мяса, конфет, вкусных булочек. Сестра Бабы совсем не похожа на Бабу: зубы у нее все целы, а у Бабы, бедной, только три зуба осталось; руки у нее были гладкие и не такие темные, как у Бабы. И говорила она как-то особенно, как та женщина, что по радио разговаривает. Недолго были у них гости: уже к вечеру, распугивая возвращающихся с пастбища коров, укатили они на красивой синей машине. Баба дала им с собой ведро орехов, зеленый лук с огорода, два кружка творога, свежесбитое масло в банке.
Лишь только их машина скрылась за горой, как Баба заплакала. Вообще, Лайса часто видела Бабу плачущей. Однажды Лайса вернулась домой от соседей, где играла с Асхадом, и застала бабушку в слезах. Она сидела на веранде, раскачиваясь из стороны в сторону, то высоко вскидывая руки, то ударяя ими по коленям. Баба громко причитала:
– Маржа!4
Лайса очень испугалась тогда, она не знала, что делать. Ей было жаль Бабу.
– Баба! Не плачь, ну, не плачь! – девочка прижалась к старой женщине, провела ладонью по ее лицу.
Так горько плакала Баба по своему погибшему сыну. Двое детей было у Бабы: ее, Лайсы, мать и сын Рамзан. Ему едва исполнилось восемнадцать лет, когда он насмерть разбился, сорвавшись на мотоцикле в пропасть. В тот страшный день с утра шел мелкий тоскливый дождь, а уже к полудню солнце палило так нещадно, что весь мир будто плавился в его обжигающих лучах. И разум Бабы, не в силах постичь происшедшее, плавился в ее горестном крике. С тех пор у Бабы часто болит голова, она плохо спит по ночам, часто стонет во сне, повторяя в беспамятстве имя сына: «Рамзан, Рамзан… Маржа, Рамзан!» Иногда она просыпается с плачем, тогда просыпается и Лайса, от страха и жалости к Бабе она тоже начинает плакать, уткнувшись лицом в подушку.
У-уф! Какая горячая кружка! Лучше перелить молоко в чашку и, дуя на него изо всех сил, потихонечку пить, еще лучше покрошить в молоко хлеб и есть ложкой, как суп. И Баба так делает.
– Эх, Лайса, мне бы твои зубы! – часто говорит Баба.
Лайса очень любит круглые чуреки из кукурузной муки, которые делает Баба. Их едят с творогом и со сметаной. А Баба иногда ест их с луком и с солью. Говорит, что так вкуснее. Странный она человек – как лук с солью может быть вкуснее творога со сметаной? Придумает тоже…
Лайса допивает молоко, надевает ситцевое платье с синими цветочками и выбегает из комнаты.
– Постой, ты поела?
– Пойду травы нарву.
– Подожди, пока роса не спадет.
– Ничего.
Лайса бежит в огород. «Шур-шур», – шумят ореховые деревья. Ветер треплет волосы Лайсы, ласкает ее лицо. Лайса вспоминает: «Баба, а что остается от человека после его смерти?» – «Душа, она превращается в ветер…»
«Значит, это сын Бабы, Рамзан, пришел к нам и растрепал мои волосы», – улыбается Лайса. Подол Лайсиного платья уже весь вымок от росы, но она все дальше и дальше забирается в кукурузные заросли и рвет мягкую траву для теленка Мимши. У Бабы, кроме Мимши, есть еще корова Деба и телочка Чама. Баба выгоняет Чаму в стадо, и она пасется на лугу. Деба и Мимши остаются дома. Дебу кормит Баба, а Лайса рвет траву для Мимши. Корове дают траву, которую Баба косит серпом, зеленые кукурузные стебли, чуть подгнившие яблоки, нападавшие в саду. Через две недели корову должны зарезать, а мясо раздадут людям. Баба говорит, что все отданное людям безвозмездно обязательно дойдет и до ее сына. А бедная Деба и не догадывается, для чего ее откармливают, – ест все, что ей приносят. А вот Мимши, если не накормить его вовремя, начинает просяще мычать.
– Лайса, неси скорее свою траву, слышишь, как Мимши орет?! Пузо у него прям разорвалось….
«Зачем ему тогда трава, если пузо разорвалось?» – недоумевает Лайса.
Бабушка рассказывала, что мать их Дебы, крупную белую корову, тоже звали Дебой и она давала очень много молока. Ее унесла стремительная речка, разбухшая от многодневного ливня. В те дни весь небесный океан, казалось, решил опрокинуться на землю. Грохот водных потоков перекрывал все звуки. В оврагах, где прежде не бывало и капли воды, бушевали разъяренные, как драконы, потоки. Они неслись к реке, превратившейся в стремительный водяной вихрь. Он-то и поглотил Дебу. На другой день, когда все стихло, ее нашли внизу, у водяной мельницы.
Когда Лайса только приехала сюда, во дворе у Бабы жил большой белый пес Турпал. Сперва она побаивалась его, обходила стороной, но скоро они подружились, и Лайса смело выносила Турпалу похлебку, а он благодарно терся влажным носом о ее ноги.
А однажды утром Баба и Лайса услышали жалобный вой Турпала. Они нашли пса на взгорке, у края леса. Турпал хрипел и беспомощно сучил лапами, брюхо у него было распорото, на шерсти запеклась темная кровь.
Баба долго смотрела на собаку, потом выговорила будто через силу:
– Это кабан его так… Лучше б я не выпускала Турпала этой ночью. Хотя от своей судьбы никто не уйдет… Жаль, хороший был пес, верный, – Баба наклонилась к Турпалу – хотела хоть как-то облегчить его страдания, но пес легонько – на большее у него не было сил – укусил руку Бабы. До ночи промучился Турпал, а ночью умер.
С кем же теперь останется Баба, когда она, Лайса, уедет домой?! Мама обещала приехать за ней в день телочки.5 Скоро Лайсе идти в школу – в первый класс. В прошлом году она ходила в нулевой класс. Хотя класс-то у них был какой-то ненастоящий – всего семь человек. Но все равно Лайса лучше всех читала по букварю, да и писать научилась быстро. Правда, Аслан писал лучше.
За то время, что Лайса живет у бабушки, ее дважды навещал отец. Баба передавала с ним подарки – один раз послала штанишки и рубашку для маленького Кюйри, в другой раз – масло, творог и курицу.
Однажды, это было вскоре после отъезда отца, Лайса случайно услышала, как Баба говорила соседке Самарт:
– Не могут они жить как люди… И когда он только за ум возьмется – видно, водка ему дороже всего в жизни!
– Ну а ты что можешь сделать?! Не будешь ведь всю жизнь им помогать.
– Да какая это помощь… – горестно вздохнула Баба.
Лайса до сих пор помнит этот разговор. Очень огорчили ее тогда бабушкины слова: не так уж часто отец выпивает.
Лайса тряхнула головой, чтобы отогнать от себя грустные мысли. Она положила перед Мимши свежую траву и подошла к Бабе, месившей глину. Баба собиралась штукатурить новый курятник, который поставила в это лето с помощью старика соседа из дома с железной крышей.
Баба перестает месить и спрашивает у Лайсы:
– Ну что, кончила свои дела?
– Да. А можно мне тоже месить вместе с тобой?
– Нет, я и сама справлюсь. А ты лучше-ка пойди собери орехи да покричи погромче «ку-вай»6, чтобы ястреб не кружил над нашим двором.
Лайса послушно кивает головой, берет синее пластмассовое ведро и начинает собирать орехи, нападавшие под деревьями.
«Почему это братика назвали Кюйри.7 Ведь коршун плохой и злой, он ворует цыплят. А их Кюйри такой маленький, добрый, он все время улыбается. И ручки, и ножки у него такие маленькие, розовые. А коршун ceрый…». Скоро Лайса увидит своего брата, скоро она уедет домой – в свое село, пойдет там в школу. Их учительница Тоита Хамидовна опять будет говорить:
– Это стена, а это печь. Это ручка, а это карандаш…
Вот смешная! Кто ж этого не знает?! Лайса теперь сама читать умеет. Однажды даже читала письмо мамы, которое она прислала Бабе. Правда, по-письменному читать было трудно, Баба ей немного помогала, зато Лайса выучила письмо наизусть:
«Со сладким приветом к вам. Как вы там вдвоем живете? Не скучает ли Лайса, не плачет ли она? Нана, пришли нам два кило манки, две соски, колготки для Кюйри – три пары, стаканы, если будут в магазине, купи шесть штук, и еще масло, если есть. Здесь в магазине ничего нету. Мама, как твое здоровье? Мы живем хорошо, Махмуд не пьет уже две недели. Скажи Лайсе, чтобы не скучала. Братишка шлет ей привет. Это его рука».
На обратной стороне листа зеленым карандашом была обведена ручка Кюйри. Лайса приложила свою руку к бумаге. Ее ладошка целиком накрыла зеленый контур, конечно, ее рука гораздо больше маленькой ручки брата.
Лайса представила себе, как она посадит Кюйри к себе на колени, когда вернется домой, возьмет в руки его ножку и запоет:
Ножка, ножка, всем ножкам ножка,
Глиной запачканная ножка…
А что же будет с Бабой, когда она уедет?! Кто будет разговаривать с ней, кто пожалеет ее и скажет «не плачь»?! Ведь когда она долго плачет, у нее «голова раскалывается»…
Как было бы здорово, если бы нана, дада и Кюйри приехали жить сюда, к бабушке! Как хорошо зажили бы они все вместе! Мама-то очень хочет этого, а вот дада…
«Нет уж! Хотите, чтобы люди говорили, что Махмуд вышел замуж, чтобы смеялись надо мной?!» – почему дада так говорит? Разве мужчина может выйти замуж? Интересно, через сколько дней приедет мама?.. Надо спросить у Бабы. Баба уже купила для Лайсы школьную форму, красивый белый фартук, портфель, тетради, учебники для первого класса, красные туфельки. Баба с Лайсой часто рассматривают обновки, и Баба говорит:
– Самой красивой будет моя девочка…
Лайса радостно смеется, улыбается и Баба, глядя на нее. Когда наступит день отъезда, Лайса позовет свою подружку – соседскую девочку Маржан – и они вместе пойдут за водой. Дома у Лайсы есть игрушечные зеленые ведра с цветочками… Может быть, сказать Маржан, что она уезжает не к себе в аул, а в город? Нет, наверное, не стоит придумывать.
Так проходили дни: день за днем, день за днем, похожие один на другой. Целый день они с Бабой хлопочут, вот скоро новая работа начнется – сбор фасоли. Бабушка часто говорит: «Если б не работа, меня бы давно уже не было…» А Лайса спокойно прожила бы безо всякой работы, только было бы с кем играть. А здесь, у Бабы, с кем поиграешь?.. С Маржан они видятся редко, а с Асхадом играть неинтересно, хотя они и ровесники. И вообще – он даже читать не умеет, а еще ругается нехорошими словами. Отец Асхада, человек с большим красным носом, всегда ходит в черной кожаной куртке и говорит резким, пронзительным голосом. Это он заставляет Асхада говорить гостям плохие слова.
– А ну, Асхад, выдай! – говорит отец Асхада и первым громко смеется над сказанными словами.
Вот уже наполнилось ведро. Лайса выпрямилась, потянулась. Это она только первое ведро орехов собрала, а надо еще три. Баба норму установила – по четыре ведра орехов в день.
…Вечереет. Солнце клонится к темной горе, поросшей лесом. Прохлада разливается в воздухе. Возвращается в село стадо, мычат коровы, слышатся крики пастуха. В ближнем болоте начали свой вечерний концерт лягушки…
– Ква, ква, ква, – смеясь, повторяет за лягушками Лайса.
– Перестань, – недовольно говорит бабушка. – Лучше посмотри, не идет ли наша Чама.
Лайса выходит на дорогу.
– Чама, Чама, – зовет она.
– Хорошая хозяюшка растет, тьфу-тьфу, не сглазить, – обняла Лайсу за плечи соседка – старая Самарт, тоже вышедшая встречать стадо. – Придет ваша Чама, никуда не денется.
Скоро Лайса, подгоняя Чаму, возвращается во двор. Вкусно пахнет поджаренной мукой – это бабушка на веранде делает чепалгаш.
– Загони Чаму и иди ко мне, – говорит Лайсе Баба.
– Отнесешь чепалгаш соседям и сразу возвращайся.
Лайса вспомнила, какой завтра день, – пятница.8 Вот почему бабушка затеяла чепалгаш – это было любимое блюдо погибшего Рамзана, и Баба хочет угостить соседей.
С тарелкой в руке Лайса идет к соседям.
– Мелимат! – звонко кричит она.
На веранду выплывает низенькая полная женщина. Это мать Асхада Мелимат. Она раскраснелась, на ее коротком носу блестят бисеринки пота.
Лайса протягивает Мелимат тарелку и торопливо устремляется обратно.
– Постой, постой, доченька… – кричит ей вслед Мелимат.
Лайса в нерешительности оглядывается. Бабушка строго-настрого запретила ей брать ответный подарок.
– Куда же ты, Лайса… Подожди!
Лайса останавливается. Мелимат спешит к девочке и вкладывает в ее руку конфеты.
Ну, конечно, без Асхада дело не обойдется. Вот он, всхлипывая, выскочил из дома.
– Мам, и мне дай!
– Уйди ты с моих глаз! На, возьми и иди домой.
– Еще дай, – тянет Асхад материнский подол.
– Да чтоб ты больше ничего не видел, кроме этих конфет! Мало ты их съел, горе мое…
Лайса поблагодарила соседку и пошла со двора. Минуту спустя она разжала кулачок. На ладони было четыре конфеты. А если б Асхад не выскочил, было бы целых шесть, сообразила Лайса. Противный он все-таки! Как не стыдно клянчить то, что дают другим к святому дню. А как она просила рассказать Асхада про город, куда он ездил вместе со своим отцом! «Народу, – говорит, – в городе много». Да кто ж этого не знает?! Баба тоже обещает свозить Лайсу в город. Но в это лето не успеет, наверное, – ведь скоро мама заберет ее отсюда. И тогда Баба останется совсем-совсем одна и чепалгаш сама будет разносить соседям.
Лайса возвращается в дом. Баба окунает чепалгаш в кипящую воду, выкладывает на тарелку и поливает растопленным маслом.
– Баба, а скоро будет день телочки?
– Что, что? – растерянно спрашивает бабушка.
– Ну, день скотины когда будет? – уже не так уверенно повторяет Лайса.
– А, поняла наконец, – улыбнулась бабушка. – Это не день скотины, а день шинара – вторник. Не горюй, скоро уже приедет твоя мать… Немного осталось. А теперь садись за стол.
Лайса с бабушкой едят вкусные горячие чепалгаш, но грустные мысли не покидают девочку. «Как же Баба будет жить одна? Кто ей поможет загонять Чаму, рвать траву для теленка, собирать орехи, фасоль, вылущивать кукурузные зерна?! Кто скажет ей ласковое слово? А по ночам Баба опять не будет спать и только ореховые деревья будут тревожно и загадочно шуметь за ее окном. Страшно ей, наверно, будет одной…» Лайса перестает жевать. Баба удивленно смотрит на внучку, на ее полные слез глаза.
– Баба, а кто будет жить с тобой, когда я уеду?..
Тут уж и бабушка не в силах сдержать слез, она крепко прижимает к себе внучку, и обе долго плачут.
«Шу-шу-шур», – вторят их плачу деревья в саду. Наконец Баба вытирает слезы:
– Никуда я тебя не отпущу. Будем жить вместе, а к вам в село станем часто ездить. А там, глядишь, и они все переедут сюда жить, как думаешь, Лайса?
Баба берет ножку девочки в свои большие, с голубыми прожилками руки и тихо напевает:
Ножка, ножка, всем ножкам ножка,
Глиной запачканная ножка…
Лайса звонко и облегченно смеется. Смех Бабы поначалу почти не слышен, но вот уже их смех наполняет старый дом, давно не видавший такого веселья…
И за окнами дома будто слышится смех, но нет, это неумолчно шумят ореховые деревья.
1984.
[1] Баба – бабушка.
2 Чеченская народная детская песенка.
3 Мушмула – плоды дикорастущего кустарника.
4 Маржа – возглас горечи, отчаяния.
5 В чеченском языке вторник (шинара) и телка-нетель (шинара) – слова-омонимы.
6 Ку-вай – возглас, которым отгоняют хищных птиц.
7 Кюйри – коршун.
8 Пятница – священный для мусульман день.
Перевод Н. Крыловой.
Маленький дом в цветущем саду
1
Конечно, прожитых дней не воротишь, не изменишь, но все думалось: плохое сотрется из памяти, а дети вырастут и вырастет во дворе новой дом, в котором мы сумеем жить дружно и счастливо. Теплилась в душе моей надежда, и легче было встречать трудности. А трудностей хватало с лихвой. Старик мой на тракторе работал в колхозе. Зарплата маленькая, зато мог кому-то дров подвезти или сена, кому-то – огород вспахать. А сама я кукурузу сеяла да корову с телятами держала. И все было ладно, да вдруг распалось, разъехалось в разные стороны. В тот самый год, когда затеяли строительство нового дома…
Помню, дочка заявила, что напишет в газету – сердце у меня в груди заледенело. В темноте ее, дескать, держат, к домашней работе принуждают, света белого она не видит… Да слыханное ли это дело – собственных родителей позорить? А все из-за того, что на танцы ее не пустили. Да разве же это танцы? Топчутся в обнимку – стыд и смотреть… А дочка как чужая с того раза стала – не подойдет, не обнимет. Только однажды и спросила: «Что с тобой?», когда я и встать не могла – голова донимала. А я тогда уже почувствовала, что все рушится.
Старик мой – Ахмадук – ничего не хотел замечать, как одержимый рвался то за цементом, то за камнем. Все повторял: «Вот Адам придет из армии, мы дом в два счета осилим. Тогда и заживем, а, женщина?»
Я только кивала в ответ и ничего не говорила о своих сомнениях, а я ведь и за Салаха беспокоилась. Глаза у него какие-то странные стали, бегающие, не подступишься к нему, не пробьешься. Как-то сел со мной рядом, а от самого табаком пахнет. «Ты курил, сынок?» – «Нет, нана, это в клубе курили». Тогда я сказала ему: «Ты каждый вечер норовишь улизнуть из дому. Посмотри на отца, он всю душу в строительство вкладывает – минуты нет передохнуть. Для вас, для детей!» А он огрызнулся с раздражением: «А моего мнения, между прочим, никто не спрашивал. Мне и в старом доме места хватало». – «Вы должны уважать отца!» – вот и все, что я возразила, а он усмехнулся на мои слова.
И не один раз я пыталась образумить их, усовестить, говорила и с дочкой, и с сыном. Звала их обоих: «Подойдите-ка сюда. Сядьте рядом. Успеете еще, неразумные, по-своему жить, поступать, как заблагорассудится, вспомните еще, как не желали слушаться. Вы бы и о нас подумали, об отце с матерью, о брате подумайте – об Адаме. Ему-то каково? Воюет в Афганистане!»
Сердце у меня болело пуще прежнего от таких разговоров, и я посылала Падам к соседям (дочка их, Табарик, невестой нашего Адама была) узнать – нет ли им весточки от сына…
К вечеру появлялся обычно с шумом и криками Ахмадук, тут же начиналась суета, беготня, все выходили разгружать машину. Так и текли дни в хлопотах и ссорах. И редко сидели мы все вместе, разве что когда приходило долгожданное письмо от Адама.
Косые лучи заходящего солнца падают в низкие маленькие окна. Семья в сборе. Отец Ахмадук прилег на паднаре, нана Совдат присела на краешек стула, Салах стоит, прислонясь к косяку. В руках у Падам – письмо, она читает вслух:
– «Служу по-прежнему, ничего особенного здесь нет. Слухам никаким не верьте».
– Ах, горькая моя головушка, и не напишет ведь правды, – шепчет Совдат.
– «Главное – вовремя честь отдать командиру. Так что, болтунов не слушайте и за меня не тревожьтесь. Дада, как твое здоровье? Смотрите, не надрывайтесь там на строительстве нового дома. Скоро приеду, вместе со всем справимся».
– Да уж, не надрывайтесь! Как же иначе, сынок? – говорит как бы про себя Ахмадук.
– «Нана, я хочу тебя свозить в Москву, к лучшим профессорам, может, вылечат твои головные боли».
– Доживу ли до светлого дня, сынок? – Совдат качает головой, утирает платком слезы.
– «Салах, Падам! Слушайтесь родителей, берегите их!» – Падам слегка пожимает плечами, Салах отворачивается к окну.
– «Как там мои яблоньки? Наверное, подросли?»
– Срубили твои яблоньки, Адам, – говорит Салах.
– Не просто срубили, а пришлось срубить, – поправляет его Ахмадук, – раз уж начали строительство. Новые посадим. Были бы руки да желание. Ну, хватит рассиживаться, пойдемте поработаем…
– А может, довольно на сегодня? – лицо Совдат взволнованно, глаза блестят. – Уже темнеет.
Вскоре после ужина все улеглись, но долго еще беседовали меж собой старики.
– Знаешь, дети слишком много заняты на строительстве. Ты бы их почаще отпускал… Нету у них радости от нового дома. Чужие какие-то становятся, – Совдат вздохнула.
– Что значит – нету радости? Сейчас нету, пока глупы. После благодарить будут, вспомнят родителей добрым словом. Разве о нас с тобой кто-то заботился? Разве нам кто-то строил дом? Помнишь, как мучились, особенно первые два года после женитьбы. Пока на ноги встали…
– Да, – Совдат едва заметно улыбается, – ну и хозяйка я была – тесто замесить не умела…
– Со временем всему научилась. А я вот и хочу, чтоб детям нашим и на первых порах не пришлось жить в нужде. Адам вернется из армии, сразу женим его.
– Эх, головушка моя бедная, дождаться бы его!
Сгущается ночная тьма за окнами, но долго еще не спят Совдат и Ахмадук, размышляя о том, как потечет жизнь в новом доме.
2
Там, под палящим солнцем, среди чужих насторожившихся гор, мне чаще всего виделись яблони в белом цвету и сквозь них – маленький побеленный дом с чисто вымытыми окнами. Но вернулся я осенью. Небо было ясно, а воздух свеж. Еще издали я заметил, что домик наш не белили по меньшей мере с год. Я подошел к плетню и увидел самых близких мне людей. Как они изменились! Голова отца совсем поседела, а Салах и Падам стали взрослыми. Наконец, словно почувствовав взгляд, нана разогнулась и поднесла руку к глазам.
– Сын мой! Дождалась я светлого дня!
Из рук отца выпал мастерок.
– Иди сюда, парень! Покажись нам, солдат!
И я пошел им навстречу, изо всех сил пытаясь скрыть свою хромоту, но их глаза были внимательны.
– Ва-а, горе мне! – запричитала мать, но отец строго прикрикнул:
– Замолчи, женщина! Не устраивай в доме тезет,[1] как по покойнику! Сын живым вернулся!
– Рада бы не плакать, да слезы текут. Ну, здравствуй, здравствуй, сынок! Заждались мы тебя! – нана крепко обняла меня.
И хотя тот день был, пожалуй, самым светлым из всех, но и тогда радость моя омрачилась. Прямоугольник фундамента показался мне громадным, и я сказал отцу:
– Это не дом, дада, это целый дворец будет.
– Да-да, – заторопился он с ответом, – смотри: посредине – коридор, а с двух сторон по четыре комнаты. Все дело в фундаменте. Была бы основа крепкой – и дом простоит долгие годы, будет вам память о родителях.
Я огляделся. На том месте, где росли моя яблоньки, грудой были свалены камни. Отец похлопал меня по плечу:
– Не горюй, сынок. Новые посадишь – у нового дома.
Чем-то словно обманул меня этот день, и недоброе предчувствие поселилось в сердце.
Вечером я отправился к Табарик. Но наша встреча не обрадовала ее. Не знаю, в чем здесь было дело. То ли она изменилась за эти годы, то ли я повидал многое и сам стал другим человеком. И потом – моя хромота тоже не украсила меня. А вскоре Табарик вышла замуж.
Дни потекли однообразно, их поглощала работа на строительстве. И странное дело – то ли отец слишком размахнулся, то ли окончательно ушло из нашего дома чувство единой семьи, – но без всякого желания замешивали мы раствор и таскали камни.
В комнате тихо. Только будильник тикает да вздыхает нана Совдат. Наконец, она нарушает молчание:
– Где шляется этот мальчишка? Всю душу истерзал!
Адам, сидящий на паднаре, поднимает на нее глаза. Неожиданно дверь распахивается, и на пороге появляется Салах. Он неестественно оживлен и не обращает никакого внимания на мать и брата.
– Где ты был? – бросается к нему Совдат.
Но Салах в ответ лишь бессмысленно улыбается.
– Ты что? Не слышишь? – вскипает Адам. – Отвечай матери! Где ты был? – он вплотную придвигается к Салаху и внезапно отшатывается: – Ах, вот оно что! Кайф ловил? Чего ты накурился? Нана! Я таких в армии достаточно повидал! То-то глазки блестят!
Он с силой бьет Салаха, тот сползает по дверному косяку, размазывая по щекам слезы.
– Вай, горе мне, горе! Адам, оставь его, – у Совдат подгибаются ноги, и Адам уводит ее в соседнюю комнату.
– Не беспокойся, нана! Не плачь! Я попробую объяснить ему! – он бессильно сжимает кулаки.
Салах по-прежнему скулит, как щенок, сидя на корточках. Адам наклоняется к нему и говорит прямо в лицо:
– Это нужно прекратить! Прекратить, Салах! Ты превратишься в падаль! Это очень серьезно, пойми! Я уже видел таких!
Адам не был уверен – понимает ли его Салах, но старался быть убедительным:
– Будь мужчиной в конце концов. Ведь не зря же все! И дом этот, который отец затеял. Это для нас! Ты скажи мне – кто научил тебя? Кто первый дал тебе эту дрянь?
Салах поднимает голову, видно, как он пытается припомнить, наконец вздыхает:
– Нет, не помню. Я сидел как-то на окраине аула, один. Я тогда из дома собирался сбежать. Знаешь, Адам, у отца только и света в окошке, что строительство. Попробуй я уйди в кино или куда еще – дома скандал. Надоело все… Ну вот я сидел, и ребята подошли. Говорят – покури, развеешься.
– Ну и что, развеялся?
– Если честно – нет. Мутило, перед глазами – круги. А потом привык… А помнишь, Адам, как мы жили раньше, в старом доме? Помнишь, как дада делил нам мясо? Падам отворачивалась к стене, а он спрашивал – кому этот кусок? кому – этот? Однажды он показал на голую кость, а Падам сказала: «Салаху!» Как я горько плакал!
– Ах, если бы ты знал, Салах, как часто я вспоминал наш прежний дом и как мы вместе с тобой ложились спать, а я тебе рассказывал на ночь сказки. Но, Салах, обещай мне, что бросишь!
– Брошу, – говорит Салах, шмыгнув носом.
– Не думай, что это будет просто. Тебе придется сделать усилие! А мне было легко, когда я полз с раненой ногой, теряя надежду? И все же я полз, потому что помнил о вас, о матери.
Салах сидит, закрыв лицо руками, судорожно всхлипывает, повторяет:
– Я понял! Понял!
Адам наклоняется к нему:
– Ты должен бросить. А иначе – все ни к чему.
…Все было впустую. Ничего он не понял и всего через месяц после этого разговора Салах с такими же юнцами, как он сам, ограбил в городе квартиру и угодил в тюрьму.
Старый Ахмадук сидит во дворе. Приближается вечер, но он не торопится завершить дела. Руки его безвольно лежат на коленях. О чем думает он? О том, что никому не нужен оказался новый дом? О том, что весь мир ополчился против него и небо не поскупилось на несчастья? И даже дети! Дети – это как раз самое главное. Ахмадук качает головой. Они предали… Предали и оставили одного, наедине с этим огромным фундаментом. А как я хотел, чтоб и у них был настоящий дом! Ведь все вокруг настроили себе дворцов, самые худородные людишки. Вот и я соблазнился… А сколько препятствий стояло на моем пути. Да взять хотя бы Мовлу, председателя сельсовета… Никак не давал разрешения на строительство, пока я не сунул ему в лапу. Говорил мне – ты, дескать, и камня в Аргуне не оставишь. Берега илом затягиваются, река мелеет. Э-эх, люди добрые! Выходит, он приносит пользу природе, сшибая рубли с каждого встречного-поперечного! Но я не потерпел, я сказал ему то, что должен был сказать. У меня в тысячу раз больше прав, чем у него. Да это село вообще мои прадеды закладывали, а его дед Махма нанимался скот пасти, и его приютили из жалости и выдали за него хромую Сегират. Так чем же мои дети хуже детей Мовлы? Но моим детям оказался ни к чему ни дом, ни честное имя. Правду говорят: пришла беда – открывай ворота, другую встречай.
Ахмадук лежит на паднаре, Совдат возится у печи, Адам сидит на низеньком стульчике. Ушли из дома уют и согласие, тоска поселилась в нем – Салах отбывает срок.
Вдруг в дверь постучали, и Ахмадук, выглянувший в окно, с удивлением говорит:
– Мовла!.. Что ему понадобилось?
Адам выходит и возвращается с Мовлой и каким-то незнакомым молодым человеком, как выясняется позже – корреспондентом районной газеты. Усевшись, он спрашивает:
– Тамбиева Падам – ваша дочь? Я могу ее видеть?
Падам, которую позвали с улицы, слегка запыхалась, но не смутилась.
– Это твое письмо? – корреспондент вытаскивает из кармана конверт. Она кивает.
– Ва-а, Аллах, бесстыжая! – качает головой Совдат.
– Не шуми, женщина, – прикрикивает Ахмадук.
– Ты пишешь, Падам, что тебя не пускают в школу, не разрешают ходить на дискотеку. М-м… что бьют… Это правда?
– Провалиться тебе сквозь землю! – снова кричит Совдат. – Не пожалела седины нашей! Опозорила!
– Это правда? – опять спрашивает корреспондент, покачивая ногой.
– Да! – Падам раскраснелась. – Они хотят, чтоб я жила во мраке адата! А я хочу быть современной! Я люблю светомузыку. Я люблю танцевать.
– Танцевать нужно прилично. Где же стыд? – причитает Совдат.
– Э-э, хозяйка, так нельзя. Теперь не прежнее время! Ты, я вижу, и впрямь готова запереть свою дочь в четырех стенах.
– Вот именно, – подтверждает Падам.
И тут не выдерживает Ахмадук. Руки его сжимаются в кулаки, лицо наливается кровью, и он бросается к дочери:
– Бесстыжая! Как ты смеешь позорить родителей? Ну, погоди, я доберусь до тебя!
Корреспондент встает, пытаясь унять разгоревшиеся страсти.
– Постойте, не нужно так горячиться! Ваша дочь писала, что хочет учиться в культпросветучилище, хочет стать артисткой. Что же в этом плохого? Мы поможем ей, и она осуществит свою мечту. Хозяин, ты знаешь, кто такой Махмуд Эсамбаев? Да-да, известный на всю страну танцовщик! А вдруг и ваша дочь прославится, добьется успеха? Мы бы могли сейчас увезти ее в город.
– С какой стати? Свою вези, куда хочешь, а чужими детьми нечего распоряжаться, – вскакивает Ахмадук.
– И свою бы повез, если бы у нее обнаружились способности, – отвечает корреспондент.
– Вы не смеете отбирать моего ребенка! – заволновалась Совдат.
– Угомонись, Ахмадук, – вмешивается молчавший до сих пор Мовла, – твоей дочери учиться предлагают. Пойми!
– Не нужно мне ничего навязывать. Я сам как-нибудь разберусь в своей семье, – кричит Ахмадук.
– Напрасно ты затеял скандал. Ты становишься на пути у своего ребенка, выступаешь против власти, – Мовла никак не может успокоиться.
– Падам, главное, чтобы ты хотела учиться. И ты будешь учиться! Иди собирай вещи, – твердо говорит корреспондент.
– Они у меня давно собраны, вон чемодан стоит под навесом, – Падам выбегает во двор.
На улице прохладно, но Ахмадук, погруженный в воспоминания, не замечает этого. В его памяти возникают побелевшие, испуганные лица непрошеных гостей в тот момент, когда он сорвал со стены двустволку. Он не помнил себя, так что испугались они не зря… Ахмадук грустно вздыхает. Да что с того? Все распалось окончательно, и если уж разлад поселился в доме – его не выгонишь никакой двустволкой. В тот же вечер Адам жестоко избил сестру, и она сбежала из дома. Адам отправился следом, поклявшись разыскать ее, где бы она ни была. Да где же ее отыщешь в такой большой стране? А Адам домой не вернулся. Какой ветер подхватил его и гоняет по стране? Поиски сестры тут уже ни при чем – и нечего себя обманывать! Ночует на вокзалах. Перебивается случайными заработками. Перекати-поле, без роду, без племени, без отчего дома! Почему бы не возвратиться ему? Почему отцовская тоска не находит пути к его сердцу?
Осень обнажила деревья. Пахнет прелью, сыростью. Ахмадук сидит на скамье, поглядывая на фундамент. У забора останавливается парень с бритыми висками.
– Э-гей! Ахмадук! Добрый день!
Ахмадук приставляет ребро ладони к глазам, всматривается:
– Кто это там? А, Сапарбек? Что у тебя с глазом?
– Ерунда. Глаз хоть и попорчен, но все же видит – тридцать процентов зрения сохранилось. Ножом зацепили в драке, в Тюмени, в ресторане.
– А с рукой что приключилось?
– Да в прошлом году кентовались с одним бичом. И вдруг он как-то ни с того ни с сего бросился на меня с топором – чтоб ему пусто было! – изуродовал руку… Ну и я ему не спустил, – Сапарбек поглаживает покалеченную левую руку здоровой правой… – Нет, нет, я не зайду, отец. Адам передал со мной деньги для тебя. Где он сейчас? Спроси что-нибудь полегче… Два месяца назад я встретил его в Барнауле, на вокзале. Вот тебе деньги передал, все в целости. Посчитай. Когда вернется? Кто его знает? Может, весной или летом. А я не зайду, нет, нет. Некогда мне. До свидания, отец, – Сапарбек, прихрамывая, идет по дороге.
– Сапарбек! – кричит ему вслед Ахмадук. – А с ногой у тебя что?
– Подрались в гостинице, в Омске. Убегал от мильтонов. В окно выпрыгнул, до сих пор ноет.
– А как тебе кажется, Адам и правда весной приедет?
– Не знаю, отец. Может, и приедет, может, и нет! – Сапарбек скрывается за поворотом.
Ахмадук мнет в руках деньги, шепчет: «Эх, Адам, Адам! На что они мне?»
У ворот останавливается грузовик, и молодой румяный водитель высовывается из кабины:
– Эй, хозяин! Принимай товар! Какие деньжищи у тебя в руках! Знать, я кстати. Куда цемент выгружать?
– Не нужен цемент, – не оборачиваясь, отвечает старик.
– Да ты что, отец? У тебя ж дом недостроен!
– А для этого цемент не нужен.
– А что же нужно?
– Не знаю, не знаю…
– Тогда до свиданья! У меня ведь покупателей полно! Все строятся.
Машина срывается с места.
Ахмадук неподвижно сидит на скамье. Руки его все так же сложены на коленях. Сгущаются сумерки. И силуэт старика под окнами маленького дома с облупившимися стенами, и несколько голых, облетевших деревьев у забора постепенно сливаются со сгущающейся тьмой.
1988.
[1] Тезет – ритуал похорон.
Перевод А. Смородиной.
И была весна
Весна полыхала зеленым своим огнем. Когда юноша, вышедший из машины цвета весны, пересек овраг и вышел во двор ветхого, утопающего в старом саду дома, дуновение жизни этого двора, некогда, кажется, приснившегося ему, заставило его замереть на месте.
Дом с террасой без перил; перед ним, под навесом, глиняная печь, в какой жарят кукурузу; старик, сидящий спиной к нему, отбивая мотыгу; старуха, вышедшая навстречу, отворив цепляющую пол дверь… – все было точно так же, как в той, давно ушедшей, но сладко щемящей душу в воспоминаниях жизни его прадедов и прабабок.
От этой жизни веяло запахом кукурузной лепешки, крапивы, перетертой с солью, жарящейся вяленой колбасы. Этот старинный запах теребил память, оживляя в ней картины, где юноши не садились в присутствии старших, приходили к роднику, чтобы сказать несколько продуманных слов девушкам, чистотою души своей бесценным, как мир, не спешащим с ответом; картины, где от синей чаши неба отражались звуки печальных девичьих песен, звенящих там и здесь.
Теперь все это ушло. Теперь вместо кукурузной лепешки – белый хлеб, вместо нетерпеливых коней – автомобили, вместо традиционных вечеринок – то, на что изловчишься…
Этот двор – осколок жизни, ушедшей, казалось бы, бесследно, осколок, не поглощенный еще бурным, все изменяющим морем теперешней жизни. Вроде той, найденной в северных льдах, туши мамонта.
В этом дворе до сих пор еще жарили в глиняной печи кукурузу или приготовленную из нее дяттагу[1], уговаривали прохожего, идущего мимо, зайти, принимали его, как самого дорогого гостя; в старинной чеченской печи горел огонь, а чтобы съесть приготовленную в ней еду, собиралась вся семья: двое стариков, сын, дочь; все вместе они пололи отбитыми мотыгами кукурузу, и вон на том, дальнем склоне, все вместе косили сено.
Здесь никто не говорил друг другу ни единого злого слова, и старший был старшим, а младший младшим, в ночь под пятницу непременно разносили по соседям предписанное религией пожертвование – что-нибудь из нехитрой крестьянской еды, помнили умерших, и все вставали до рассвета.
Было и еще нечто в этом поросшем зеленью дворе – покой. Спокойно, тихо, ни жарко, ни холодно бывало в комнатах этого дома летом, так же бывало и зимой, когда на печи кипела, разбрызгивая капли пены, кастрюля, навевая желание прилечь и некоторое время полежать.
Дочь стариков каждое утро переходила мост через Аргун, уходя на работу в соседнее село, где жители ни речью, ни одеждой, ни пищей не отличались от горожан. Всей своей сутью она была олицетворением этого покоя. Никому, даже молодым, не говоря о стариках, она, как велит обычай, не пересекала дорогу, не чуралась никакой работы, всегда старалась справиться с нею в одиночку, не пыталась, как ее сверстницы, угнаться за мчащимся вскачь временем – и все это было от той, ушедшей, жизни ее отца и матери.
Она чувствовала, что душевное равновесие в какой-то степени сталкивает ее на обочину нынешней жизни, видела, что ее понятия о порядочности сильно отличаются от понятий ровесниц. Она считала правой себя, но в выигрыше неизменно оказывались они. Многие из них вышли замуж, растили детей. А ей уже минуло тридцать. Она давно уверилась в том, что на встречу с нею к роднику не придет, как некогда приходил к матери, юноша, который бы стоил любви. Он стал ее несбыточной, потаенной мечтой. Нынешнее время не дает ничего тем, кто ходит, потупив взгляд.
Нынче, наоборот, нужно все показывать: глаза, руки, плечи, носить короткое платье, чтобы показать ноги, улыбаться, чтобы показать белизну зубов.
Она не осуждала таких. Напротив, завидовала им. Однако стать такою же она не смогла. Она была из другого времени. Поэтому с утра до вечера работала, вечером ухаживала за скотиной, потом, подоив корову и приготовив ужин, уходила в свою комнату и затихала. Мать говорила: «И с шитьем знакома, и злыми языками не запятнана, и работящая… Не горюй». Она слабо улыбалась, ничего не отвечая на это.
Точно так же жил с отцом и матерью ее почти сорокалетний брат. Отец был недоволен им. В его годы он имел и почет среди людей, и уважение, сколько раз приглашали его то ссору уладить, то еще что-нибудь – всего и не пересказать.
«Дада, сейчас времена не те». – «Ну и что, если не те?» – «А то…» И сын снова уединялся в своей комнате, склонялся над книгами, потом опять уходил на работу, забывая о сетованиях отца. И он, и жена, сами того не подозревая, смирились с тем, что их дети никогда не повзрослеют, навсегда останутся детьми. Так им было удобнее и проще. Но ведь нельзя же так жить. Каждый день приближал их душевное крушение и отодвигал минуту возможного счастья. Каждый день. И все равно они жили, отдавшись безмятежности покоя, окутанные теплой дремотой, стараясь не думать о будущем.
Все это понял, войдя в этот двор, молодой человек, вышедший из зеленой машины.
Ему захотелось крикнуть: «Дада, нана, очнитесь, жизнь уходит. Ваши двое детей давно уже в том возрасте, когда надо разжигать собственный очаг! То время, когда этот двор должен был быть переполнен гомоном ваших внуков, давно уже упущено. Ведь даже самая чистая вода портится, когда застаивается. И жизнь точно так же. Поднимите этот завалившийся забор, облицуйте разваливающийся дом кирпичом, выгоните прочь со двора покой. Покой – это паутина, опутавшая вас и лишившая вас свободы. На дворе наливается соком кипящая жизнью весна. Не сегодня-завтра, как бы вы ни говорили, что ничего не знали, сгинет ваша теперешняя жизнь, сгорит синим пламенем, даже дыма после себя не оставив. Тогда стократ труднее будет вашим детям, лишенным всякой поддержки, остаться одним в мире, над которым нет и не было никакой крыши, остаться, чтобы бродить по свету, видя, как ветер носит золу с пепелища вашей совместной жизни…»
Но молодой человек ничего не сказал. Он и не имел права говорить. То, что он увидел и понял, не должно было обратиться в слова – это была собственная, сокровенная, неприкасаемая боль тех, кто жил в этом дворе.
Он передал старикам, как ему поручили, какое-то малозначащее сообщение; не коснувшись угощенья, сколько его ни просили о том (похоже, старик всерьез обиделся на него из-за этого), сел в свою зеленую машину и сквозь кипящую, переполненную новой жизнью весну уехал в свой город, унося навсегда оставшиеся в памяти впечатления, навеянные увиденным им сегодня двором.
1987.
[1] Дяттага (даьттагIа) – чеченское национальное блюдо из топленого масла и жареной кукурузной муки.
Перевод А. Магомедова.
Зимы холодное утро
…Так ли все было, нет, – кто знает? Давно прошли те времена, скрылись за чередой лет и столетий без следа. Или остался след, дошел и до наших дней?!
Холодно… Вчера утром он разобрал половину изгороди, чтобы растопить печь, и вот дрова уже кончились. Затухает огонь в печи. Вега горестно вздыхает и плотнее закутывается в войлок. Каждое его движение сопровождается заунывным скрипом досок паднара. Вега медленно закрывает глаза.
Но и с закрытыми глазами Вега ощущал ее присутствие. Верная его спутница, бледная и холодная, была рядом, она склонялась над ним, заглядывала в лицо, замирала в ожидании у изголовья. Да, это она, идущая за ним по пятам всю жизнь, – его нищета. Она заполняет собой комнату, оборачиваясь то пронизывающим ветром, дующим в щели, то пустым корытом для муки, то старым драным тулупом.
Давно мы с тобой знаем друг друга. Я был совсем ребенком, когда ты впервые предстала предо мной. Это было весной, в первый день моего сиротства. Свет померк тогда в моих глазах – я стал одинок. И сейчас помню тот зеленый холм, на котором рядом с богатством стояла ты. Улыбаясь солнцу, весне, ты смотрела на меня, глядя прямо в глаза.
Богатство, надменное и неприступное, в тяжелых дорогих одеждах изнемогало под горячими солнечными лучами. Нет, мне и в голову бы не пришло выбирать его, связать с ним свою жизнь. Дорога к нему была бы длинной и извилистой – через болота, овраги, кручи, и, чтобы пройти весь путь до конца, пришлось бы многим кланяться, льстить, заискивающе улыбаться… Мне пришлось бы забыть о том, что было так дорого: восход и закат солнца, утреннюю росу, вольный ветер и мои веселые шутки, забыть лица родителей, их голоса… Мне пришлось бы любоваться богатством, превозносить его, отдавая дань его величию и красоте.
А ты, нищета, стояла так близко – только руку протяни, только глазом моргни – и ты с улыбкой пошла бы за мной на край света. И я покончил со своим одиночеством – я выбрал тебя. С тех пор ты не покидала меня. Ты не упрекнешь меня в неверности – я не изменял тебе никогда.
Каждую весну я любовался обновлением природы: молодой травой на склонах, клейкими листочками на деревьях, стремительным бегом ручья… Из-за моего плеча на это весеннее ликованье смотрела и ты… Осенью, когда сорванные ветром кружились и падали на землю пожелтевшие листья, никла и сохла трава, затихали ручьи, сердце мое сжималось от боли, слезы грусти и жалости стояли в глазах. Я плакал, прячась от людей. Ты одна видела мои слезы… А люди думали, что я никогда не плачу – ведь из дома я всегда выходил с улыбкой, я улыбался небу, утру, малому ребенку. И люди улыбались, встречая меня. Я, как мог, веселил их – забавной ли шуткой, озорным ли словом. Они смеялись, они хохотали, а я был доволен – мне удавалось скрасить их безрадостную жизнь.
И кто, кроме тебя, моя нищета, знает, что шутки эти – лишь покрывало, под которым скрыто от чужих глаз мое кровоточащее сердце?!
…Вега медленно открывает глаза.
Тяжело поднимаясь с паднара, он ворчит:
– Эх, если бы я вчера не выпил всю простоквашу, сегодня бы было чем позавтракать…
Открывая осевшую дверь, он выходит на веранду. Опять жена надела его единственные чувяки!
– Эй! – кричит он с веранды. – Пусть несчастья обойдут тебя стороной, куда ты подевалась?
– Да здесь же я! Корове сена даю.
– Неси-ка чувяки!
– Они мне тоже нужны.
– Тогда принеси сена.
– А что я дам корове?
– А мне здесь прикажешь присесть?.. Неси сено, потом соберешь.
Из сарая с охапкой в руках появилась стройная высокая женщина. Разбрасывая по тропке сено, Вега, осторожно ступая красными от холода ногами, направляется в угол двора, напевая услышанную недавно песню об одной гордячке. Очень понравилась Веге эта песня, снова и снова повторяет он насмешливые слова… Оглянувшись, Вега с изумлением видит, как соседская телка, медленно двигаясь следом, неторопливо жует оставленное на земле сено.
– Эй, женщина! Пусть обойдут тебя несчастья стороной, неси еще сена!
Вышедшая из сарая Абадат удивленно качает головой.
– А ну пошла отсюда, да съедят тебя собаки! – гонит она со двора телку.
– Принеси же сена!..
– Принесу, принесу, иди, куда собирался…
– Эй! Где ты опять запропастилась? – слышится через минуту. – Эй!
Но жена не отзывалась. Так и пришлось Веге проскочить через двор обратно к дому по обжигающе холодному снегу босиком.
Вечером трещат в печке дрова – Вега задумчиво смотрит на огонь. Кажется, он не слышит обращенных к нему слов жены:
– И как ты думаешь жить? Когда делом займешься? Вчера я жгла изгородь, сегодня жгла… Чем завтра разжигать печь? Последнего петуха зарезала… А с коровой что делать – сена-то больше не осталось.
Ничего не отвечает Вега жене. Берет в руки дечиг-пондур.[1]
Видела ли ты, как мчался я,
Подстегивая коня гибким кнутом,
Будто охотящийся на серну волк?
Я, спешащая за водой, увидала тебя,
Похожего на серого оленя, убегающего от волка…
Если владеешь ты землей, простирающейся до самого горизонта,
Если есть у тебя в горах отары овец,
Выйду замуж за тебя, а если нет,
Пусть все несчастья минуют тебя…
И не о чем больше говорить.
Если б твой отец владел землей, простирающейся до горизонта,
Если б у него в горах были отары овец,
То ходил бы твой отец пешком за своей мукой в далекие края.
Возьму я тебя, да минуют тебя несчастья,
Если только даст твой отец еще и корову в придачу.
– Вот так я и женился на тебе, Абадат, – смеется Вега.
– Все смеешься… Лучше вспомни про изгородь, которую сжег.
– Весной новый плетень поставим, не горюй…
– А сено? Чем корову кормить будем?
– А ты попроси Аллаха, чтобы он послал тебе сена.
– И попрошу! У тебя-то ничего не допросишься, – Абадат и вправду начала молиться. Ее молитву прервал резкий стук в окно.
– Кто там? – Вега подошел к окну. – Заходи!
– Вега, я за тобой пришел… Помощь твоя нужна, – отвечает мужчина.
Вега торопливо вышел из дома. Через минуту-другую вернулся за дечиг-пондуром.
– Он говорит, брат Умха болен, нога у него болит. Просит меня пойти к ним с пондуром – помочь больному.2
– Так и будешь ходить со своим пондуром ко всем болящим?
– Что ж, если люди просят…
– Поел хотя бы…
– Нет, пойду. Человек ждет.
И вот уже Вега играет на пондуре в доме Умхи. Сам Умха лежит, еле сдерживая стоны. Его правая нога, распухшая в колене, покрасневшая, вытянута на паднаре.
Играет Вега, забыв обо всем на свете. Мелодия, сначала спокойная и неторопливая, как мерно падающие дождевые капли, набирает силу – это уже веселый летний дождь, звеня, опрокидывается на теплые камни, это – шум быстрого Аргуна, это – полет орла-исполина, царственно машущего крыльями.
И засыпает измученный Умха. Вега наклоняется, чтобы получше рассмотреть больное место, и удовлетворенно кивает головой: прорвало нарыв, спала краснота.
Вега тихо выходит из дома. На улице метет, он съеживается под порывами пронизывающего ветра. Но куда же он держит свой путь в это позднее время? Еще одному больному понадобилась помощь? Нет, старый Эгаш не болен, рану его не увидеть глазами; глубоко запрятано его горе – в душе старика. Поселилось оно там в тот день, когда у Эгаша умер единственный сын. Можно ли помочь человеку в таком горе?! Можно ли развеять такую тоску? Но Вега уже в который раз приходит к старику, берет в руки пондур… И кажется ему, что в такие минуты светлеет лицо старого Эгаша…
Ночь перешла во вторую половину, когда Вега вышел из дома Эгаша. Медленно движется по косогору его черная фигура. Густой колючий снег заметает его следы. Ночную тишину неожиданно нарушает смех Веги, эхом прокатившийся по ближним оврагам. И снова тишина воцаряется в ауле.
Утром взволнованная Абадат будит крепко спящего мужа.
– Проснись, Вега, проснись же наконец. Случилось чудо: на крыше нашего сарая лежит сено… Целая копна.
– Что ты говоришь, жена?! Откуда бы взяться ему на крыше сарая?
– Не знаю, да только оно там лежит – встань да посмотри…
– И вправду лежит! Видно, услышал Аллах твои просьбы!
Абадат надолго замолкает, глядя задумчиво на сено.
Наконец она выходит во двор, приговаривая растерянно:
– Да, так и есть… Услышал меня Аллах, услышал! А Вега долго смеется, уткнувшись в подушку. Нет, никогда в жизни не признается он жене, что эту копну притащил он сам в эту снежную ночь со двора Ауда. Вега был уверен, что рассудил справедливо: лучше уж он сейчас употребит это сено, чем позволит Ауду продавать его ранней весной односельчанам втридорога.
И снова Вега открывает глаза. Отступают воспоминания, из всех углов родного дома глядит на Вегу верная его спутница – нищета… Сколько же глаз у нее, сколько рук – отовсюду смотрит, сжимает в объятьях…
Три года прожила Абадат с Вегой, а потом сказала:
– Или я, или она – твоя нищета! Выбирай, Вега, потому что вместе нам в этом доме не ужиться!
Вот и пришлось Веге сделать выбор: не смог он расстаться с нищетой, она стала его плотью и кровью, его тенью. А как жить дальше без Абадат? Что и говорить, Веге нужна была Абадат, очень нужна. Он и себе бы не признался, не то что людям, что боялся одиночества больше всего на свете, потому и стремился всегда быть среди людей, чтобы шутками и песнями своими отгонять и свое, и людское одиночество.
Абадат не хотела больше жить рядом с нищетой, ушла из дома. Вот как бывает в жизни… Наступает день, когда человек остается совсем один перед своими последними испытаниями…
Правда, Вега на другое утро отправился на поиски жены. Сначала пошел к ее матери.
– Откуда мне знать, где она?.. – старая сгорбленная женщина покачала головой. – Она не ночует здесь. Ты – муж, должен сам знать, где твоя жена.
Увидел Вега жену уже к вечеру за аулом. Абадат с вязанкой хвороста в руках медленно шла по тропинке. Вега, продрогший от долгих поисков, следил за женой печальным взглядом, пока она не скрылась за холмом.
На следующий день Вега был на прежнем месте. Вот на тропинке появилась Абадат. Вега вышел из-за кустов ей навстречу, преградил дорогу. Абадат молча смотрит на него печальными глазами. Сердце Веги сжалось: «За что же я мучаю ее?» – тоскливо подумал он, но вслух сказал весело:
– Абадат, ты должна вернуться…
– Нет, Вега. Надоела мне твоя нищета, живи один…
– Ну, как же так? Мы же хорошо с тобой жили! Вспомни, Абадат, как потрескивали дрова в нашей печи, как кипела вода в котле… А какие песни я тебе пел, помнишь? «Возьму я тебя, если отец твой даст еще и корову в придачу…»
Абадат улыбается.
– Так и будем жить дальше…
– Не всю ведь жизнь шутить и смеяться.
– А что плохого в веселье?
– Должны и шутки когда-нибудь кончиться…
– Конечно, всему есть начало и конец. Шутишь ты или нет – всякой жизни, всякому дню, всякому человеку приходит конец. И покажи мне хоть одного человека, который, уйдя в иной мир, прихватил с собой и все свое добро! Так зачем нам оно?! Будем жить легко и весело!
– Нужно жить достойно. А над тобой все смеются…
– Смеются? Да что ж в том плохого? Хорошо, когда люди смеются!
– Надоели мне твои дурацкие шутки!
– Почему дурацкие, если все смеются? Кто-то же должен веселить народ, разгонять тоску…
– А почему ж ты один за это взялся? Больше никто в нашем ауле не берется народ потешать.
– А больше никто не может – таланта нету. И не только в нашем ауле, но и во всей Чечне нас несколько.
С грустной улыбкой смотрит на мужа Абадат. Вега обнимает жену, она отстраняется от него в испуге, приговаривая: «Оставь меня, я – чужая женщина».
– Не оставлю, пока не поцелую, – смеется Вега и целует жену.
– Ой! – вскрикивает женщина и проводит по щеке рукой. На щеке проступает капелька крови. – Безумный ты, Вега! Мне же больно!
– Не сердись, Абадат! Должен же я хоть чем-то отметить женщину, не пожелавшую остаться со мной!
Вега возвращается в свой холодный пустой дом, ложится на паднар перед очагом. Неподвижно, глядя в одну точку, лежит, поднимаясь с него лишь затем, чтобы выйти во двор или содрать кору, покрывавшую крышу, для поддержания огня в очаге.
Когда весенняя капель звонко капает во дворе, когда все жарче припекает солнце, Вега замечает, что крыши уже нет, лишь над его головой оставались последние куски коры.
Ослаб Вега, отощал, голос его стал почти не слышным…
– Всегда ты была при мне, нищета… Нет, дом мой, не стал ты для меня дорогим жилищем. Не было в тебе тепла и сытой жизни. «Дом Веги», – говорили люди, а ведь ты не был моим, я был здесь лишь гостем. Одиночество и холод – они были твоими хозяевами. А я, убегая от одиночества, ходил по вечеринкам, лечил больных своей музыкой, утешал добрым словом страждущих… Только с Абадат стало светло в этом доме, только с ней пришла ко мне надежда… Но, видно, не суждено этому дому увидеть радость – кончились хорошие дни. Виноват я перед тобой, мой дом, – не пытался я по-настоящему разжечь очаг, наполнить жизнью…
Совсем неразличимы слова Веги, прерывисто дыхание. Мысли, путаясь, вяло текут в голове. «Неужто никто не придет, чтобы стать у моего изголовья? Люди, где же вы? Вы ведь смеялись моим шуткам, зазывали меня на шумные вечеринки… Вся моя жизнь ушла на то, чтобы скрасить ваши дни, отзовитесь же, услышьте меня! Кто скажет мне последнее доброе слово?! А все ты, нищета, ты виновата в моем одиночестве, это тебя они боятся, тебя сторонятся…»
Лицо Веги заостряется, мутнеют глаза, холодеет тело… С завыванием в разбитое окно врывается ветер.
Давно это было… Замело метелью след жизни Веги. Но и теперь, когда тает снег, видны камни на том месте, где стоял дом Веги. Эти камни были когда-то фундаментом его дома. Но и теперь живут еще его шутки, над ними и сейчас смеются люди.
Я хожу по тем местам, где и он бродил когда-то. О чем думал он, когда сочинял свои трогательные, забавные истории?! Мне кажется, я знаю… Я чувствую его тревогу за все живое, что пришло в этот мир и уйдет однажды безвозвратно во мрак вечной ночи. Я понимаю его щедрость, с которой он делился с людьми этой радостью. Когда брожу летними вечерами по дороге, по двору, заросшему бурьяном, кажется мне, что тревоги и радости Веги, его разочарования и надежды обступают меня. Они не уходят отсюда – поселились навечно…
Нет, Вега, не без следа ты ушел… Помнят люди и Чору, и Мази,3 и Муллу Насреддина, и многих других, чьих имен мы не знаем, но чьи шутки и истории живут по сей день. И среди нас ходят по земле люди, которым остался в наследство их дар, их тревоги, их надежды.
1986.
[1] Дечиг-пондур – трехструнный музыкальный инструмент.
2 Раньше у чеченцев был обычай лечить некоторые болезни игрой на дечиг-пондуре.
3 Чора, Мази – известные в прошлом в Чечне певцы, сказители, острословы.
Перевод Н. Крыловой.
Ночь в пустом доме
Недавно в ауле опустел еще один дом. Старик Мада – хозяин дома – умер прошлой зимой после долгой болезни. Его жена Жухират не прожила и месяца после смерти мужа. Как-то утром она крикнула своей соседке: «Хазу, зайди скорей ко мне!» Зашла в дом, легла в постель и затихла навсегда. Прибежавшая на зов Хазу не застала ее в живых.
Почти полтора года прошло с того дня. Зарос травой двор, дом стоял заколоченный. Лишь однажды раздались здесь голоса – это Жарадат, дочь стариков, приехала со своим мужем, чтобы забить досками окна и двери родного дома. Когда-то у Мады и Жухират было пятеро детей, но в живых осталась одна Жарадат. Она с мужем и детьми жила в одном из сел на плоскогорье. Жарадат и потом не раз приезжала в аул, но в свой двор никогда не заходила – шла прямо на кладбище, что на краю аула, и уезжала обратно.
Низкая, почти вросшая в землю калитка, горестно скрипнув, приоткрылась. Во двор, освещенный лишь слабым светом луны, вошел человек. Это был среднего роста мужчина в длинном плаще. Он обвел глазами двор, остановил свой взгляд на заколоченном наглухо доме, поставил на землю портфель и опустился на скамейку у забора. Давно мечтал он об этом – вот так, в одиночестве, в тишине сидеть здесь и вспоминать…
Тогда, лет пятнадцать назад, на этой лавке подолгу сидел Мада, глядя на заходящее солнце, на возвращающееся домой стадо. А еще раньше, когда он был худеньким быстрым мальчишкой, он помогал Маде мастерить эту скамейку – подавал инструменты, гвозди. А потом, когда скамейка была готова, они сидели на ней рядом, отдыхая. Он до сих пор помнит, каким вкусным и сочным было большое красное яблоко, которым угостил его Мада в тот день. Вообще-то, Мада не баловал его вниманием. Он никогда не сажал его к себе на колени, как свою дочь Жарадат. Девочка трогала бороду отца, а он молча отходил в сторону, с завистью глядя на смеющуюся Жарадат, на улыбающегося Маду. Ему тоже так хотелось потрогать бороду Мады!
Они с Жарадат были почти ровесники. И в школу, хотя он и был старше на полгода, пошли вместе. У мальчика не было отца, и он представлял, как было бы хорошо, если бы Мада был и его отцом. Но сам Мада так не считал, это мальчик понимал уже тогда. Когда Жарадат, заигравшись с ним во дворе или отправившись к родным, долго не появлялась дома, Мада громко звал ее:
– Жарадат, во, Жарадат! Иди скорее к даде! Где ты запропастилась?
Но никогда Мада не позвал его так: «Эдал, во, Эдал!» Он даже по имени никогда не называл его, а если он был нужен, Мада говорил: «Пойди сюда», – или: «Мальчик, подойди».
Тогда он не понимал, почему Мада и Жухират так относятся к нему, старался не думать об этом. Да и кто он был для них? – Чужой ребенок! В детстве он не обращал внимания на досадные мелочи, которые, когда стал старше, так часто вспоминал с горечью. Он не забыл, что не один старик в ауле, узнав, чей он, не говорил ему, как другим мальчишкам, выросшим без отца: «Каким хорошим человеком был твой отец! Жаль, что он так рано ушел от нас…» Только о матери спрашивали его: «Как живет Совдат? Не тяжело ли ей одной?»
Как-то он спросил у матери:
– Нана, почему никто не говорит о моем отце? Разве он был плохим человеком?
– Что ты, сынок! Твой отец был достойным человеком! Дело вовсе не в нем.
Мать часто рассказывала Эдалу об отце – ведь мальчик совсем не помнил его. Отец погиб, сорвавшись на машине в пропасть, когда вез корм в горы колхозному скоту. Эдалу тогда едва исполнился год.
И только когда Эдал уже закончил школу, он узнал причину такого отношения. Это было на второй день после получения аттестата зрелости, когда он впервые услышал о своем дяде…
И рядом с этим днем в памяти встает еще один – светлый майский день его юности. Зеленели склоны гор и долины, деревья покрылись листвой. Лес начинался прямо за их домом, туда выгоняли пастись скотину. У них с мамой была корова и теленок, а у родителей Жарадат были еще и овцы с ягнятами. Овец пас Мада, Эдал и сейчас помнит его огромный брезентовый плащ, который Мада надевал в дождь. Если же Мада уезжал по делам или болел, овец приходилось пасти Жарадат.
В тот день Эдал увидел в окошко промелькнувшую красную куртку Жарадат – она шла за овцами к лесу. Эдал вышел из дома и издали наблюдал за девушкой. Ему нравилось смотреть, как Жарадат, засунув руки в карманы своей куртки, запрокидывала голову и с улыбкой подставляла лицо под дождевые капли, потом рукой небрежно стряхивала их с лица. Эдал слышал, как она говорила ягненку, лаская его: «Цинцалг мой, цинцалг»[1], и смеялась потом звонко, от души. Ее смех, сливаясь с шумом устремившихся по оврагам дождевых ручьев, звучал для него радостной мелодией весны…
Эдал неслышно приблизился к девушке.
– Бов-в!
Так он пугал ее в детстве. Тогда Жарадат вздрагивала от испуга, а он закатывался от смеха. Глядя на него, она не выдерживала и тоже начинала смеяться. Но на этот раз его «бов-в» прозвучало совсем некстати. Жарадат, отпустив ягненка, выпрямилась, повернулась к нему. Эдалу вовсе не хотелось смеяться, он стоял, молча и серьезно глядя на девушку, удивляясь своей скованности и какому-то необъяснимому волнению.
Пятнадцать лет прошло, а он и сейчас помнит ее – ту, давнишнюю, из майского дня. Невысокого роста, уже не угловатая девчонка, какой виделась она ему раньше, а девушка… Нежное лицо, тонкая летящая линия бровей, блестящие черные глаза… В тот день ее глаза смотрели на него особенно пристально. Да, он помнит ее, и кажется, что смятение, охватившее его в тот день, не улеглось и поныне.
– Это ты? – голос Жарадат был слабым и каким-то незнакомым.
– Я. А ты что делаешь?
– Не видишь разве? – улыбнулась Жарадат. – Пасу овец.
– Хороший сегодня день.
– И солнечный дождь, – только Жарадат произнесла это, как дождь перестал: и в разрыве облаков показалось солнце. Над Бандук-горой изогнулась радуга. – Ты зачем пришел?
– Просто так. Хотя нет, мне надо что-то сказать тебе…
– Ну и скажи.
– Жарадат, я думаю, мы всегда должны быть вместе…
От ее неожиданного смеха он растерялся.
– И что тогда?
– Ну, тогда… я уйду служить, а ты будешь меня ждать…
Жарадат больше не смеялась, она стояла, опустив глаза, и наконец произнесла едва слышно:
– Да, я буду ждать, а ты?
– Что – я?
– Ты не передумаешь, когда вернешься из армии?
– Никогда, Жарадат, слышишь, никогда! Ты не веришь мне? Хочешь, я поклянусь…
– Поклянешься? Чем?
– Солнцем золотым, синим небом…
Не думал Эдал в ту минуту, что и месяца не пройдет, как нарушит он свою клятву. А тогда в верности и любви своей он готов был поклясться всем самым дорогим в жизни, самым великим в мире.
– Нет, нет. Я верю тебе…
А потом они бродили под начавшимся опять дождем, исполненные счастья, тем, что они вместе сейчас и будут вместе всегда, пока не услышали далекий голос Мады: «Жарада-ат! Ва-а, Жарадат!» Жарадат первая увидела отца – он стоял на краю оврага.
– Я здесь, дада! – помахала рукой Жарадат и пошла навстречу отцу. За ней из-за пригорка вышел и Эдал.
Мада увидел дочь и Эдала и направился к ним. Эдал заволновался. Конечно, не в первый раз видит его Мада рядом с дочерью, но почему-то очень не хотелось встречаться с отцом Жарадат сейчас. И все же Эдал постарался справиться с волнением и, как положено, поздоровался первым:
– Пусть будет добрым твой вечер, Мада!
– Живи с добром, – ответил Мада. И, не останавливая на нем взгляда, подошел к дочери. Эдал помедлил минуту и пошел в сторону аула. Никто не окликнул его.
А через несколько дней Жухират сказала дочери:
– Жара, ты должна оставить дружбу с соседом.
– Не так-то это просто, нана…
– От многого в жизни можно отказаться, Жара… А от дружбы и подавно.
– Но почему?
И этот звенящий вопрос Жарадат, и слова ее матери слышал Эдал со своего двора, скрытый от глаз соседей плетеным забором.
– Недостоин тебя этот парень, доченька.
– Почему, нана? Он такой плохой или я слишком хороша для него?
– Плохого я о нем ничего не скажу. И его мать хорошая женщина, но…
– Что же ты замолчала, нана? – в голосе Жарадат были слезы.
– Понимаешь, твой отец против этого.
– Что плохого сделал Эдал, почему отец не любит его?
– Он-то ничего не сделал, а вот его дядя Махма, старший брат его отца… Весь аул проклял его…
– За что?
– По его милости пострадали лучшие люди нашего аула – кого в тюрьму забрали по его доносам, а кто и вовсе сгинул без следа. Никто не вернулся, и дед твой тоже. А он был уважаемым человеком в нашем крае, многие знали его. Самую лютую вражду он мог своим мудрым словом превратить в родство. Так вот, дядя этого парня со своими дружками подкинули деду на чердак чужую винтовку, а потом сами и привели к нему начальников… Ранней весной это было… Помню, дед твой сказал, глядя на Махму: «Аллах покарает тех, кто сделал эту подлость…» И увели его со связанными руками эти люди, только грязь хлюпала у них под ногами. А мы молча смотрели им вслед – что мы могли сделать?! А через год арестовали и Махму с дружками, больше его никто не видел.
Жухират продолжала что-то говорить, но Эдал больше ничего не слышал. Жизнь открылась ему с неизвестной стороны. В этой жизни и солнце не так ярко светило, и трава была бесцветной, и птицы пели не так звонко. В домах было мрачно, словно во всех лампах разом подкрутили фитили. Его потрясла увиденная жизнь – только черное и белое. «Неужели все так?» – это был беззвучный крик тонущего человека. Эдал стремительно рванулся к дому.
– Нана, почему ты ничего не говорила мне? Кто был мой дядя? – пытаясь говорить спокойно, звенящим голосом спросил он у матери.
– Сынок, что с тобой? – испугалась Совдат, глядя на побледневшее лицо сына.
– Со мной – ничего. Ты лучше расскажи, за что весь аул проклял его, расскажи, как он предавал людей, клеветал на них. Или ты тоже ничего не знаешь, нана?
Совдат помертвела: как боялась она всю жизнь, что когда-нибудь наступит эта минута! Она поднесла к лицу свои большие дрожащие руки. Эти руки матери с голубыми, вздувшимися от работы венами вспоминаются ему каждый раз, когда он думает о ней.
Волнуясь, будто бы она была перед ним в ответе за поступки Махмы, Совдат сбивчиво заговорила:
– Я и сама-то толком ничего не знаю. Правда это или нет, но так говорят люди. Когда твой отец в память о брате хотел принести жертву, старики ему не разрешили. Твой отец очень тогда переживал. А почему ты спросил о дяде, сынок? Что-нибудь случилось? – Помолчав, мать сказала: – Тебе-то, сынок, какое дело до его поступков? Мы ведь его знать не знали.
Эдал ничего не ответил матери. Он ушел из дома, долго ходил по лесу, пытаясь привести в порядок мысли, успокоить бешено колотившееся сердце. Он чувствовал себя всеми покинутым, жалким, несчастным. Последние слова матери больно задели его. Неужели она искренне говорила это? Или хотела ему помочь?
Сын отвечает за поступки отца своего, брата, дяди, всех семи предков. Он понимал это и тогда, тем более твердо знает теперь. Поэтому и вернулся он спустя столько лет в свой аул. Никакой суд не призовет его к ответу, отвечать придется перед своей совестью, перед честью. Этот груз вины лег в тот далекий день на его плечи, и не скинуть его никогда. Нельзя одним взмахом руки отбросить свое прошлое, сделать вид, что его не было, что только с нас начинается жизнь. Разве вырастет дерево без корней? Так и человек. Он за все должен держать ответ: и за прошлое, и за свою жизнь, и за будущие жизни. Если забыть об этом, выбрав дорогу лишь для себя самого, ища на ней лишь свои сиюминутные выгоды, то жизнь человека станет источником зла. Даже уйдя из жизни, человек будет излучать зло, как его дядя…
Тогда он смог облегчить душу в рыданиях, кинувшись на землю возле чинары, плача громко и тяжело, – без страха быть услышанным.
После того дня Эдал несколько раз видел Жарадат. Но ни разу не приблизился к ней, не заговорил. Сердце его рвалось к девушке, но Эдал уздечкой своей воли смирил его. Через год Эдала призвали в армию. Он успел прослужить полсрока, когда получил от родственников матери телеграмму о ее болезни и тяжелом состоянии. Мать он уже больше не увидел – приехал в Варанда на второй день после ее похорон. Вот тогда-то и почувствовал Эдал, что он остался один в безлюдной степи, и не было в той пустынной степи ни одного дома со светящимся в ночи окном, с горящим в очаге огнем, где можно было бы укрыться от дождя или метели, не было ни одной живой души, с кем можно было бы разделить и голод, и холод, и горе, и отчаяние. И в какую сторону ни пойди, не различая времени суток: на север или на юг, на восток или на запад – везде равнодушное безмолвие и вечный мрак, стоишь ли ты на этом леденящем ветру, двигаешься ли вперед в поисках пристанища – некому растопить лед печали, сковавший душу.
В аул после службы в армии Эдал не вернулся. Он сдал экзамены в сельскохозяйственный институт в одном из городов России, а после окончания учебы уехал на работу в Сибирь, в крупный совхоз.
Шли годы, работы было много, но не проходило и дня, чтобы не вспоминал он родной аул. Несколько раз собирался поехать на родину, но так и не решился. «Зачем ворошить прошлое? – говорил он себе. – Кому я там нужен, кто меня ждет?» А если ждет? Нет, это невозможно. Жарадат, наверное, давно вышла замуж. Да и родители никогда бы не отдали Жарадат за него, поэтому не надо тешить себя пустыми надеждами. Но жить, не побывав в родных местах, он уже не мог. Временами тоска нестерпимо бередила сердце, но он сдерживал себя. В аул он поедет обязательно, но поедет солидным, благополучным человеком. Пусть все увидят, что он не терял времени даром и многого добился. А если он еще в науку пойдет и станет кандидатом, то почет в ауле ему обеспечен. Он все чаще задумывался всерьез о продолжении учебы и все-таки поступил в заочную аспирантуру своего родного института. В городе, куда Эдал приехал сдавать экзамены, у него произошла неожиданная встреча с земляком – Хамзатом. Эдал закидал его вопросами. Хамзат рассказал о многом, о стариках, кто жив, кто умер, о молодых, которых немного осталось в ауле. Вот и Жарадат, оказывается, уехала из аула. Она вышла замуж, когда Эдал заканчивал первый курс института. Вот и ответ на его бесконечные вопросы – она замужем, у нее семья, и никто его не ждет в родном ауле. А на что надеялся он, если после армии даже не заехал в свой аул, не повидался с Жарадат? А она, может быть, продолжала ждать, помня его клятву. Надо было набраться смелости и пойти к ее родителям – неужели их любовь не растопила бы неприязнь в сердце Мады?! И смирились бы они в конце концов, кто знает? А может, вышло бы и по-другому: проклятия Мады неслись бы ему в спину и уехал бы он из аула с позором. Что толку ворошить прошлое, жизнь все поставила на свои места, и ничего уже нельзя изменить. Хоть и много раз завершал Эдал свои размышления таким образом, но не мог он до конца примириться с той несправедливостью, что поломала ему надежду на счастливую жизнь. Он часто думал о своем незнакомом родственнике, оставившем о себе черную память. И пришел к выводу, что должен как единственный оставшийся в живых из их рода попытаться докопаться до истины. Может быть, этот Махма сам пал жертвой оговора, может, он ни в чем не виноват? Тогда его могли бы реабилитировать, и с имени дяди исчезло бы позорное пятно. Разобраться во всем можно было только на месте, и Эдал наконец решился ехать.
Жарким летним днем приехал он в аул. Он шел по пустынным улицам, никого не встречая на своем пути. Первый человек, которого он увидел в родном ауле, – пожилой незнакомый мужчина сидел на низеньком стульчике под тенью тополя у своего дома. Эдал остановился и вежливо поздоровался со стариком. Тот в ответ на приветствие кивнул головой, опустил в карман четки, которые перебирал быстрыми пальцами, встал и заговорил:
– Живи с добром! Заходи в дом. Я вот устал бока отлеживать, дай, думаю, выйду на улицу, может, встречу кого – поговорю. Нет, я на жизнь не жалуюсь! Жена хорошая попалась, двадцать лет живем, а все вкусно меня кормит. А иногда для разнообразия и ворчать начнет: «Что ты делом не занимаешься, деньги в доме нужны – сына женить надо, дочку пристроить». А ей говорю: «Подожди, жена, не приставай, соберусь скоро, за деньгами поеду». А она удивляется, куда это я собираюсь ехать, – знает, что у меня больше десятки никогда в кармане не бывает. «В банк, – говорю я ей, – в банк. Там денег много – лежат, меня ждут, надо только заработать и получить!» Ха-ха! – радуясь своей шутке, рассмеялся старик.
Они расположились во дворе под навесом.
– Ты уж прости меня, молодой человек, не могу я без шуток. А ты чей же будешь, что-то не припомню я тебя? – сказал хозяин.
Эдал назвал себя. Старик внимательно и серьезно посмотрел на него.
– Смотри, а ты, оказывается, солидным мужчиной стал. Эх, как бы радовалась бедная Совдат, доживи она до этого дня. Расскажи-ка, где живешь теперь, есть ли семья?
Эдал не стал утомлять старика долгим рассказом. Несколько слов сказал о себе, но подробно изложил цель своего приезда. Старик удивленно качал головой, слушая Эдала.
– Это хорошо, что ты сам решил во всем разобраться. А дядю твоего я хорошо знал. И он Абдуллу знал, – старик ткнул в себя пальцем. – Еще бы не знать, ведь это по его милости меня в тюрьму забрали. Просидел я около трех месяцев, и вот однажды приводят в нашу камеру – кого бы ты думал?.. Дядю твоего, Махму. «А, Махма, добро пожаловать, рады тебя здесь увидеть. По тебе-то тюрьма давно плачет, а вот меня за что засадил?» Хотя оба мы хорошо знали, в чем тут дело. Одна девушка нам обоим нравилась, и выбрала она меня, а не его. Ну, Махма и рассчитался со мной – быстро поклеп написал. Я слышал, не меня одного он так пристроил, со многими невесть за что посчитался. Он в камере все Аллаху молился, каялся в своих подлостях, прощения просил. Раньше-то он к мулле и близко не приближался и над верующими смеялся, а тут набожным стал. Он и у меня прощения просил. Я простил его, давно простил. Он ведь у меня на руках и умер, недолго продержался. Я наизусть «Ясин»2 не знал, читал, что помнил, из Корана у его изголовья. Нет у меня к нему ненависти. Махма ушел в праведный мир, там каждый сам за себя ответ держать должен перед Всевышним. А я ему не судья. Если какую бумагу подписать нужно, давай – распишусь в своих словах, простил я ему все, зла не держу.
А вечером во двор к Эдалу заглянул еще один односельчанин. Он приветствовал Эдала так, словно долгие годы с нетерпением ждал встречи с ним.
– Послушай, Эдал, может, люди тебе сказали, что я на вашем участке хозяйничаю, а? Отказываться не буду, да и земля-то брошенная, к тому же и мы ведь не чужие люди, хоть дальние, но родственники, не забыл? – старик говорил быстро, не дожидаясь от Эдала ответа. – Я с семьей чеснок выращиваю, вот и на вашем участке посадил. На продажу возим чеснок в Астрахань, а выгода какая – копейки за труд получаю…
Эдал перебил разговорчивого старика, который назвался родственником, и спросил его о дяде.
– Был ли виноват Махма? – переспросил старик задумчиво. – Да нет, не думаю. Я тебе больше скажу, хороший человек был твой дядя. А почему его в ауле не любили? Завидовали ему: того, кто лучше их, кто на виду да при уважении, никто не любит. Вот, к примеру, и мне люди завидуют, что лучше их живу. Так уж человек устроен, и нам с тобой людей не переделать. А про Махму ничего плохого не скажу, время тогда было такое – непонятное, сейчас и подавно не разобраться, кто был прав, кто виноват, – старик помолчал, а потом заговорил с новой силой: – Пойдем ко мне, посидим, чаю попьем. У меня к тебе один вопрос будет. Ты как – не собираешься в аул возвращаться? Нет? Я почему интересуюсь: дом-то твой заброшенный стоит, ломают его все кому не лень – и ребятня, и взрослые. А я бы разобрал его – мне кирпич нужен, я бы тебе заплатил. Ну как, согласен?
Эдал явно тяготился затянувшимся разговором.
– Забирай так, я продавать не собираюсь. И в аул я не вернусь.
Старик заговорил оживленно:
– Ну, спасибо, сынок, это по-родственному. Аллах зачтет тебе добро. А то, может, остался бы? Подумай, – и он торопливо поспешил со двора.
Был у Эдала в ауле и еще один разговор. Но про него и вспоминать не хочется. Вернее, разговора-то и не получилось: третий старик, что жил на другом краю аула, наотрез отказался говорить о Махме, когда узнал, кто перед ним.
Так и уехал тогда Эдал из аула, ничего для себя не решив. А запрос о дяде, который он давно уже написал, так и лежал неотправленный. Сколько раз он давал себе слово, что завтра же отнесет письмо на почту. Но наступало завтра, а он опять медлил. Не сразу понял Эдал причину своей нерешительности, хотя потом она представлялась ему такой очевидной и простой.
Конечно же, что может измениться, если даже дядю официально реабилитируют? Кому он сможет показать эту бумагу – односельчанам? Но для них он останется прежним, в ауле к Махме лучше относиться не станут. А что изменится в его жизни, что в ней вообще может измениться?
Прошло два года, и Эдал, когда-то твердо решивший, что в аул ему приезжать больше незачем, стал снова собираться в дорогу. Уже к ночи добрался он до аула. Шел по улице к своему дому и не мог миновать двор Жарадат. Да, не узнать его теперь – бурьян, заколоченный дом, и плетень стал каким-то низеньким, перекошенным. Долго сидел он на вросшей в землю скамейке, вспоминая. Прокричали первые петухи, скоро начнет светать. Слабый шелест деревьев, шум быстрого ручейка, громкое кваканье лягушек, редкий крик выпи – все эти звуки наполняли сердце волнением, рождали в памяти воспоминания. Какое-то горькое и пронзительное чувство тревожило душу, не давало насладиться покоем.
Он вышел со двора и направился к своему дому. Но дома уже не было. Его родственник не терял времени даром: на том месте, где стоял когда-то их дом, в густой траве едва были заметны лишь камни фундамента. Пораженный, Эдал поспешил в соседний двор, подошел к дому Мады. Дверь была заколочена накрепко, окна крест-накрест забиты тонкими досками. Эдал рванул доску на себя. Со скрежетом выламывались ржавые гвозди и, звякнув, падали на пол. Где-то рядом возмущенно залаяла собака. Отодрав доски, Эдал осторожно раскрыл освобожденное окно. Забытым и пряным запахом мяты пахнуло на него из дома. Этот запах всегда вызывал в памяти одну и ту же картину.
– Эй, косарь! Пусть светит солнце, пока не высохнет сено!
Он перестает косить и смотрит на девушку.
– Люби тебя Аллах!
– Ты что так рано встал?
– А я никогда долго не сплю. А ты чего так рано?
– Я скотину выгоняла, домой иду.
– Люди только выгоняют скотину, а ты уже обратно идешь.
– Да, я такая… А мята тебе здесь не попадалась? Для чая надо.
– Здесь вот, рядом ее полно. А на чай-то позовешь?
Она не отвечает – рвет мяту. И вот она уже удаляется от него с охапкой мяты в руках. Как же он мог забыть про цветы?! Он нарвал их рано утром, еще до начала косьбы. Они лежат рядом, еще мокрые от росы. Сейчас он окликнет ее, догонит… Как сердце бьется… Ну, не стой же! Жарадат идет не останавливаясь, ее уже почти не видно за пригорком. Вот она уже скрылась из виду. Цветы остались лежать на земле. Они сникли, увяли на горячем солнце, засохли, так никому и не подаренные.
Эдал залез в окно и спрыгнул с подоконника в дом. Глаза его различили у стены паднар. На паднаре была разложена мята. Взяв в руку засохшую траву, Эдал поднес ее к лицу и долго вдыхал горьковатый запах. Потом он разулся, лег на паднар и прикрыл глаза…
Они, все четверо, сидят за столом. На столе чурек, то-берам,3 простокваша. Первым в миску с то-берамом макает свой чурек Мада, потом Жухират, а он и Жарадат никак не могут решить, кому сначала обмакнуть чурек – ему или ей. Наконец, и он макает свой кусок чурека в миску. Потом они по очереди пьют из миски простоквашу.
И вдруг он в волнении оглядывается – он один, вокруг никого нет. Он один ест чурек, берам, простоквашу. А где же Жарадат, где ее родители? Он поднимает голову. Откуда-то сверху на него смотрят люди, их лица незнакомы ему. Они как-то странно улыбаются, глядя на него. Среди них он вдруг узнает Маду. Указывая на Эдала пальцем, он что-то говорит, усмехаясь.
Еда застревает в горле. От обиды, слабости на глазах Эдала появляются слезы. Неужели он, мужчина, плачет? Да нет, это маленький Эдал горько рыдает, уткнувшись в стол. Но вот он вскакивает, роняя миску, крик вырывается из его груди:
– Что я сделал, Мада, в чем моя вина? Чего ты хочешь от меня?!
Эдал с трудом стряхнул с себя сон, встал и, не в силах успокоиться после растревоживших душу сновидений, стал ходить по комнате. Все беды и несчастья его жизни собрались под крышей дома Мады в эту минуту: одиночество его жизни, умершая мать, погибший отец, несбывшиеся мечты.
Волнение немного улеглось. Эдал достал сигареты, закурил, присел на корточки перед печью, приоткрыл дверцу. В очаге были аккуратно сложены маленькие щепки, на них – сухие поленья. «Наверно, Жухират собиралась разжечь огонь в тот последний свой день, – подумал он. – Но не успела».
Не успела… А что вообще человек успевает сделать за свою жизнь?
Эдал чиркнул спичкой – вспыхнули щепки. Отсвет разгорающегося огня скользнул по половицам. Трещат дрова. Горит, как было многие годы, огонь в очаге. Угасший ненадолго, но вновь зажженный им огонь… И он чувствует тепло очага на своем лице. Эдал отошел от печи, достал из портфеля конверт. Два года он носил его с собой, но теперь… Эдал смял в руке конверт и швырнул в пламя.
Через окно выбравшись на улицу, Эдал помедлил, глядя на дом, – из трубы его поднимался едва приметный в рассветном сумраке голубой дым, потом быстро пошел по тропинке вниз к роднику Мады. Сколько он себя помнил, этот родник всегда называли так – Мада всегда сам чистил его. От родника поднимался легкий пар. Здесь всегда сыро и прохладно. Вода, выливаясь из двух труб, устремлялась вперед, ударяясь о камни, рассыпалась в сверкающих брызгах, потом, собираясь по капле в небольшой ручеек, бежала дальше и, наконец, у обрыва исчезала из глаз…
Эдал нагнулся и подставил ладони под струю. Поднес руки к губам, жадно выпил ледяную воду… Он пил из родника еще и еще…
1978.
[1] Цинцалг (цIинцIолг) – кусочек.
2 «Ясин» – отходная молитва.
3То-берам (тIо-берам) – блюдо из сметаны и творога.
Перевод Н. Крыловой.
Сказка о трех братьях
Над затихающим к вечеру селом медленно сгущаются сумерки. У плетеной изгороди крайнего дома слабо различается женский силуэт.
– Чама, Чама! – разбивает тишину глуховатый в сыром вечернем воздухе голос. Женщина зовет еще и еще.
Наконец со стороны оврага раздается протяжное мычание. Скоро на дороге появляется медленно бредущая корова.
– Что же ты не отзываешься, Чама? Ну, пошла, пошла… Погоди-ка, калитку открою. Не крути головой, иди сюда – я тут тыкву тебе приготовила. Ешь, ешь, да не мотай ты головой – кастрюлю опрокинешь. О боги! Где ж тебя угораздило так перепачкаться?! Стой смирно, я тебя почищу. Да не маши хвостом, ешь свою тыкву… Ну, все, все, я больше тебя не трону, доедай спокойно. Место я тебе приготовила, чистой соломы подложила, отдыхай… – женщина выходит из сарая и через двор направляется к дому.
Стемнело. В саду терпко пахнет спелой айвой. Вечера стали прохладны и сыроваты. Снова осень, еще одна долгая осень пришла в ее жизнь… Гнилая и туманная пора, каждая косточка ноет… А надо бы выйти, надергать хвороста из плетня. До чего темно… Когда же только наступит рассвет? Как часто долгими ночами задавала она себе этот вопрос, ворочаясь без сна в своей постели! И темнело, и рассветало, и солнце всходило… В одиночестве прошла жизнь. Что впереди осталось?..
Женщина долго стоит на открытой веранде, зябко кутаясь в старый платок. Прищурив глаза, всматривается в густеющую тьму.
– Откуда здесь это дуо?[1] Сколько лет на этом дворе не было никакого дуо, – бормочет женщина растерянно и снова вглядывается в темноту. Нет, конечно, ей померещилось… Или и впрямь стоит во дворе корзина? А голоса, чьи это голоса смутно доносятся до ее слабеющего слуха? Будто плачет кто… Да ведь это голос ее старшего брата Даччи!..
– Маржа, Дачча! Уже тридцать лет стоишь здесь и плачешь. Целый поток слез… – шепчет женщина сокрушенно. Затем смолкает и садится на корточки. Сглатывает горький комок, сдавивший горло. И снова слышны голоса. Тяжело опираясь на мотыгу, стоит плачущий Дачча.
– Что случилось, сынок? – это голос отца.
– Наш Салах убит… так говорят…
Отец, отец! Как вынес ты это, как устоял на ногах?! Почему не разверзлась под тобой земная твердь? Ты лишь сгорбился, замер, будто окаменел.
– Нужно иметь мужество, сынок… Люди не должны видеть твоих слез.
– Он же вместо меня ушел на фронт, назвался моим именем. Если б я знал тогда!..
– Ты должен сдержаться, сынок, ты – мужчина.
Стихают голоса. Под стеблями кукурузы не видна мотыга. Все растворяется в ночи. Лишь злая темень остается в пустынном дворе.
– Маржа, Дачча, маржа! Опять вы все уходите, а я остаюсь наедине с этой тьмой, – чуть шевельнув губами, роняет женщина.
Спустившись с веранды, она идет через двор к изгороди, опираясь на палку. Останавливается, наклонившись, ищет в грязи свалившуюся с ноги калошу. Наконец находит и молча стоит, глядя на дом. Обветшал он, осел. Стены уже год не белены, крыша течет, окна перекосились. Она всегда, до этой последней весны, следила за домом, по теплу белила – надеялась, что вернется хоть один из них. Шли годы, но ни один гость к ней так и не постучался. И гасла ее надежда, и таяла вера… И все же слабый огонек надежды еще тлел в уставшем сердце. Она знала: если погаснет и этот огонек, ее поглотит черная тьма. Ее жизнь всегда окутывал серый плотный туман, но все же сквозь него, как луч солнца, пробивался робкий свет надежды. И верила она – вопреки всему! – что однажды этот свет растопит серый мрак ее жизни. И в этот день они – все трое! – улыбаясь, войдут во двор и скажут:
– Прости, сестра, если можешь, – знаем, измучили мы душу твою… Прости…
Конечно, и Салах будет с ними. Что из того, что пришла похоронка? Сколько их, солдат, после войны возвратилось!.. Вон Усман через два года после собственных поминок вернулся…
Так думала она до прошлого года. А прошлой весной погасла ее надежда, умерла ее вера. Она, как вырвавшееся из рук колесо, подрагивая, исчезла во тьме, покатилась к обрыву и разбилась вдребезги. Женщина долго плакала на могиле своей веры, пока место это не заросло высокой густой травой. Тогда и иссякли у нее последние слезы – выплакала, видно, все, отпущенные на ее долгую жизнь. В тот день она поняла, что способность плакать – это тоже, оказывается, счастье. И с каждым прожитым днем все явственнее ощущала, как неумолимо приближается к своему скорому концу…
– Зачем же я выходила? Ах, да, хвороста взять… – ее тихий голос звучал глухо.
Осторожно ступая, она, наконец, добирается до изгороди, в тишине слышен треск сучьев.
– Эх, жизнь, жизнь! Сегодня ты потеряла свою гордость, Сану! Изгородь начала жечь! Раньше ты презирала тех, кто делает это. Хоть и жила одна, дровами всегда запасалась – никого не просила. А теперь?.. – так разговаривает сама с собой Сану, разжигая в печи огонь. И слышит вдруг нежный смех ребенка и голос…
– Ваши, ваши, а этот сярмик2 был большой?
– Да, большой-пребольшой! И сколько ни ел, все наесться не мог.
Да, конечно, это голос Даччи. Вот же он, на паднаре сидит. А кто это у его ног – маленькая девочка с черными большими глазами и пушистыми волосами, заплетенными в две тугие косички. Да это же она, Сану, только тогда – давно, сорок пять лет назад.
Сану протягивает к девочке руку, хочет погладить ее по мягким волосам, но рука беспомощно повисает в воздухе. Пусто в комнате, лишь огонь шумит в печи…
– Я ничего не сделаю тебе, милая! Только не оставляйте меня одну, не уходите!..
Они услышали ее: снова доносятся родные голоса. Вот вошли ее братья – Шида и Салах.
– Нарубили дров? – спрашивает их старший брат.
– Нарубили, Дачча.
– Хорошо, тогда я отведу на водопой коня.
– Мы уже напоили и почистили его. Дали корм скоту.
– Пока я здесь сидел, вы уже все сделали!
Салах, Салах… Неужели нет тебя нигде в этом огромном мире? Неужели люди не услышат звуков твоего дечиг-пондура, разносившихся прежде далеко вокруг? Неужели никто не увидит твой стремительный танец, похожий на молнию, вспарывающую небо?
Затихают голоса братьев. Но радость не уходит из сердца Сану. Комната, казалось, озарилась мягким светом. Откуда этот свет, эта радость?.. Сану надолго задумывается, потом ее лицо трогает улыбка: ну да, это любовь пришла, любовь, что всю их короткую жизнь соединяла братьев. Свет любви озарил ее дом, принес запах весенних цветов, рассеял тьму надвигающейся одинокой старости.
Ее братья пришли в этот мир один за другим: старший – Дачча, через год родился Шида, еще через год – Салах. Самой младшей была она, Сану. Счастливое ей выпало детство: она росла, окруженная нежной любовью братьев.
Сану тяжело вздыхает, ступает босыми ногами по холодному полу. Жалобно скрипят доски, слышно, как с крыши падают дождевые капли.
– Дождь пошел… А я так и не успела до ненастья управиться с кукурузными стеблями, надо было сразу стог поставить, – недовольная собой, качает головой Сану. Потом раздувает затухающий огонь, подкладывает хворост, присаживается у огня. Опершись руками на щипцы, она медленно раскачивается из стороны в сторону, уходит снова в свои мысли.
– Говорят, война. Гирман напала, – это говорит только что приехавший из Шатоя отец.
Братья стоят рядом, молчат.
– Дада, а кто это Гирман? Это такой сярмик, да? – спрашивает девочка.
Но отец молчит, тогда Сану спрашивает братьев. Но братья словно не замечают ее. Удивленная Сану спрашивает снова. Наконец Дачча берет Сану на руки.
– Да, сестренка, это такой сярмик. Его обязательно надо уничтожить, – говорит Дачча, гладя ее по голове.
У Сану перехватывает горло, и усталой рукой она прикрывает глаза, пытаясь совладать с непереносимым волнением. Ну вот, кажется, отступило… Стало легче дышать, в глазах просветлело.
– Ваши, ваши… А ты пойдешь драться с сярмиком?
– Пойду.
– И Шида пойдет?
– И Шида.
– А потом и Салах пойдет. Возьмет кинжал дады, и, если проглотит его сярмик, Салах как распорет ему живот и выйдет наружу, а потом как ударит кинжалом ему в лоб, и сярмик умрет, – звонким ручейком звенит голос девочки.
Тогда она и вправду верила своим словам. Только никак не могла понять, почему биться с сярмиком уходит первым младший брат. Это потом Сану узнала, что Салах договорился обо всем с работником сельсовета и по повестке, присланной Дачче, отправился на призывной пункт. Сам Дачча и знать ничего не знал, он только удивленно спрашивал Салаха, почему же не прислали повестку ему, старшему. Салах только пожимал плечами и говорил, какая, мол, разница, и тебя скоро призовут. Когда уже пришла на Салаха похоронка, сельсоветовский работник рассказал обо всем Дачче.
– Эх, Дачча! Когда ты стоял во дворе и плакал, я и не догадывалась ни о чем. Я верила твоим сказкам и не могла понять, что же ты не берешь кинжал отца и не идешь биться с драконом. Но недолго я удивлялась, через неделю после поминок по Салаху ушел и ты… И до сих пор не вернулся…
Какие-то едва уловимые звуки отвлекли Сану от ее мыслей. Шепот стихает, женщина напряженно вслушивается.
Шуршание доносится с потолка.
– Бедный наш дом… Теперь вот мыши терзают тебя… Мыши, блохи, ветер, холод. Да, и у дома есть конец, как и у человека. Нет, дада, я не боюсь. Поверьте, Дачча, Шида, Салах… По правде говоря, немного боязно, но свой конец я встречу достойно, никто не сможет упрекнуть меня в слабости. Я знаю, вы тоже достойно встретили свою смерть. Испытать боль, через которую прошли и вы, – успокоение для моей души. Вот почему я не боюсь конца… Но я ждала вас, Дачча, хоть одного из вас, если не суждено было всем избежать смерти! Как хотела я, чтобы от семьи Нажи остался след на нашей земле. Но что могло изменить мое желание! Тот сярмик, с которым сражались вы, был пострашнее сказочного. Опять эти мыши, совсем обнаглели – и снуют, и возятся, будто бы и нет здесь хозяйки, – Сану встает и идет по скрипящим половицам к паднару, присаживается с краю у окна.
– Ты один у меня остался, Шида! Неужели хотя бы тебе нельзя остаться дома? – комнату наполняют рыдания матери.
– Как я могу остаться дома, когда все мужчины идут на войну! – слышится тихий голос Шиды. Закрыв за собой низкую деревянную калитку, брат выходит на улицу. И не взошла больше на этом дворе та изумрудная трава, не взошли те пестро-белые цветы, что подрагивают от каждого дуновения ветра. Они ушли вместе с Шидой навсегда.
– Шида, мой Шида. Ты ушел последним. Это ты должен был убить дракона и спасти своих братьев. Или кинжал твой затупился, или шкура дракона была тверда? Неужто и ты оказался в утробе сярмика и не смог нанести ему смертельный удар?
Шида, Шида! С твоим уходом свет померк в нашем доме навсегда. Помнишь, когда ты уходил, деревья качались на ветру, лепестки цветов кружились в воздухе и медленно падали на землю? Они прощались с тобой!.. А скоро я навсегда простилась и с наной, и с дадой. И осталось нас здесь только двое – я и эта тьма… – тонкой нитью вплетается в дождевую капель шепот женщины.
Затихает ее голос, пустеет комната. Сану прислушивается: совсем тихо стало, даже гула печки не слышно. Догорел хворост. Но во двор выходить не хочется. «Ничего, потерплю до рассвета».
Сану ложится в постель и натягивает на себя одеяло, какой уж тут сон! Она не отрывает взгляда от окна. Скоро прокричат петухи, и тьма рассеется. Сквозь такой же мрак пролегла извилистая дорога ее жизни. В тот день, когда ушел Шида, дорога эта стала едва приметной тропой, ведущей в никуда. Правда, бывали дни, когда туман таял и вдали показывался светлый горизонт надежды…
Тогда мир в ее душе обновлялся: и зеленели леса, наперегонки бежали ручьи и трубили лани, – начиналась круговерть новой весны. И ей страстно хотелось побежать босиком по теплой земле, от которой поднимался светлый парок; хотелось, чтобы легкое платье ее развевалось на ветру, чтобы слилась она в своем стремительном порыве с весной, со всей творящей жизнь природой. Обо всем забывала Сану в такие минуты…
…И все оставалось на своих местах: и дом, и двор, и она – Сану. Куда она могла уйти, куда убежать? Как может она быть счастливой, когда ни Дачча, ни Шида, ни Салах не познали сладости жизни, ее простых человеческих радостей? Нет, в этой жизни счастье не для нее, Сану никогда не покинет дом, который хранит память о вас. Так и будет она год за годом стариться сама вместе с домом, оставляя все меньше и меньше надежд тем, кто хотел бы разделить с нею жизнь. Теперь Сану все реже вспоминает о тех светлых днях, грехом перед памятью братьев кажутся ей они.
Хрипло кричат петухи. Едва заметно начинает светлеть окно.
Еще одна ночь минула.
Женщина вглядывается в наступающее утро. Дождь кончился, рассеялся туман. Засветлел восток.
Надев калоши, Сану выходит во двор и осматривается. Тихо в ауле. Да, не только их дом опустел в ту войну. Сорок таких домов в ауле. Ненасытным оказался тот страшный сярмик. В некоторых дворах лишь одичавшие заброшенные сады остались – ни людей, ни домов. А дом Нажи еще стоит…
– Кончилась ночь, Сану…
Оглянувшись, женщина видит своего соседа, стоящего у плетня.
– Кончилась, Микаил… И ты тоже вышел?
Они долго стоят молча. Болезненно сжимается у Сану сердце. Да, это он… Один из тех, кто звал ее за собой по теплой весенней земле. Сколько же лет прошло с тех пор?! Теперь у него жена Айна, дети…
– Пожалуй, пойду я, – наконец произносит мужчина и, кашляя, идет в дом.
Сану подходит к сараю, открывает дверь. В лицо ударяет теплый запах сена и навоза. Монотонно жуя свою жвачку, лежит в углу корова. Женщина присаживается на ясли около нее.
– Знаешь, Чама, они опять приходили. Дачча сказку рассказал – о трех братьях. До утра побыли и ушли. Такие же молодые и красивые. Правда, Салах повзрослел заметно. А когда насовсем придут, спрашиваешь? Ну кто ж это знает, Чама… Хоть бы один пришел… Если не вернутся, что поделаешь, тогда я к ним уйду… Так уж жизнь устроена. А ты довольна своей жизнью, Чама?.. Тебе бы только лужок позеленей – вот и все твои мечты, да? А может, и ты тоскуешь по-своему, не по-людски, а по-коровьи? Или, может, и мою тоску с собой носишь? Кто знает! Если б не ты, может, и не вынесла бы Сану свою тоску… Чама, эх, Чама!
Пока Сану разговаривает с коровой, небо совсем светлеет. Вздохнув, она говорит с горечью:
– Боже, неужели все, что я делала в жизни, все мои беды, все мои слезы были напрасными? Неужели?
Сану резко поднимается, отвязывает корову.
– Давай, давай, Чама, пошли! Нельзя нам опаздывать. Что скажут люди?! Первая же Айна начнет. Постарела, мол, Сану, даже корову выгнать вовремя не может. Ойц, ойц, пошла! Никогда, пока я жива, люди про Сану так не скажут!..
Погоняя корову, женщина выходит на ведущую за околицу дорогу.
Сквозь утреннюю дымку пробиваются лучи неяркого еще солнца, с каждой минутой оно поднимается все выше, разогревая дорогу, по которой бредет маленькая женщина…
1983.
[1] Дуо – большая плетеная корзина для хранения кукурузных початков.
2 Сярмик – в чеченских сказках – дракон.
Перевод Н. Крыловой.
Кезеной-Ам
Он проснулся перед рассветом, увидев во сне Кезеной-Ам, и понял, что есть еще одно дело, которое он может сделать в жизни: съездить на это озеро. Он пролежал до утра, вспоминая свои мечты разных лет. Теперь не осталось ни одной из них, в сердце и сознании было пусто, как в ласточкином гнезде на веранде по осени.
Сейчас, в свои тридцать четыре года, он понял, что не напрасной была давно выросшая в его сознании тревога о том, что, пока он ищет чистую любовь, надежных друзей, пытается написать картину с самым глубоким содержанием, время уходит, и он остается на обочине, безо всякой любви, без друзей, без написанной картины.
Очищаясь от мрака, как вымытые бутылки, посветлели оконные стекла, заголосили петухи, и в соседнем дворе послышалась возня – это старый сосед круглый год копается в земле, выращивая фрукты и овощи.
Со многими девушками он перезнакомился, много друзей завел, множество картин написал. Но никто и ничто из них не было таким именно, как ему хотелось. Сам ли он виноват в этом или просто так, как хочется ему, не может быть никогда?
«Жизнь не сложилась. Буду жить, помогая родным, их детям, друзьям, односельчанам», – сказал он однажды себе, когда дождливая весна переходила в жаркое лето. Но еще до окончания сенокоса убедился, что надоел всем, и самое лучшее, что он может сделать, – это оставить их в покое. Тогда поселился он в домике на опушке леса, изображая на картинах только природу (когда его спрашивали, почему он не рисует людей, отвечал, что у каждого свое призвание, но это было ложью: не получался человек на холсте, особенно ноги не выходили, приходилось скрывать их либо за камнем, либо в траве); отказался от мяса и масла, довольствуясь растительной пищей; стараясь зарядить свое тело небесной энергией, становился напротив восходящего или заходящего солнца на несколько минут, потом – на голову, задрав ноги вдоль ствола дерева; наблюдая жизнь растений и насекомых, стремился постичь разумом все сущее; но когда поздней осенью ветер начал свистеть в щели домика, так что и топящаяся печь не могла обогреть помещение, он понял, что такое житье не годится. К тому же каждый день приходил и досаждал брат: люди, мол, говорят, что ты свихнулся, возвращайся, если это не так.
Он вернулся домой, бросив начатые картины на пол. Картины были пустыми: не было в них огня – откуда ему быть в картинах, если и в нем самом огня не осталось?
А отчего пустота, почему? Не найдя ответа, он захотел умереть, но не согласен был на трудную, с агонией, смерть. Умереть бы, как лист, сорванный ветром, опускается на землю. Но знал: такая удача выпадает не каждому, и поэтому жил, ничего не делая, предавался размышлениям и растрачивал даром время. Он все же нашел ответ на извечно терзавший его вопрос: пустоту вокруг создает ложь окружающих. Не в силах исправить весь мир, он пытался исправиться сам: оглянувшись на свое прошлое, увидел: все было правильно, все, кроме одного…
Исправить это он и вышел на улицу.
Первому встречному юноше сказал:
– А рисовать-то я не умею.
– Шутишь, наверное. Я же видел твои картины.
– Людей рисовать не умею.
– А-а, – рассмеялся тот. – Разыграть меня хочешь.
С покаянием перед односельчанами ничего не вышло: не было им до него дела, они же не собирались каяться, а суетились с ежедневным мелким враньем, крупная же ложь была внизу. Он спустился в город.
Пошел на собрание худфонда. Вел его прославившийся портретами электросварщиков, токарей, фрезеровщиков знаменитый Калуев, всегда бритоголовый и большеусый. Он снова призывал создавать реальный образ нашего времени и идти с этой целью в цеха фабрик и заводов.
Как только Калуев закончил речь, Орца, задыхавшийся от этой лжи, пулей понесся к трибуне.
– Товарищи, – сказал он, – мы много лжем, поэтому наша жизнь чахнет, так как ложь забила все дыхательные пути. Поэтому каждый из нас должен покаяться… Я каюсь, что врал до сих пор. Я не умею рисовать.
– Как не умеешь? – вскочил Калуев, опрокинув стол. – А как же твои пейзажи?
– Пейзажи немного могу… Людей не могу изображать, особенно ноги…
– Что за чепуху он несет? – вышел из себя Калуев. – Нет ни одного школьника, не умеющего рисовать ноги. Что тут трудного: нарисуй две галушки и черкни пять палочек на конце вместо пальцев… Мне кажется, у тебя голова болит, пойди погуляй на воздухе, не создавай себе ложную славу…
Орца приложил руку ко лбу: ему показалось, что он и вправду температурит: «Надо же – болит». Он вышел из худфонда.
Нет, не о нем пекся Калуев. Ему понравилась низкая самооценка Орцы, но Калуев испугался, что зараза покаяния передастся другим. И тогда… О, если все начнут говорить правду, рухнет и душевный покой Калуева, и покой его желудка.
Идя по городской улице, Орца словно впервые видел дворцы, выстроенные из человеческой лжи, их с каждым днем становилось все больше. Орце снова захотелось умереть, ибо только редкие юные лица светились чистотой. Но накладывать на себя руки – глупо, этим он лишь оставит повод для упрека подрастающим поколениям. К тому же самоубийство – признак малодушия, оно не подобает мужчине. Или влюбиться, что ли, в юную девушку с сияющим лицом? Но это, второе, казалось невозможным – разве что поможет космическая энергия… Сколько раз обжигался он на печальной, несчастной любви…
Кезеной-Ам приснился ему в ночь, когда Орца ночевал у городских родственников.
Когда-то Орца, не видя озера в глаза, нарисовал его по цветной фотографии после прочтения рассказа «Рыбалка на озере Кезеной-Ам» писателя Камаева, живущего в Ведено.
В рассказах и стихах этого писателя Орца находил нечто, созвучное своей душе. Но с кем бы он ни делился своими впечатлениями, никто его не понимал. Один писатель даже выразился в таком роде, мол, Камаев сам не понимает того, что он несет, – и покрутил пальцем у виска. Но книги «сумасшедшего» Камаева казались Орце мудрее книг, написанных умниками.
На рассвете, осторожно ступая, он вышел из дома родственников и направился на автостанцию.
– Подавай автобус, – сказал он начальнику автостанции.
– Подам, когда время подойдет, – ответил тот.
Когда Орца попал в Ведено, Камаев сидел на скамейке у дороги.
– Приехал, – сказал он, словно только и ждал Орцу.
Потом они долго искали машину, обивая пороги жителей и организаций. Всюду, куда бы они ни приходили, что-либо не ладилось: у одной машины не было колеса, у другой тоже, у третьей болел «живот» – подшипник сломался, у четвертой машины «сердце» болело – барахлил мотор…
– Они словно сговорились против меня, – сказал Камаев.
– Кто они?
– Все, кто заелись моим хлебом, выросшим после моего дождя. Сто семьдесят миллиардов долларов они мне должны – не отдают. Вот что значит иметь дело с подонками.
Наконец они наткнулись на жизнерадостного, веселого, бьющего через край молодой энергией, с вытаращенными всеми четырьмя глазами «Жигуленка», готового рвануть с места в карьер, задрав хвост трубой.
Его хозяин, молодой золотозубый человек, принял их приветливо, без умолку хохоча. Он был доволен своей жизнью: деньги есть, жена, дети, здоровье… Не хватало ему лишь одного – славы. А как завоюешь славу без способностей? Разве подружиться с талантами…
В таланты этих двоих он тоже верил мало. Однако, узнав о том, что многие известные писатели – Эдгар По, Кафка, Достоевский, Гаршин – страдали той же болезнью, что и Камаев, он решил на всякий случай держаться поближе к «сумасшедшему» писателю: авось и о нем не забудут.
– Я отвезу вас на Кезеной-Ам, только мы должны сфотографироваться вместе, – решительно сказал он.
Камаев промолчал, раздумывая: нет ли тут подвоха? Но Орца согласился сразу.
Оставив машину у базара, Камаев ринулся делать закупки. Орца подивился их размерам: десять килограммов мяса, лук, пять-шесть буханок хлеба, арбузы, дыни.
– Что ты собираешься делать? Не съедим же всего.
– Найдется, кому есть.
Дорога, петляя, тянулась в гору: Харачой был виден как на ладони.
– Сколько лет ходил в абреках Зелимхан Харачоевский? – спросил Орца.
– Двенадцать.
– Однако изрядно.
– Не изрядно. Было бы изрядно, если бы у него был собственный вертолет, – сказал Камаев, суя в рот папиросу.
– Ва-ха-ха, ва-ха-ха, – засмеялся молодой человек, бросив руль. – Вертолет, ха-ха-ха…
Машина вильнула к обочине, и Орца увидел глубокий откос: сорвись они туда, поднимать будет нечего, машина разобьется, их из машины вышвырнет, и полетят они вниз порознь, колотясь головами о камни…
– Руль, руль!.. – завопил Орца, хватаясь руками за голову. Шофер быстро выровнял машину. Камаев обернулся к Орце с переднего сиденья:
– За машину не бойся. Это я ее веду, хотя ему кажется, что он…
Но, кто бы ни вел машину, Орце не улыбалось лететь в пропасть, разбивая голову о камни и ломая кости. Свою смерть Орца представлял так, как описал Лермонтов: «Я б хотел забыться и заснуть». Но…
Машина рыскала по горам, как орел, высматривающий добычу. Прервав долгое общее молчание, Камаев посмотрел шоферу в рот и спросил:
– Откуда у тебя золото?
– Привез из Магадана. А тебе зачем?
– А может, ты его в наших горах нашел?
– А разве в наших горах есть золото?
– Несколько тонн лежит, еще предками нашими спрятано.
– Правда? – опешил шофер и снова отпустил руль. Но вывернул раньше, чем машина сорвалась в пропасть.
– Завтра же пойду его искать.
– Не трудись зря, – спокойно сказал Камаев, – ты его не найдешь. Слишком глубоко запрятано.
Еще на полпути Орца заметил, что здешняя природа очень не похожа на изображаемые им пейзажи. На его картинках природа была мягкой и живописной. А тут – суровая, тяжелая для души. Красота в ней, если и была, то совсем иного рода.
Когда он увидел озеро, на душе стало совсем тягостно. Не из печали ли сотворены вы, кремневые горы?
Орца опустил стекло и высунул голову. Холодный ветер обжег лицо, но он, не обращая внимания на это, смотрел на озеро, лежащее у подножия толпящихся гор. Нет, оно образовалось не оттого, что вода затопила аул, отказавший гостю в ночлеге, а гораздо раньше. Миллионы лет назад, когда земля бурлила, дыбилась, сдвигая и руша горы, в то жестокое время скатилась сюда эта слеза небесного милосердия и застыла среди камней.
Камаев имел свою легенду о возникновении озера: якобы сотворил его один юноша в честь любимой девушки. Где юноша достал столько воды, Камаев не объяснял. Или, не желая выходить за другого, девушка бросилась в пропасть и погибла, а озеро образовалось из слез влюбленного?..
Остановив машину у озера, молодой человек навел фотоаппарат. Едва он успел занять место рядом со своими спутниками, аппарат щелкнул.
Полюбовавшись озером, они поехали в Макажой и остановились в сторожке.
Водитель открыл дверцу машины и включил магнитофон.
Неизвестный певец, явно пользуясь привилегиями гласности, предоставленной Горбачевым, пел под гитару о шейхе Мансуре, имаме Шамиле, Байсангуре, Зелимхане Харачоевском… Пел о выселении чеченского народа.
О горе своего народа он говорил по-русски. «Это тоже примета нынешнего времени», – подумал Орца. Песня о выселении завладела его сердцем, и Орца даже почувствовал комок в горле, когда певец в конце куплетов выводил надрывное «О-о-о!»
Зажмурив глаза, Орца слушал: «…их выводили, как скот», – представляя себе вереницы изгоняемых из края людей. Рваные полушубки, черкески, сыромятная обувь, плачущие дети, рыдающие женщины в одних платьях и пледах, старики; стужа и горе, и лица, лица, в каждом из которых – тайна мироздания; одно лицо, не похожее на другое, – повторение облика предков, живших тысячи лет назад; лица, подавленные обрушившейся на них бессмысленной жестокостью…
– Не надо, не надо, не надо-о!.. – кинулся навстречу этим лицам Орца. Но люди исчезли прежде, чем он успел добежать до них. Вокруг – немые камни, пестрая от звезд темная ночь, костер невдалеке.
– Ты что? – спросил его молодой человек.
– Не бегай зря, – сказал Камаев, – прошлого не догонишь. Оно удалилось дальше нашей метагалактики.
Камаев резал большими кусками мясо, бросал его на угли, не обращая внимания на предложение молодого человека делать шашлыки на шампурах.
– Это место, где найдены самые древние следы деятельности человека в Чечне, следы жизни людей, живших 50-60 тысяч лет назад… Вот так же они, наверное, жарили после охоты мясо… Знаешь, что я сделаю этим летом? Отыщу спрятанное золото, – ворошил Камаев куски палкой, – отдам тебе, выстроишь дом и будешь жить спокойно и рисовать.
– Тогда я напишу твой портрет на фоне озера Кезеной-Ам, – улыбнулся Орца.
– Пейзажи у тебя хорошо выходят.
– Теперь я буду изображать и людей.
Каждый испекшийся кусок Камаев отодвигал от огня, и он исчезал в один момент. Сам Камаев не ел – он пил. Не прошло и часа, как и мясо, и арбузы, и дыни, и хлеб были уничтожены. Удивительно было, как три человека могли съесть столько… казалось, что в ужине участвовали и невидимые «работники». «Найдутся люди, которые съедят это», – вспомнил слова Камаева Орца.
Они поужинали, костер погас. Им хотелось прилечь, но земля была холодной. Спутники сели в машину. Водитель тронул ее с места.
– Я и горскую вечеринку вам покажу, на которой в самый разгар гасят лампу, – с громким хохотом объявил молодой человек.
Ехали довольно долго, пока не прибыли в какой-то аул. В ауле было темно и тихо. Наконец, заметив в одном из окон свет, они двинулись туда. При свете фар прочитали надпись на транспаранте, растянутом по обшарпанной стене: «Ударный труд на вывозке навоза». Спутники вышли из машины и подошли к дому. Дверь была заперта изнутри. Подошли к окну. Внутри сидели человек четырнадцать: мужчины и женщины. Перед ними стоял, вытянув вперед правую руку, мужчина с горбатым носом и усами, завивающимися за уши. Двух передних зубов у него не было и он, произнося речь, шепелявил:
– Товарищи! Продвигаясь вперед на вывозке навоза, мы придем к коммунизму. Сегодня мы вывезли тридцать саней, завтра…
– Что это за собрание? – спросил Орца у девушки, стоявшей у окна. Она была самой молодой из всех присутствовавших.
– О, каждую ночь до трех часов. Весь день заставляет разбрасывать навоз по камням, – прошептала девушка, чья красота была заметна даже при свете чадящей керосиновой лампы.
– А почему именно вы? Где все остальные?
– Не осталось больше никого, сбежал народ от него на равнину. И нам он говорит: не нравится – уезжайте. А нам идти некуда.
Несмотря на подавленность, девушка, как заметил Орца, была от природы жизнерадостной. Но жизнерадостность ее грозила иссякнуть через несколько лет подобной жизни.
– С кем ты там шепчешься? – крикнул щербатый.
– А ты чего изводишь людей пустыми разговорами? – крикнул в окно Орца.
Все удивленно взглянули в окно. Некоторое время стояла тишина, потом щербатый раскрыл рот:
– Ты кто? Откуда? Барбош! Жульбарш!
На звук голоса щербатого из темноты залаяли собаки, разорвав тишину в клочья. Так же они могли поступить и с путниками, не сядь те вовремя в машину.
Шофер включил зажигание и повернул из аула назад. Вернулись к Кезеной-Аму, вышли из машины и снова стали любоваться озером. В воде купались звезды. Орца присел и опустил руку в воду – она была холодной, руку свело. Камаев что-то нашептывал и смотрел поверх озера.
В полночь они достигли спуска с перевала. Молодой человек остановил машину и сказал:
– Странно, никогда со мной такого не было: не могу рулить, спать хочется.
Камаев давно спал. Потушив фары, уснул и водитель.
Терзаемый тяжелыми предчувствиями, Орца услышал вдруг какие-то звуки; вслед за этим перед машиной возникло лохматое чудище в два человеческих роста. Оно тянулось к машине. Стало так страшно, что Орца закричал: «А-а-а!»
Проснулся водитель, включил фары – чудище исчезло.
– Что случилось? А? – спрашивал Орцу перепуганный водитель. Камаев тоже проснулся и сидел, моргая глазами.
– Что-то большое, огромное, оно хотело поднять машину и бросить ее в пропасть, как шапку.
– Померещилось. Прочти молитву, – водитель тронул машину в путь.
– Не померещилось. Я знаю его, – сказал Камаев. – Это Шайтан Магома. В конце концов, надоест он мне, я сам приподниму его и тресну о камни, как он чужие машины.
– Что-то в этом есть. Недаром, видно, тут несколько машин в пропасть свалилось по неизвестной причине, – сказал водитель.
Минут через пятнадцать ситуация повторилась: Камаев захрапел, водитель сказал, что ехать не может и хочет спать, остановил машину и выключил фары. И как только он задремал, снова появилось чудище.
Не успел Орца крикнуть – чудище приподняло машину… «А-а-а!» – прорезал тишину крик Орцы. Водитель проснулся, дал свет – чудище исчезло.
А Орца успел разглядеть его физиономию: кривой рот, горбатый нос, нет двух передних зубов.
Спать больше никто не мог, машина спустилась в аул. Располагаясь на ночлег, Орца сказал:
– Ничего, если я оставлю свет?
– По мне, хоть солнце здесь повесь, – сказал Камаев, отворачиваясь к стене.
Орце приснился яркий солнечный день и Кезеной-Ам. На берегу, болтая ногами в воде, сидела, улыбаясь, девушка, которая была у окна конторы. Он смотрел на ее ноги, казавшиеся дутыми из белого стекла… Тут прозвучало: «О-хо-хо…» – и все исчезло, затянулось туманом и облаками…
Орца проснулся от гудения в ушах «о-хо-о-о». Он вышел на воздух.
Близился рассвет. Орца взглянул на юг. Вершины гор с этой стороны были окутаны туманом. Шайтан Магома сделал свое дело.
Теперь Орца точно знал, кто такой Шайтан Магома и что он творит: захватил край, а когда чеченцы вернулись, устроился колхозным бригадиром и всячески пытается прогнать людей с земли отцов, чтобы снова полновластно править краем.
Но его мечтам не суждено сбыться, ибо Орца сегодня же вернется туда.
Вернется, хотя и тревожно на сердце. Но Орца подавит тревогу. Он должен выгнать шайтана Магому.
Он должен вызволить из плена девушку, сидевшую у окна.
А после он нарисует ее, полоскающую ноги в озере Кезеной-Ам. Улыбающуюся. Сначала он нарисует белые ноги, ведь все можно сделать, стоит только очень захотеть.
1989.
Перевод И. Окарова.
Время
Окна многоэтажных домов прикрыли отяжелевшие от сна веки. Многие. В других еще горит свет. Почему не ложатся живущие за нами? Какое-то веселье или?..
Иногда, оставляя на тишине полосу шума, по улице проезжает одинокая машина. Он долго смотрит на эту полосу, она кажется ему подобной оставленному на снегу санями следу. Сперва снег бывает чистым, потом на нем проявляются следы, пятна, кляксы.
В детстве перед каждым лежит снежное пространство – жизнь. Потом он начинает оставлять на нем следы. Следы… Он видит свои следы. Если бы можно было побежать по ним обратно и начать вновь… Тогда не было бы сожалений.
«Ва-ха-ха!» Он опешил от этого смеха. Многоэтажные дома смеются над ним. С обеих сторон. Дрожа оконными стеклами.
– Этого нельзя сделать. Время уходит, пока ты здесь стоишь…
– Где?
Взглянув вверх, он видит уходящее над высокими домами время.
– Время, время, время… – с мольбой зовет он.
Но оно уходит, не замечая его. Уходит за горизонт. Элмарза, ты и сегодня стоишь, вспоминая сладость ушедшего времени. В твоих ушах звенят голоса недавно, несколько часов назад, зазванных тобой в дом гостей. Их было трое. Друзья твоей молодости. Тогда вы всегда были вместе. Тогда вы беседовали, мыслили, радовались друг другу.
Вы мечтали вырастить большой сад, чтобы каждую весну он расцветал на радость людям. И чтобы ни один его плод не был продан на базаре – вы хотели дарить людям плоды своего сада. И вы посадили саженцы. Но потом, не ухаживая за ними, по одному отстранились. Сад остался тебе. Но зачем тебе нужен был он, когда не стало рядом тех троих?
Элмарза, ты помнишь то ненастье, начало весны?
Он пришел в село, когда солнце заходило и начало холодать. Он шел по склону, стараясь не ступать в грязь, перескакивая с кочки на кочку. Ты очень обрадовался, когда увидел его, шедшего к тебе.
Почему-то в последнее время тебе было неспокойно. Когда Солса появился, ты обо всем забыл и успокоился.
После того, как он вычистил свою обувь, вы вошли. Доски скрипели под ногами.
– Это и есть ваш клуб?
– Да.
Потом вы уселись на задних местах. Сидели, съежившись от холода. Слушая грустную песню:
Земля, земля, солнечная земля,
Ты вся в цветах лежишь…
У поющих эту песню девушек руки покраснели, и все же голоса их не были холодными.
Вы вышли оттуда в наступающую темень, насвистывая только что услышанную мелодию песни.
– Когда я услышал эту песню, я вспомнил солнечный дождь, – сказал Солса.
Потом:
– Я заплакал бы, когда услышал ее.
– Как?
– Если бы тебя не было.
Потом, через несколько месяцев, он сам удивлялся: почему сказал эти слова? Какое-то предчувствие было.
В те три месяца сгорела дотла твоя зеленая весна, Элмарза. Земля не лежала в цветах, она крутилась в тумане невзгод. Голоса не звали в синие хребты. Ты весь сгорел. Остался один футляр, внутри – зола. То, что казалось тебе в детстве, оказалось не таким, Элмарза. Жизнь, оказывается, не была легкой и сладкой. Жизнь была жестокой и прекрасной.
Тебе захотелось, Элмарза, вновь оживить свою весну. Прежней-то не будет. И все же… Тогда ты подумал: «Люди появились на земле для того, чтобы помочь пережить лишения, когда они постигают кого-то. Чем больше на земле становится лишений, горя, тем больше становятся люди, чтобы противостоять им».
Сад насытился дождем. Деревья уже качают головами: «Не хотим!» Но он все равно не перестает лить. Не выдерживая этого насилия, с самого верха скатывается один плод. Он ударяется о другой, тот – о третий, и – вихрь яблок.
Спелые яблоки купаются в лужах дождя. Быстро ходят собирающие их руки. Слышится шум стучащих о ведро яблок. Он стоит под дождем, глядя в соседний сад. Когда ведро наполняется, девушка встает. Обтерев ладонями яблоко, кусает его. Ее глаза останавливаются на Элмарзе. Она смотрит с ожиданием. У нее хватило бы силы оживить сгоревшую, лежащую в пепле весну. Она подходит, смотрит на его жизнь – на лежащую в пепле весну. Смотрит, приподняв брови. Небо издает гром – в экстазе смеется от ее красоты, дождь обнимает ее, изящную, высокую, ее, чей взгляд гордо-спокоен.
– Хочешь яблоко?
– Нет, весну…
Она ногой размешивает золу от сгоревших цветов и сада. И ничего не делает для того, чтобы не потухли оголенные ею угли. Льющийся дождь тушит их. Жизнь жестока и красива.
Она осталась в сознании, превратившись в свет, который в предрассветную пору еще до удара грома проникает в окно.
Тогда он вспомнил высаженный ими сад дружбы. Ему очень нужен был воздух этого сада. Сад находится вон за тем хребтом. Он выходит на ведущую туда дорогу.
Дойдя, видит, что на месте бывшего сада расхаживает стадо коров. Они съели ветки деревьев. Некоторые деревца, вырванные вместе с корнями, валяются здесь же. А рядом – черные ямы.
– Эй, есть тут кто?
– Я здесь.
Он видит одного из своих товарищей, идущего с вырванным вместе с корнем саженцем на плече.
– Что смотришь так недовольно? Мне от этого сада не досталось ничего, кроме одного этого саженца. Кто жег, унося домой, ограду этого сада? Кто высаживал у себя дома сады, унося отсюда саженцы? Вы, вы, вы!
– Я не высаживал.
– Если не ты, то другие… – он, сердито махнув рукой, уходит.
Эх, Кахарма! Ведь этот сад тебе не от отца твоего достался, чтобы ты занимался его разделом. Его же посадили на пользу людям. Ты не старайся прикидываться обозленным. Кажется, что ты первым сломал ограду и загнал в сад коров: очень они похожи на тебя и поведением, и взглядами. Но долго не будут ходить тут. «Хойц! Хойц!»
Он гонит коров. Но они, исчезая в одном месте, появляются в другом. Пот рекой льется с него. Он, устав, падает навзничь.
– Сад, сад, сад. Не думалось, что ты так исчезнешь. Когда тебя сажали, по траве стекали воды, множились цветы. Золотые яблоки ты должен был растить. А на твоих деревьях даже кислые яблоки не выросли. Вместо тебя здесь стоит бурьян конфликтов. Сад, сад молодости, сад ожиданий и надежд.
Потом он идет искать Солсу. Находит его бегающим по улицам города.
– Солса, не ты унес саженцы из сада?
– Что? Зачем они мне нужны? Пошли быстрее, – он побежал, подхватив его.
– Ты умеешь класть камень?
– Зачем тебе?
– Строить дом.
Они остановились.
– Когда уйду, в сердце моем будет какое-то беспокойство.
– Какое беспокойство?
– Как?
– Не такие сладкие сейчас встречи, горькие…
– Это время виновато.
Сказав это, повернувшийся Элмарза впервые увидел уходящее время. Он побежал за ним вдогонку. Пересекая улицы, дороги. Весь город смотрел на него удивленно.
– Время, время, время… – он звал его, плача и крича. Но оно неотвратимо удалялось. Он пытался сделать невозможное – поймать его. Побежал еще быстрее. Сейчас, сейчас… Но время, ударив по его лицу крыльями и оставив на нем морщины, исчезло высоко в бесконечности неба.
Солса все-таки нашел умеющего класть камень. Он построил из камня не только дом, но и высокую ограду вокруг него. Это вон тот высокий дом, в его окнах до сих пор горит свет.
Нет, ты не пойдешь туда, Элмарза.
Ты вспоминаешь упавшие спелые плоды с груши, посаженной неким в далекие времена, еще тогда, когда солнце терялось в зеленых чащах гор. Многое ты вспоминаешь. Ты удивляешься: «Тогда я был намного богаче мыслями, чувствами. Теперь обеднел».
– Ты входишь в дом. Дверь визжит, будто пойманная мышь. Ты слышишь недовольное ворчание хозяйки дома, у которой вечная бессонница из-за старости.
– Могу я хоть за пятьдесят рублей входить и выходить, когда захочу? – полушепотом говоришь ты.
Потом прислушиваешься: неужели она услышала? Не услышала, к счастью.
В комнате посуда на столе. Ты хорошо подготовился к этому вечеру. Ты хотел заговорить с ними о саде.
Они сели за стол, на котором было поесть и попить.
Кахарма шутил. Но для сидящих здесь оставалось тайной смешное в его шутках. Сам же он смеялся, заливаясь.
Жаммирза сидел, глядя в окно и улыбаясь.
Солса ел мясо, часто приговаривая:
– Не поймешь, чем ты занимаешься. Ты встал, чтобы говорить.
– Я хочу поговорить о саде. Вы помните, как он был красив, когда мы его посадили? Он всегда светился. Светился светом заходящего солнца.
– Садись, покушай, оставь сад, – перебил тебя Солса.
– Да, ага, – мотнул головой Жаммирза.
– Сад-то нужен. Сад очищает воздух. Еще за фрукты хорошую цену дают. Почему ты не записываешься в общество садоводов?..
– Да, ага…
– Я же не про этот сад. Сад дружбы…
– Понимаю. И общество это называется «Дружба». Вон на окраине города, стоит только заплатить десять копеек, на автобусе…
Тогда ты понял, почему на земле столько сожженных солнцем пустых пространств: Сахара, Каракумы и другие… Они возникли на месте сгоревших садов людских отношений. Теперь они еще на один гектар увеличились. В них не оживут сады, сколько бы ни шли дожди.
Теперь ты стоишь на окраине выжженной бесконечности, проливая слезы. Они превращаются в пар, не доходя до земли. Что ты сделаешь?
Ничего. Вот так, отодвинув посуду, присядешь. Перед тобой снежная равнина – чистый лист бумаги. Ты на нем напишешь об этих сумерках.
Эти сумерки опустились за хребты, принеся успокоение.
Выкипевшая в весенний день природа, испытывая сладкую истому, притихла. Ты стоял, прислонившись к столбу старого навеса, и глядел во двор. Он – под выжженными во дворе яблонями, глядя на запад, с большим окрашенным ведром в руках. Там, на горизонте, еще не исчез желтый свет дня. Он, прикрыв глаза, ненасытно смотрел на него, будто стараясь помешать его исчезновению. Но свет, понемногу тая, исчез окончательно. А он все стоял, повернувшись на запад. Он, переступивший порог восемьдесят третьего года своей жизни, тонкий, высокий старик, похожий на высохшую и отвердевшую жердь навеса. Когда он несколько лет назад сказал: «Беды наваливались на меня много раз: двадцать трех родных предал я земле», ты подумал: «Наверное, как привычно воспринимаешь ты горе»; но позже, когда, сказывая легенду о вероломстве, постигшем некоего князя Хаси, он заплакал, ты сожалел, что так подумал. Нет, нелегко он пережил эти расстояния. Каждый из них ушел, унося с собой частицу его души. Теперь он, лишившись двенадцати братьев, пяти сестер, отца-матери и детей, два месяца назад похоронив жену, которая долго тяжело болела, остался совсем один.
Тебе казалось, Элмарза, что наконец-то время его побороло. Но ты увидел, как он в один весенний солнечный день запрягает коня. Ты этому очень обрадовался, как солнечному дождю в детстве.
Скоро он вспахал землю, посеял кукурузу.
С гордостью ты смотрел на него. На него, который понимал, что в конце концов он проиграет и, все же не желая уступить, вел вечную борьбу с временем. Он был берег, который ежедневно подтачивает вода. Так боролось с ним время.
А вечер исчезал, превращаясь в ночь. Наполненный кваканьем лягушек, запахами весны.
Время, время, что же ты такое? Когда и где начался твой путь, когда и где он прервется? Куда ты устремилось время?
Ты долго стоял, задумавшись. Когда пришел в себя, ты увидел на месте, где стоял старик, тьму. Потом услышал шум стекающего в ведро молока. Старик доил корову.
1983.
Перевод автора.
Деревянные куклы
Раздавшийся неподалеку хлесткий звук разбудил Дени, он увидел падающий в окно лунный свет, в соседней комнате слабо заплакал ребенок. Дени понял, что это за шум, когда тишину опять нарушил грохот выстрелов, вспомнил, что живет в суверенной стране, и поэтому не может быть несчастлив.
Когда ребенок заплакал вновь, Дени перешел в ту комнату и, откинув полог с колыбели, прочел «Шахадат» – ребенок плакал во сне. Он вспомнил слова матери: ребенок плачет во сне, когда ангелы ему говорят, что родители его умерли. Какая жестокая шутка для маленького, беззащитного человека, пришедшего откуда-то из вечности на эту холодную, жестокую, полную угроз землю, не имея никого, кроме родителей! А может, ангелы не шутят? Может, они готовят маленького человека к этой жизни, заранее давая ему познать горечь беды?
Земля – своеобразный ад, созданный для испытания человеческих душ. Испытание начинается с момента рождения. Жизнь – тоска, жизнь – боль, редко, раз в десять лет, душа обретает покой.
Проснувшаяся мать извиняется:
– Кажется, я задремала.
Колыбель, ритмично раскачивающаяся под ее рукой, просеивает плач ребенка, как сито просеивает кукурузную муку, рассыпает его по миру, пока он не исчезнет.
Он идет в свою комнату и садится за стол. Вырезанные им из дерева образы, стоящие на столе, в свете луны кажутся призраками удивительных животных, живущих в непроходимой чаще леса.
Дени освоил это ремесло – вырезать из дерева человеческие образы – еще в детстве, когда отец взял его в горы пасти овец. Отец не одобрил увлечения сына: бесполезное занятие, кроме того, изображать людей запрещено религией. Но вошедшая в кровь привычка гнала эти мысли прочь.
А когда на его скульптурную композицию «Зимний день в горном ауле» – на доске (метр на полметра) он изобразил основные события, которые происходят в ауле в течение одного зимнего дня (в углу стояла высокая башня; вокруг беспорядочно разбросаны дома; там с горки на санках катаются дети; тут, на центральной площади аула, собрались мужчины; мимо них, погоняя двух волов, запряженных в сани, идет старик по дрова либо за сеном; чуть поодаль, у родника, стоят юноша и девушка; гонит с водопоя овец мальчик, а рядом с ним большая мохнатая собака) – обратили внимание на выставке в Москве, у него не осталось сомнений в том, что он на верном пути.
И тогда весь дом заполнили деревянные скульптуры, и чем больше их становилось, тем больше росло недовольство отца: «Мой в тридцать лет играет в куклы, а чужие сыновья давно уже начали жить самостоятельно», – ворчал он.
А однажды зимним утром, когда мать никак не могла растопить печь, отец взял самую крупную из его скульптур, разрубил на мелкие сухие деревяшки и положил в печь. Дени молча глядел на огонь, который мать растопила из его скульптуры, и тихо оплакивал в душе свое творение. Увидев огорчение сына, отец, казалось, тоже был огорчен: «Ты что приуныл, как на похоронах самого дорогого человека? Вырежешь новые деревянные куклы – тут во дворе жерди, привезенные мной, возьми какую хочешь, хочешь бук, хочешь липу. Закончатся они – так в лесу еще немало деревьев».
Он промолчал, хотя сразу же простил отца, промолчал и за завтраком, когда отец попытался шутить (не хотел молчать, но бес попутал), промолчал и позже, когда отец запряг коня в сани и пошел на лесную поляну за сеном, оставляя следы на свежевыпавшем снеге. Досада на самого себя, возникшая у него в тот день, когда он торопливо, часто дыша, шел по следу саней за задержавшимся отцом, год за годом в душе тяжелела и росла, заставляя сердце биться все слабее и слабее. Когда посреди заметенной снегом поляны, на санях, полных сена, он увидел снежную пыль на холодном лице внезапно умершего отца, эта жестокая досада, разбив, как стекло, на мелкие осколки его сердце, попыталась вырваться и уйти в темные высоты, туда, в холодную пустоту, где скитаются беды и печали других людей. Поначалу его сознание согласилось с этим, но, вспомнив долг перед матерью и младшими братьями и сестрами, он удержал в себе эту досаду, жгущую ему сердце расплавленным свинцом.
Пламя творчества, вспыхнувшее в нем в детстве, слабело с годами, но он не сдавался, трудился день и ночь. «Ты почти уничтожил весь лес вокруг нашего села», – шутили соседи. Так проходил день за днем; сначала наступала зима, потом весна, потом лето, потом осень, а после все повторялось вновь; молодые взрослели, взрослые старели, а старые, глядя усталыми глазами на оставляемый ими мир, умирали. Только он один застыл, не взрослея и не меняясь.
Он изменился неожиданно, когда в гости приехала сестра, моложе его на десять лет. Сын и дочь сестры играли во дворе с сыновьями брата, который был на два года младше сестры, и во время игры кто-то из «хозяев» обидел девочку, та заревела, и Дени пришлось их мирить. Вот тогда и возникла мысль: «Чем я занимаюсь?.. У людей семьи, у них какие-то цели в жизни: построить дом, купить машину, устроить детей в школу, одеть их, обуть…» Только у него нет никаких таких дел. Его забота – вырезать из дерева куклы, но, как бы тщательно он над ними ни трудился, они никогда не улыбаются, никогда не разговаривают, не плачут, как племянники, они холодны, и этот холод пронзает его сердце. Потом, не имея сил работать, он до глубокой ночи сидел, опустив руки, а когда прилег на жесткую деревянную кровать без матраса и одеяла, так и не смог заснуть до самой зари.
Когда он открыл глаза, то увидел, как в окно щедро бьют лучи летнего солнца. Во дворе играли дети, кудахтали куры. Мать, возившаяся под навесом, увидев, что он проснулся, крикнула ему, чтобы он шел завтракать.
Позже, когда он сидел за круглым низким столом, обмакивая лепешку в сметану и запивая ее сладким чаем, неожиданно возникла мысль: надо уехать в город, там оценят его творчество, во всем виновато село, в городе на него обратят внимание.
Он окончательно потерял интерес к селу, когда мать, вопреки его воле, пошла к живущей на краю села Бекисат засватать ее внучку. Та обошлась с ней очень невежливо, и мать, проклиная ее на чем свет стоит, вернулась домой, швырнула шаль и в сердцах сказала: «Во всем виновата я, что пошла к неблагодарным людям». Мать обиделась не на отказ Бекисат, а на слова, сказанные ею в адрес сына: «Только этого, играющего в куклы, нам и не хватало». Дени тоже сильно задели эти слова, ему показалась очень жестокой насмешка над его трудом, которому он предавался с таким усердием, как праведный мусульманин молитве. Но, прислушавшись к сельчанам, он понял, что не одна Бекисат так о нем отзывается. И однажды, взяв у матери около ста рублей, вырученных ею от продажи фасоли, он утренним автобусом уехал в город. А через несколько месяцев почувствовал себя еще более несчастным, чем в селе. В домике, снятом им на городской окраине, было холодно и одиноко. В селе согревала хотя бы мысль уехать когда-нибудь в город и стать известным. Сейчас и этого не было. Но все равно, как бы ни душил холод обиды, он, беззвучно рыдая, резал дерево.
Казалось, куклы получались лучше, чем раньше. Состояние его души переходило к дереву, поэтому в глазах скульптур навсегда застыли его печаль и его ожидание. Каждого деревянного «ребенка» сразу же по рождению он выставлял на продажу в магазин художников, но покупателей все равно не находилось, хотя цена была и невысокой. Он каждый день наведывался в магазин, где продавцы каждый раз милосердно улыбались ему:
– Как красивы твои скульптуры! Только никто не покупает…
Но однажды перед его композицией «Зимний день в горном ауле» остановилась девушка. Она долго рассматривала ее, потом подошла к кассе и заплатила. Две продавщицы переглянулись и как-то странно улыбнулись.
– Что же ты не купишь еще одну? – спросила одна из них, подмигнув Дени, стоящему у окна.
– Как-нибудь в другой раз куплю, – сказала девушка.
Когда она вышла, он направился следом за ней, слыша за спиной смех продавщиц.
Через несколько дней в магазине не осталось ни одной из его скульптур: некоторые купила та девушка, другие он ей подарил. Позже они вместе наблюдали, как с деревьев на городских улицах, желтея и краснея, падает листва. Потом, подобно этой листве, в воздухе начали кружиться снежинки. И их, оторванных от земли любовью, не чувствующих крепнущих морозов, подобно двум снежинкам, кружил ветер жизни. Эти дни, вечера и ночи были удивительны и сладки, но один вечер, со снегопадом и ветром, был не похож на другие. Они вдвоем стояли под высоким навесом у железной дороги и слушали скрип раскачиваемых ветром деревянных деталей. Неизвестно почему (может быть, зимняя стужа одолела и тепла их любви не хватило, чтоб растопить ее, а может, судьба посылала ему какой-то сигнал), но вся его жизнь – до этого момента и то, что будет в будущем, – показалась ему похожей на этот навес в метели. Нет, не в силах Марима превратить этот навес в дом, не в силах приручить его одичавшую душу. Неужели не в силах? Если она не сможет, то кто же? Ему захотелось обмануться: кто знает, может, этой девушке удастся защитить его от ветра одиночества, пронизывающего его тело, словно сито.
Без шума, тихо, в студеную зиму привел он Мариму в арендованный им дом. Чем меньше людского внимания, тем лучше – казалось ему. Марима, оказывается, думала иначе. Позже, через полгода, она призналась ему, что ей хотелось шумной, со звонкими песнями свадьбы.
А когда началась совместная жизнь, груз обязанностей с каждым днем становился все тяжелее, тяжелее и тяжелее, и, чтоб не пасть под его тяжестью, он, просыпаясь среди ночи, садился за рабочий стол и до утра занимался резьбой. Изредка Марима намекала, что надо бы как-нибудь заработать денег, купить жилье, кое-какую обстановку, а потом спокойно заняться творческой деятельностью. Эти нравоучения он отметал от себя, мотая головой, как конь, отгоняющий назойливых мух.
А однажды ночью, после вечеринки с друзьями, придя домой слегка навеселе, он стал кричать: «Я великий художник! Я презираю тех, кто богатеет на торговле тряпками. Мое имя будет жить в веках! Кто подобен мне? А?»
Марима в ту ночь не сказала ни слова, а это было тяжелее всего. Ему казалось, что, как только он перейдет на крик, жена тут же возразит и начнет перечислять ему все, что не сделано, и все, что необходимо по дому, а он, доказывая, что все это малозначительно, будет настаивать на своем… Без лишних слов он легко получил победу, и она не принесла ему радости. Наоборот, горьким комом застыла в горле, не растворяясь даже после нескольких стаканов воды. А утром, сидя за завтраком, состоящим из хлеба и чая, он подумал: «Я, конечно, великий художник, но где-то заработать денег все равно надо».
В конце холодной, влажной весны в их дом пришла маленькая гостья и через неполных два месяца научилась виновато улыбаться родителям. «Мы ждали мальчика и уже придумали ему имя, как будто не могла родиться девочка. А она пришла, хотя ее никто не ждал, поэтому чувствует свою вину за наше обманутое ожидание», – подумал отец. Эта мысль показалась ему безбожной и опасной для ребенка: никто не приходит в этот мир вместо другого, каждый идет со своей судьбой, со своим смыслом, по воле Бога, поэтому нельзя так думать, даже в шутку…
Груз ответственности стал еще тяжелее и походил на каток, выравнивающий асфальт. Эта тяжесть раскатала его в лепешку со всем его творчеством и смешала с асфальтом. Но, как травинка, тянущаяся к солнцу сквозь толщу асфальта, какая-то надежда тянулась в нем к жизни. Этой надеждой была композиция, которую он задумал создать на большом деревянном блюде.
Часто эта композиция снилась ему. Вокруг большого подноса, наполненного вареным сушеным мясом и галушками из кукурузной муки, ужинает семья. Рядом стоит сноха, и старая женщина часто обращается к ней: «Садись, Аянт, садись. Отдохни немного». «Сяду, нана», – отвечает сноха, но традиций не нарушает. Она беременна, поэтому и переживает так свекровь. Сытная пища – это благодать Бога в ответ на честный труд. Ужин заканчивается. Сноха убирает посуду. Потом, когда, очистив поднос, она берет его в руки, чтобы поставить на место, выбивая окна и двери, в дом врывается чуждый ветер. Этот ветер сметает все в кучу, бросает людей оземь лицом вниз, леденит души, выгоняет людей из жилищ, опустошая горные аулы, и собирает их в Нашха, чтобы оттуда бросить далеко, в безжизненные земли («Куда? Куда? Куда?» – кричат застывшие от горя лица, но никто не отвечает), в Судный день, в ад. О Нашха, прародина чеченцев! Как переживешь ты тяжкое горе, которое несут с собою эти люди в твой благодатный Хайбах? Почему не расколется земля? Настолько тяжело оно, это Большое Горе, состоящее из печалей каждой души! У Аянт, шедшей с тем же подносом в руках, на окраине села Хайбах начались схватки. Женщины окружают ее. Круг расширяется, округляется, уплотняется. В центре этого круга на белом снегу постелена черная бурка, а на ней Аянт, кусая губы, сдерживает стоны, чтоб о ее муках не узнали растерянные от горя люди, чья гордость, храбрость и мужество растоптаны. «Аянт, не мучайся! Стони, кричи», – умоляет свекровь, а женщины, толпящиеся вокруг, начинают громко восхвалять Бога, чтобы заглушить ее стоны:
– Лаилаха иллаллаху, Лаилаха иллаллаху.
Молитва женщин продолжается почти до рассвета. А на рассвете в мир, ополчившийся против него холодом, жестокостью и горем, приходит человек, с криком приходит в холодную, обездоленную страну.
Девочка! Девочка… Бедная! Как не вовремя ты родилась! Ведь девочка и без этого несчастья обездолена…
– Да пошлет тебе Бог счастья… Аминь! – распространяется вокруг шепот.
– Ее будут звать Фатима, как дочь пророка, – говорит свекровь.
Круг уплотняется, желая защитить от снега, ветра и метели это нежное человеческое существо, пришедшее в заснеженный мир, но печаль в сердце каждой женщины вместо тепла, так необходимого ребенку, создает стылый холод. Женщины все равно сбиваются в плотную кучу, чтобы пламенем своих душ, своим дыханием сберечь эту жизнь, пытаясь дать столь нужное ей тепло. Но вокруг этого круга стоит еще один круг – круг вооруженных, чужих людей. Круг людей, пришедших, чтобы обездолить, уничтожить их родину. Выше них круг образуют горы. Выше гор – круг, созданный туманами и тучами, а выше них – круги, образованные небом, звездами, пустотой, холодом и мраком…
И этот маленький человек должен жить, испытывая тяжесть всех этих кругов. И освободиться от них невозможно, пока живешь, – только душа после смерти разорвет кольца горя, печалей и обязанностей.
На рассвете распространяется слух, чтобы все, кто не сможет идти пешком, собирались в конюшне, их потом вывезут самолетами… «Куда? Куда? Куда?» На этот вопрос никто не отвечает.
– Возьмите в конюшню сено, чтобы подложить под себя.
Аянт, которой показалась подозрительной эта забота, уговаривает свекровь уйти вместе с родственниками. Но свекровь не соглашается – и ей, и девочке нужен хоть небольшой отдых… Когда они вдвоем решили остаться, в конюшню направились еще девятнадцать родственников со стороны отца и матери, не пожелавших с ними расстаться и не подозревавших, что сложенная из тяжелых каменных плит конюшня с крышей из бревен, присыпанных землей и лежащих на больших гладких камнях, на следующий день станет адом, где они будут гореть в огне и задыхаться в дыму.
Когда это начнется, ослепшие и потерявшие от гнева рассудок люди после бесполезных попыток разрушить каменные стены, ударяясь о них тугими волнами, не сумев уйти под землю и не сумев подняться в небеса сквозь крышу (позже, когда тела сгорят, их души уйдут сквозь эту крышу в темные глубины небес), ринутся к воротам и снесут их. Первые ряды смогут вырваться из конюшни, но тотчас же упадут под пулями. Вскоре из людских тел в воротах образуется завал, и, не найдя больше выхода, беспомощные люди, около семисот человек, сгорят, и души их будут долго бродить в долине реки Гехи, пока обгоревшие кости не похоронят те, кто скрывается в горах, оторвавшись от своего народа.
Какое тяжкое испытание выпало на долю маленького человека, пришедшего в этот мир всего на двое суток – так мало времени ей было отпущено под солнцем, и за это время ей пришлось пережить ад, сгорев в огне.
Можно ли передать с помощью дерева этот Судный день, этот крик ребенка, которому два дня от роду, ее протянутые к Богу ручонки, ее мольбу без слов, обращенную к Богу?..
Чтобы показать случившееся в тот день в Хайбахе, нужны ноты, слова и краски. А он владеет только деревом и ножом, но все равно верит, что дерево в его руках и, не умея говорить, очень многое скажет людям…
Все же было бы лучше, если бы его куклы разговаривали и исполняли музыку. Тогда он смог бы по-настоящему показать весь этот ужас.
Дени долго мучился, не зная, какую часть жестокой картины воссоздать… Наконец у него возникла мысль: зачем изображать весь этот ад – об этом достаточно рассказать. Лучше он изобразит круг милосердия и тепла, образованный женщинами в тот холодный, ненастный вечер вокруг только что родившегося человека. Сначала он вырежет поднос, тот самый поднос, который в тот день был на руках у Аянт. А в центре этого подноса наполовину укутанная черной буркой будет лежать Аянт со своим ребенком. Деревянные облики женщин, окружая их, разместятся по краю подноса. Этот круг, круг людей, круг гор, туманов и туч, а выше – круг, образованный звездами…
Не в его власти краски, звуки, цвета… В его власти только дерево и нож. Но он верит: в сознании людей, рассматривающих его работы из дерева, воскреснут былые картины, цвета, звуки, запахи…
Услышав, как в соседней комнате опять заплакал ребенок, он вспомнил, что у него режутся зубки и как один врач говорил, что боль, которую переносит в это время ребенок, была бы непосильна для взрослого человека. Так болезненно начало жизни…
Он вспомнил, как весной на деревьях набухают почки, они разрываются, и по ветвям стекают слезы деревьев. Они плачут от боли, которую причиняют им рождающиеся листья. Вот так же, разрывая десны, сквозь открытые раны появляются белые бусинки зубов и у детей.
Дени поднялся и встал на пороге соседней комнаты. «Эсет, когда ты вырастешь настолько, что научишься ходить, твой отец повезет тебя в село, в гости к бабушке. Он расскажет тебе, какой была твоя бабушка, в молодости известная во многих селах своим благородством и воспитанностью. Потом он расскажет, как твой дедушка женился на твоей бабушке. Это было время, когда люди уже собрали осенний урожай, подмели сады и дворы. Твоя бабушка вышла из дома около полуночи, чтобы выйти за дедушку. Провожающая пожелала ей: «Пусть Бог даст тебе счастья». После свадьбы твоя пратетя, поздравляя твою бабушку, подарила ей медный кувшин. Через три месяца после свадьбы, оставив недопеченный чурек в очаге («Я боюсь, что на мне грех того чурека, оставшегося в очаге», – часто повторяла она), жестокий вихрь бросил ее на чужую землю, лишив родины. А Фатиме из Нашха, которая была моложе тебя на девять месяцев, не дали времени даже на то, чтобы прорезались зубки…
Да, тебе отец расскажет про твою бабушку, когда ты начнешь ходить и научишься говорить… И однажды в пору, когда люди будут пахать землю и сеять, вы вдвоем поедете в село, лежащее в горах, среди леса, и отец расскажет тебе, как твои дедушка и бабушка, похоронив половину из четырнадцати детей, остальных воспитали так, что они не нуждались ни в чем и выросли благородными людьми… Он расскажет тебе, как, вернувшись через тринадцать лет домой, твоя бабушка нашла сковороду, которую она в тот день положила в очаг вместе с чуреком. Как сестра твоей бабушки издалека, из села Саади-Котар, пришла в гости и привела крупную рыжую корову. Ухаживая за этой коровой и очистив заросшее бурьяном поле, засеяв его, уже в третий раз начала жить твоя бабушка… Да, отец о многом тебе расскажет, Эсет, когда ты вырастешь».
Ребенок, испугавшийся звука, раздавшегося за дверью, еще сильнее заплакал. Очень скоро в дверь громко постучали.
– Кто там? – спросил Дени, подбегая к дверям.
За дверью послышались стоны: «Воды, дайте… воды…». «Человек ранен, нужно помочь». Он распахнул дверь и сразу пожалел об этом: в его беззащитный дом тут же ворвался мрак жестокости. Мрак вошел и запер дверь изнутри, чтоб снаружи не могла прийти помощь. Внутри мрак разделился на три части! Их было трое, с горящими, как у крыс, глазами, у одного – автомат, у других – пистолеты, на поясах – длинные ножи. Одеты они в форму, оставшуюся от Советской Армии.
– Кто ты такой? – закричал один.
– Кто вы такие?
– А ты не видишь нас?
– Вижу… Потому и спрашиваю.
– Бойцы национальной гвардии!
– Кто вам дал право врываться в дом к людям посреди ночи?
– Что он сказал? Право? Какое право тебе нужно?
– Похоже, это противник революции.
– Не зная, что обманываюсь, я действительно писал для таких, как вы, обращения…
– А-а-а… Значит, ты виноват в этом бардаке! Мы из оппозиции.
– Но я быстро понял…
– А-а-а, ты понял? Так ты против власти думаешь выступить?
– Будь проклята ваша власть!
– Ты смотри! Обнаружил себя. Мы не из оппозиции!
– Откуда бы вы ни были, вон отсюда! – прокричал Дени больше для того, чтоб услышала жена в соседней комнате. Несколько недель назад, когда прошел первый слух о появлении людей, которые врываются в дома, убивают хозяев и грабят, он как бы в шутку сказал ей: «Если такие волки ворвутся к нам, открой окно в своей комнате и беги к соседям. Ахмсолта – благородный мужчина, и у него есть оружие, он поможет».
В короткой тишине, наступившей после его крика, раздался скрип открываемого окна. Чтобы его не услышали грабители, он опять закричал:
– Выйдите отсюда вон, грязные твари!
Но, заставляя проглотить последнее слово, огромная рука, царапнув глаз, заткнула ему рот. Потом та же рука отшвырнула его в угол.
– Ты что орешь?! Ты знаешь, кто ты для нас? Ты ничто… – оглядываясь вокруг, непрошеный гость стал искать какую-нибудь безделушку для сравнения. Наконец его взгляд останавливается на столе: – Ты для нас деревянная кукла.
– Все мы перед Богом куклы, а вы – Богом проклятые.
– Вот ты точно кукла передо мной! – проорал бородатый, сметая со стола вместе с подносом все его куклы. А одну из них, скульптуру Фатимы, только что родившейся на снегу, он взял в руки и со словами: – Если мы захотим, то вот так же отрежем тебе голову, – выхватил с пояса нож, отрезал куколке голову и отшвырнул прочь.
«За что?! За что родившуюся в первый раз через двое суток сожгли, а теперь родившейся во второй раз отрезали голову?.. Дважды. За что? Что за грех совершил этот ангел, чтоб дважды познать такую жестокость?» – от этих вопросов в его сердце вспыхнуло адское пламя и он, потеряв рассудок, вцепился в горло бородача. Увидев в нем источник всех зол мира, – если не в нем, обезглавившем ребенка, то где он? – Дени испытал непреодолимое желание этот источник уничтожить. Возможно, он и достиг бы своей цели, если бы не двое других, с женскими чулками на головах, которые до тех пор переворачивали в доме все вверх дном, ища несуществующие деньги и драгоценности.
Когда эти двое вцепились ему в руки, у Дени возникла мысль: «Не сегодня-завтра, сняв чулки, они собираются стать добропорядочными людьми. А бородач и лица-то не спрятал, ему безразлично, что о нем будут думать люди, или его борода тоже накладная?
Вот оно, наше несчастье, – двуличность, двоедушие: на глазах – один, за спиной – другой, говорит одно – думает другое».
Те двое так и не смогли отнять его руки. Все вместе они упали на пол, и бородач оказался снизу, так удобнее было душить.
– Что бы с ним сделать? Он же убивает его!
– Уж я-то знаю, что с ним делать…
В тот же момент Дени почувствовал холодок около своего уха. «Великий Боже…» – это его последняя мысль. Все: и сознание, и зрение, и слух – оборвалось…
Потом, спустя время, он услышал дружное щебетание разных птиц. Понял, что оно не из мира живых: «Значит, он все-таки убил меня… Что же стало с женой и ребенком?»
Наконец к нему вернулось зрение. Среди белых маленьких гор, с хребтами, будто вырезанными ножом, лежат небесно-голубые озера. Прямо посреди них к бело-светлому горизонту тянется светло-зеленая дорога.
– Это твой путь. С этой поры будешь идти по нему. На земле же твой путь завершен, – слышит он голос.
«Что же с ними случилось?» – думает он.
– Посмотри вниз – увидишь.
Внизу он видит, как Марима с дочерью Эсет на руках стучится в дверь Ахмсолты, как Ахмсолта и четверо его вооруженных сыновей врываются в их двор и связывают грабителей; потом он видит родное село, свои похороны; видит мать, братьев и сестер, видит, как закапывают его труп; его могила оказывается на красивом месте, куда падают первые лучи солнца.
– Пошли теперь… – слышит он голос и начинает удаляться от Земли.
Оттуда, со звездной высоты, он видит укутанную густым мраком планету. Среди этого мрака местами виден слабо мерцающий свет.
– Если эти огоньки света поглотит тьма, то Земля упадет в бездонную пропасть, где нет ни времени, ни пространства, ни размера, ни возраста… От нее не останется ничего, даже воспоминаний.
– Что это за свет? И почему этих огоньков так мало?
– Это свет людей, искренне молящихся Богу… Хочешь увидеть свой свет? Видишь вон тот, похожий на огонь от костра?
– Этот?..
– Да, да… Знаю, что у тебя на сердце… Ты говоришь, что не успел должным образом поклоняться Богу… Скульптуры, которые ты вырезал из дерева, были твоими мольбами… В них было твое доброе сердце, твое милосердие к людям, близким и чужим…
Дени опять смотрит на Землю, обернутую в несколько слоев мрака и похожую на щепку, которую в его детстве девочки, изображая куклу, оборачивали тряпками. И вдруг он узнает огоньки, которые немного рассеивают мрак. Вон тот – бездомный, безымянный бродяга-певец, второй – исследователь, воспевающий красоту природы, третий – одинокая старуха, каждую ночь обращающаяся к Богу с мольбой о милости для всей Земли, четвертый…
Он идет по светло-зеленой дороге мимо белых, с ровными хребтами гор, иногда останавливаясь, чтобы выпить воды из небесно-голубых озер. Если захотеть, можно вырезать из этих белых гор скульптуры людей и животных… Они не будут похожи на деревянные куклы, вырезанные им на Земле, у них будет свой голос, цвет, походка. Но он уже не испытывает внутренней потребности в этом – то, что казалось важным на Земле, здесь теряет свою ценность. Он просто хочет идти мимо белых гор к светлому горизонту, тоскуя по тем, кто остался на Земле, и молясь за них Богу.
«Где же те родственные души, пришедшие сюда раньше меня?» Вместе с этой мыслью перед ним появляется девушка. Она вся создана из чистоты и поэтому белая, как снег на вершине Башлама, а волосы – желто-золотые. Кажется, он ее где-то видел.
– Да, да, это я, чей образ ты создал из дерева, сожженная в Хайбахе Фатима.
– Но тебе же было всего несколько дней. А здесь ты взрослая!
– Да, здесь вечно один возраст у души…
– А остальные? Мой отец, братья, сестры?
– Иди по этой дороге, – и девушка исчезает.
Он идет по светло-зеленой дороге…
1992.
Перевод М. Эльдиева.
На заре, когда звезды гаснут
И этой ночью он спал беспокойно. Сны, тревожные и жестокие, не оставляли его в последние месяцы. Они давили на него, мучили своей тяжестью.
После полуночи залаял щенок. Его лай то раздавался рядом – под окнами, то звучал приглушенно, словно удалялся: «Ов-ов-ов!»
В тот день впервые и лай собак, и крики петухов, собственные ощущения – все казалось неслучайным, исполненным какого-то высшего значения, все несло предвосхищение неминуемого несчастья.
Этот тягучий мутный дождь беды шел в течение нескольких месяцев, не переставая ни днем, ни ночью.
Он прятался от дождя под крышу. Но и здесь дождь настигал его, пробивал крышу и обрушивался всей своей тяжестью. У него уже не было сил удержать эту лавину. Некуда было деться – всюду эта круговерть бесконечного дождя.
Только он, он сам мог положить конец этому наваждению. Но он так устал… Да и стоит ли пытаться? Пусть все остается так, как есть… И ближе будет исход, и скорее все завершится. Не нужно будет стаскивать с себя промокшую одежду с кислым, проникающим повсюду запахом влаги. Все глубже в илистую грязь будут погружаться его ноги. Вода поднимется до пояса, подступит к его лицу. Потом он исчезнет, и водную гладь, сомкнувшуюся над ним, затянут водоросли.
Он вспоминает голос, который часто звучал в ушах, заглушая однообразный шум дождя. «Опомнись, возьми себя в руки. Надо же иметь хоть какую-то гордость!» – «Легко говорить, когда живешь в мире, где светит солнце, когда ходишь по сухой земле», – мысленно возражал он. «В жизни каждого из нас были дни, когда потоки дождя сбивали с ног, не давали подняться. Мы все прошли через это, и ты должен пройти. Человек, пришедший в мир и заклинающий: «Пусть меня обходят все беды!» – смешон, как и тот, кто стоит по горло в воде и повторяет истово: «Пусть я останусь сухим!»
Голос затихал и постепенно таял, как снег на ярком солнце. Или он переставал его слышать?
Но однажды наступил день, когда ему показалось, что дождь стихает. Может быть, дождь отступил перед его терпением. Но ощущение тяжести пространства, наполненного водой, не покидало его. И солнце лишь смутно угадывалось сквозь туманную пелену.
Из дождевой пыли проступила зеленая поляна. Белоснежные овцы разбрелись по ней. Виновато улыбаясь, брат ступает на мягкую траву. Нет, так бывает только во сне: и брат, и поляна, на которой он стоит, и белые овцы – все, что снится ему, исчезнет с его пробуждением, как песчинки в морской воде.
Тело его напрягается, сознание пытается удержать это ослепительное видение. Но тщетно – он просыпается. «Ку-ка-ре-ку…» – надрывно кричат петухи. Да замолчат они наконец?! А вот кто-то завел трактор. Куда можно ехать в такое время?! Теперь и щенок заскулил: «Ов-ов!» – под самым окном. Придется выйти.
Он с усилием открывает глаза и смотрит во тьму. Снова залаял щенок.
Он одевается и осторожно идет по комнате. В темноте нащупывает на столе кусок лаваша, рукой задевает кружку. «Гор-горов», – падает кружка и, дребезжа, катится по полу. Тишина стонет воем собаки, визжит, загнанная в угол. Он толкает дверь в коридор. «За-а-ак, зи-и-ик», – скрипят двери. Он выходит во двор.
Ясная холодная осенняя ночь. В саду лежат черные тени, переплетаются, как прутья. Вдали темнеет лес.
– Гоци, Гоци![1] – зовет он щенка. Лай стихает. – Что ты? Не спится? На, поешь, – он бросает кусок лаваша на землю.
«Клац-клац», – щенок рвет хлеб зубами, судорожно проглатывает его и снова начинает скулить.
Гоци, Гоци, я знаю, почему ты воешь. Брат принес тебя в тот холодный вечер, когда от мороза пальцы прилипали к ручке наружной двери. Ты был едва живой от голода и холода. Он выходил тебя, хотя все кругом говорили: «Чего ты стараешься? Нам эта собака все равно не нужна». Он сделал для тебя конуру, положил туда сена, чтобы было теплее. Прежде ты тоже часто лаял – не так жалостно, как теперь, а громко, смело. «Чем не взрослый пес?» – смеялся брат.
Вода. Бескрайнее пространство, заполненное черной водой. Островами на нем вырисовываются силуэты людей. Брат окликает их, но они словно не замечают его или и вправду не слышат? Движения брата скованы – руки и ноги опутаны шелковыми нитями воды. Вода все крепче и крепче пеленает его, не дает шевельнуться. «Эге-гей!» – крик отчаяния рвет тишину ночи. Люди закрывают уши руками. Люди! Услышьте его, он же всем вам делал добро. Люди!
В его затуманенных глазах вспыхивает луч красного закатного солнца. Вспыхивает и гаснет – солнце плачет, роняя на землю языки огня – свои слезы. Нет, это не слезы, это кровь. Кровью сочится солнце – слезы его давно выплаканы, кровью покрывается темная вода.
Гоци, Гоци… Мы оба услышали этот предсмертный зовущий крик, хотя раздался он на другом конце света. Мы устремились на этот крик, но успели только подняться на ту зеленую гору. Поздно, поздно, Гоци…
Он плачет. Жалобно воет щенок, трется о его ноги. Он смотрит в небо. Слезы высыхают на его лице. Высокие звезды. Пространство, у которого нет ни начала, ни конца. Небо успокаивает, рождает ощущение надежды.
Он возвращается в дом. Двери скрипят. Стонут половицы. Снова кричат петухи.
В соседней комнате громко вздыхает мать. Она тяжело поворачивается в постели, тщетно надеясь унять непроходящую боль. Нана, нана, нана…
Он затихает ненадолго. Проснувшись, видит лишь черноту комнаты – за окном не видно луны. Приближается рассвет.
Он протягивает руку и зажигает свет. Взгляд его скользит по комнате. Печь. Стол. Шкаф. В темноте чудилось, что они перешептываются. Теперь, застывшие в неподвижности, молчат. Он взял со стола зеркало. Черные круги под глазами, тяжелые серые веки, сухие морщины у глаз. Что, молодость уходит? Так быстро? А быстро ли? Ведь возраст человека – не года, а то, что пережито.
Так недавно было… В сумерках над деревьями плывут звуки дечиг-пондура; возвращаются, мыча, коровы с пастбищ; ребятишки гомонят на окраине села. «Где же ты, сладкое время? Ушло, пролетело…»
Тогда они с братом часто играли в прятки в саду. Брат водил, он прятался.
– Знаю, знаю, ты за тем деревом.
– А вот и нет.
– Да!
– Подойди поближе, сам увидишь…
Брат осторожно приближался, а он стремительно выскакивал из-за дерева и мчался к установленному месту. А брат, растерявшись на минуту, бежал за ним вдогонку, а за его спиной полыхал во все небо закат. Кто мог знать в то безмятежное время, что пройдет десять лет и это вечное солнце будет плакать от жалости к нему? Кто мог знать, что земля огласится его зовом, что его отчаянный крик будет рваться во все наглухо закрытые двери?! Кто знал…
Как быстротечна жизнь! Он пытался удержать бег времени, проводя ночи над своими записями. Его рогатка, заброшенная на чердак в далекий дождливый день, теперь неотступно преследовала его. Камешки, выпущенные из нее, больно врезались ему в спину. Те камешки, которыми он так и не успел пострелять в детстве. Пятна крови проступали на спине.
«Ты все еще с небес не спустишься…» – сказала ты однажды. Ты, как всегда, была права – я так и не спустился на землю. А вот ты прочно стоишь на земле. Твой избранник, наверное, тоже? Вы, должно быть, теперь стали похожи друг на друга. Ты немного пригнулась, а он приподнялся.
Не знаю, правильно ли я жил… Но со мной всегда та весенняя ночь, когда, исписав ворох бумаги, я вышел в сад, легко отворив калитку, и вдыхал аромат влажной от дождя земли, радуясь завершенной работе. И эту радость надо положить на весы.
Каждую пору своей жизни надо принимать без страха и сожалений, не вызывая презрения людей возгласом: «Хочу вечной молодости!»
Как легко работалось тогда, как ясны и светлы были цели. Как бесспорно и близко было их достижение. Так было, а теперь? Что – теперь?! Надо и дальше идти этой дорогой. Она не так ровна, как казалась раньше, она извилиста и камениста…
Он смотрит на книжку, маленькую книжку в его крупных руках. Брат мечтал о ней годами. Сколько карандашей исписал он, а когда последний истаял, превратившись в слова, брат пошел за новым через темные овраги и леса в город, лежащий в огнях за семью горами, но не вернулся и не увидел книгу, которую так ждал…
Она не принесла радости, но дорога сердцу – в ней живут души тех ушедших дней.
Он присел перед печью. «Ночи такие холодные». Нана, нана, ты заботишься обо всех нас, а мы разбиваем твое сердце.
Не погас ли огонь? Он открывает дверцу, разгребает золу. Маленькие угольки тлеют в темном отверстии. Он кладет в печь несколько хворостинок. «Фу-фу!» – дует он на угли. Зола поднимается в печи от его дуновения, летит в глаза. Слабые языки пламени обволакивают хворост. Скоро, на ветру, огонь разгорится во всю силу. Он подкладывает в печь дрова. Выпрямляется, хочет подняться на ноги. Но свинцовая тяжесть, давящая на плечи, заставляет его снова присесть. Откуда она? Ведь он давно уже привык переносить тяжесть дождевых потоков. Появилась новая боль, незнакомая и резкая. И сделала его ношу еще тяжелее. Даже капля боли может опрокинуть, если несешь такую ношу.
Как колет в груди – словно репейник впился в кожу и вжимается все глубже и глубже. Репейник? Ну, конечно же, это он! Это он со смехом швырнул репейник там, в далекой стране. И репейник пронзил его острой болью, а смех, летящий следом, ударился в окно и разбил его.
В детстве за его приятелем закрепилось это странное прозвище – Репейник. Самым любимым его занятием было бросать в прохожих репьи. В этом он был неутомим – скрытый высоким бурьяном, он бросал и бросал репьи. А если кто-то успевал заметить его в бурьяне, он показывал язык. Так, незаметно, он сам стал Репейником.
– И нравится тебе этим заниматься?
– А чем еще заниматься?
– Можно же найти другие занятия.
– А я могу?
– Можешь. Ну, пошли…
Потом они часто гуляли вместе лунными ночами. Репейник начинал понимать, что Кавказские горы высоки и вершины их покрыты снегом, что осенью журавли улетают на юг и что птицы поют песни.
Никто не мог узнать Репейника: он купил себе галстук, ходил всегда в чистой рубашке. Люди забыли, что он Репейник, хотя иногда, по привычке, и называли его так. Он тоже радовался переменам в Репейнике. Но обманулся: не стал Репейник другим. И помешала-то самая малость: его необъяснимое пристрастие к словам «тенденция», «резюме». Так и застрял на них.
Мучительно жаль то время, которое он провел с Репейником. А рядом был другой. Теперь уже ничего не изменишь… И все же он представляет, как брал бы брата за руку и они вместе гуляли бы лунной ночью. Он рассказывал бы о звездах, которые так далеко от них – гораздо дальше луны. И тот внимательно слушал бы его и все понимал.
Что значит смех Репейника, нашедший его в непроглядной ночи, в сравнении с вязким тяжелым дождем, груз которого он несет на себе все эти годы?! Что значит этот чужой смех рядом с тягостным раскаянием, которое по ночам сжимает сердце?! Это неиссякающее раскаяние тяжелее пирамиды египетского фараона.
Он осторожно выпрямляется. Боль затихла, и только глухой ее отголосок еще оставался в нем. Он выходит из дома и видит, что тьма рассеивается. Сосед вышел во двор, закурил.
– Ух-кха-кха! – кашляет он.
«Кха-кха», – отзывается эхо.
– Ты тоже встал? Тогда я завожу машину, собирайся.
Он уходит в дом, наскоро собирается. Уже на ходу он садится в машину. Склоны гор в белом налете инея.
На окраине села из полумрака выступает старик. Машина останавливается, старик садится на заднее сиденье. Несколько минут они едут в молчании, но вот старик поднимает руки и начинает шептать молитву. Дорога идет на спуск. Скоро они поравнялись с человеком, спешащим по дороге с портфелем в руках. Не посмотрев на машину, он торопливо продолжал свой путь. Сосед притормозил. Молодой человек потянул дверцу на себя и сел рядом со стариком.
Машина словно плывет по воздуху в предрассветной тишине. Свет ее фар упорно борется с отступающим сумраком.
– И все-таки больше всего я люблю осень. Желтые листья, спелые плоды… – вдруг быстро произносит молодой попутчик.
– Зачем ты говоришь это? – прервав свою молитву, спрашивает старик.
Молодой человек ничего не отвечает.
Откуда ему знакомо это лицо? Где он мог видеть этого человека?
Дорога выравнивается. Он видит, как вдали, на небосклоне, бледнеют и гаснут звезды.
Внезапно всех ослепляет свет фар встречной машины. Она стремительно приближается, но вдруг, вильнув в сторону, начинает крениться и, не удержавшись на дороге, переворачивается.
– О Аллах! – стонет старик.
Сосед останавливает свою машину, все выскакивают и бегут туда. Водитель мертв, его спутник ранен – изо рта у него сочится тонкая струйка крови.
– Нана, нана, что будет с тобой… что будет с тобой… С кем ты теперь останешься… – шепчет он белыми губами.
– Помолись, сынок, – наклоняется к юноше старик.
– Да… да…
Раненого осторожно кладут на траву.
– Что будет с тобой, нана… что…
Старик садится у его изголовья и начинает читать отходную молитву. Он берет из рук молодого человека черный портфель и кладет под голову умирающего.
Их попутчик осторожно вытаскивает свой портфель и торопливо говорит:
– Я очень спешу. Что ты так смотришь на меня? Не узнал? А ведь мы так подолгу бродили с тобой лунными ночами, так задушевно беседовали!
– Неужели Репейник?
– Он самый, – говорит Репейник тусклым голосом и быстрыми шагами уходит в сторону светлеющего неба.
«Эге-эге!» – звучит безнадежный крик о помощи. Но люди закрывают уши.
Он опускается на землю, чувствуя, что силы покидают его. Он видит, как гаснет на небе последняя звезда – звезда рассвета, Венера. И лавина дождя, вязкого дождя беды, прорывает пленку его терпения.
– Нет, теперь я не смирюсь… – шепчет он почти беззвучно и бежит к самому высокому в мире тополю, который стоит, упираясь верхушкой в небо. Он поднимается по стволу все выше, срывает с себя рубашку и закрывает небесную брешь.
Нет, он не сможет держать так долго. Надо пришить рубашку…
– Принесите иголку с ниткой! – кричит он.
– Сейчас, сейчас, сейчас!
Девушка бежит по зеленому лугу, в ее руках иголка и нитки. Синее ситцевое платье, светлые волосы трепещут на ветру. Он вглядывается в лицо девушки и не может ее узнать. Кто она? Неужели это дочь его соседей? Когда же она успела так вырасти?
– Сейчас, сейчас, сейчас!
Он слышит этот крик и из последних сил удерживает невыносимую тяжесть дождя.
1984.
[1] Гоци – кличка собаки.
Перевод Н. Крыловой.
Сбор металлолома
По лугу, словно озаренному изумрудным сиянием, бежит мальчик. В руках у него цветы.
Неужели это я – легкий, стремительный, улыбающийся?
Я помню этот солнечный день, этот зеленый луг, пряно пахнущие цветы, которые я протянул вам. Мне и сейчас достаточно прикрыть глаза, чтобы увидеть вас. Слабый ветерок играет в ваших волосах, и они словно вспыхивают на солнце рыжим пламенем.
Я считал вас самой красивой женщиной нашего аула, ни у кого не было таких нарядов, как у вас, такой прически, как ваша.
Я помню, как вы с улыбкой наклонились ко мне и взяли цветы из моих рук, как от нежного запаха ваших волос, ваших рук голова у меня закружилась и все поплыло перед глазами: высокое небо, ваше лицо, цветы, выпадающие из рук. Вы ничего не заметили тогда (это головокружение длилось лишь один короткий миг) и обняли меня со словами: «Какой ты хороший! Спасибо за цветы!» Как и сейчас, я закрыл тогда глаза. Как счастлив я был в ту минуту, как прекрасен был мир вокруг!
Я и в классе, сидя перед вами за первой партой, не сводил с вас взгляда, я старался сидеть как можно ровнее, положив руки на парту перед собой. Самым первым заканчивал контрольные работы по математике, я писал лучше и грамотнее всех в классе. Чего только я не делал, чтобы обратить на себя ваше внимание!
Вы никогда не называли меня по имени. «Эскиев!» – строго одергивали вы. А для меня ваш голос был сладкой музыкой. Я стоял, опустив голову, притворяясь смущенным. Но вместо того чтобы отругать, вы гладили меня по голове и ваши тонкие пальцы ворошили мои волосы.
Лебеди летят в поднебесье. Первая лебедь, самая красивая – лебедь-нана – вы, Алина Ивановна. Сделав несколько кругов в воздухе, лебеди неслышно опускаются вдалеке на зеленый луг.
«Эскиев, Эскиев…» Ну, конечно же, я не забыла тебя. Много лет прошло с тех пор, но сейчас, оглядываясь назад из моей сегодняшней старости, я так отчетливо вижу тебя… Ты был славным мальчиком, послушным. Ты всегда старался заслужить мою похвалу, привлечь внимание. И хотя что могла я, совсем еще девчонка, знать тогда, твое внимание я всегда замечала. Оно радовало меня, я часто смеялась тихонько, вспоминая твои проделки. Ты помнишь, я никогда не ставила тебе плохих отметок за контрольные, а если в них и были ошибки, я незаметно исправляла их теми же фиолетовыми чернилами, какими писал их ты.
Как сложилась твоя жизнь? Кем ты стал? Счастлив ли? А я все так же учу детей. Теперешние дети совсем не похожи на вас; таких, как вы, у меня никогда больше не было. Мне кажется теперь, что и ваша классная комната с низкими маленькими окнами была самой светлой и уютной. А наш горгали – старый школьный колокольчик! Я и сейчас помню его голос. Все эти годы в каждой услышанной мелодии я пыталась узнать его звуки. Но нет, не было похожих…
Я помню тот день, когда на зеленом лугу мы играли в «Гуси-лебеди». Мы будто и вправду тогда стали лебедями, опустившимися отдохнуть на луг. Как весело и беззаботно мы – гуси? лебеди? – носились по лугу.
Никогда больше в моей жизни мне не удалось стать белой лебедью, тот день не повторился. Однажды мне показалось, что то состояние снова вернулось ко мне, но, увы, я ошиблась. Лебедью я не смогла стать, а чуть было не превратилась в курицу.
Ты тогда непременно хотел быть серым волком, я видела это. Ты бегал за ребятами что было сил, кажется, никто не смог ускользнуть от тебя, ты раскраснелся, устал…
О том, что было после, я жалею до сих пор. Не знаю, может, только я и помню, что случилось после, а ты и думать об этом забыл. Все равно, не сердись на меня, если можешь.
Когда мои знакомые молодые люди заговорили со мной, ты нахмурился. Тебе так не хотелось, чтобы я ушла с ними. «Вот еще! – подумала я, увидев заблестевшие в твоих глазах слезы. – Он себе много позволяет, этот мальчишка!» А вслух сказала как можно спокойнее:
– Дети, играйте сами, мне надо уйти. Когда наиграетесь, пойдете по домам, хорошо?
И я ушла со своими друзьями, не оглядываясь. И сейчас, если бы можно было вернуть тот день, я поступила бы так же. Этот день всегда в моем сердце, я была окружена вниманием, восхищенными взглядами своих ровесников, я кружилась в стремительном танце, с улыбкой слушая слова признания… Да, тот день затмил своим ослепительным светом другие.
На другой же день по твоим потухшим глазам я поняла: что-то непоправимо изменилось.
А потом наступил день сбора металлолома. Вы все очень волновались, кому же удастся собрать больше – ашникам или бэшникам? И вот вы отправились на поиски лома. До сих пор не могу понять, как же могло случиться, что с тех пор я ни разу в жизни не видела тебя?
Вы все разбрелись в поисках…
Он давно заметил это огромное колесо на дне оврага за аулом. Оно было скрыто от посторонних глаз поднявшимся за весну бурьяном. Конечно, это поржавевшее колесо от списанного трактора великовато для одного человека, но он твердо решил обойтись без помощников.
Как хорошо, как прекрасно все в мире! Ветер, теплый ветер шевелит волосы. Трава, мягкая трава ласкает ноги. Солнце, лучезарное солнце низвергает на землю водопады слепящего света.
Там, на дне оврага, было сумрачно, прохладно. Наконец-то он добрался до заветной цели. Вот оно перед ним – вблизи колесо кажется неохватным, словно навсегда вросшим в землю. Что было сил он принялся отрывать эту железную громаду от земли. Ноги уходили в сырую, влажную землю все глубже, руки дрожали от напряжения, но оно все же поддалось. Вот он уже приподнял колесо и начал толкать перед собой вверх по склону оврага. Как же трудно удерживать его, каждое движение вперед стоит неимоверных усилий. Но нет, все напрасно – колесо вырывается из его рук и устремляется вниз. Он беспомощно провожает его взглядом – колесо лежит на прежнем месте. Он поднимает глаза вверх – солнце стоит высоко – в зените.
И опять спускается он в овраг и начинает все сначала. Приподнимает махину, перекатывает его все выше и выше. Пот льется ручьем, застилает глаза. Колесо давит на него, словно хочет и вовсе стереть с лица земли. Но, собрав все силы, он удерживает колесо на месте. Вот уже и середина подъема. Колесо, подобно необъезженному жеребцу, кидается из стороны в сторону. Но снова, опрокинув его, колесо несется вниз. В бессилии он опускается на землю и плачет. Он долго плакал, не в силах подняться на ноги. И все-таки, утирая слезы, он встал и начал спускаться. И все началось сначала… Придерживая колесо, он снова остановился на середине подъема и посмотрел вверх. Солнце стояло высоко, оно, как и прежде, было в зените. Значит, до вечера еще много времени. И в эту секунду, словно почувствовав его невнимание, колесо вырвалось из рук и покатилось вниз. Следом за ним на черное дно оврага опустился и он. И все повторилось опять и опять… Его лицо залито потом и грязью, волосы слиплись, потрескались губы… Но у него еще есть время – он смотрит на солнце: оно не сдвинулось с места.
На двадцать второй раз он все-таки поднял его наверх. Передохнув на краю оврага, он покатил его по ровному лугу, радостно крича:
– Эге-гей, бэшники! Никогда вам не быть первыми!
Толкая впереди себя колесо, он приближался к школе. Но что это за длинное здание стоит на месте их школы? Откуда оно здесь? И где же наша старая школа с низенькими окнами? Изумленный, он замер на месте, придерживая колесо рукой. Дети, игравшие неподалеку, обступили его, они кричали, показывали на него пальцами. Среди них он не узнавал ни одного знакомого лица. «Посмотрите, какой смешной старик! Откуда он здесь взялся?»
Он оглядел себя. Неужели этот человек в коротких штанах, треснувших по швам, в рваных ботинках с торчащими наружу пальцами – он? Он отпустил свою добычу, и двенадцатирубцовое колесо, распугивая детей, стремительно покатилось от него. Оно неслось по дороге к окраине аула, к сумрачному оврагу и скоро исчезло из поля зрения.
В смятении он бросился бежать. Крик отчаяния вырвался из его груди. Неужели это его голос – резкий и грубый?! Скорее домой…
Он толкнул калитку и замер, пораженный: этот старый, осевший, заросший бурьяном дом – его?
– Нана? Ты дома?
В ответ – напряженная тишина.
– Отец, слышишь меня?.. Не слышит… Брат, мне трудно! Где ты?
Тишина.
Где вы, красные зори детства?
Где вы, долгие, наполненные теплом очага, отблесками огня в печи, запахами жареных кукурузных початков, вечера? Он ведь так вас любил, где вы?
Где ты, высокое небо в белых клочьях облаков?
Где ты, удивительная весенняя ночь с бесчисленными звездами, которыми любовался он, не в силах уснуть до рассвета?
Где ты, солнце детства, огромное и горячее? Ты было совсем другим прежде…
Тишина, тишина, тишина…
Чтобы не слышать этой оглушающей тишины, он рванулся к дому. Споткнулся о порог и рухнул на пол. «Кра-ак, кра-ак…» – раздалось со всех сторон. Что это, неужели трещат стропила, ломаются балки, рушатся стены? Подожди, дом, постой еще немного, продержись! Как же прожить без тебя, что у него еще осталось! Первое, что увидел он в своей жизни, – потолок дома. Первый шаг он сделал по твоему полу. Ты успокаивал своими тихими звуками, когда он плакал, испугавшись глухой темноты, ты укрывал его от дождей и метелей.
Ты, дом, наверно, состарился от холода одиночества? Твоему очагу нужен огонь…
«Кра-ак, крак!» – кричат, обваливаясь, балки. Стена оседает и рушится. Он бросился к противоположной стене, чтобы удержать ее, не дать опрокинуться. Но стена наклоняется, вот совсем рядом с собой он видит старую, сгнившую доску, стена падает, рассыпаясь в труху.
Опомнившись, он с трудом выбрался из-под обломков. Пахнет пылью, ветхостью, заплесневелым, истлевающим деревом. Какой-то слабый, неясный звук донесся до его слуха. Что это? Неужели это мяукает кошка?
– Кис, кис, кис… – позвал он. – Где ты? Я сейчас тебя найду… Как хорошо, что ты осталась… – зовет он.
Писк доносился из-под обломков. Он выбирается из-под развалин дома, как ящерица, извиваясь, выползает из-под камней. Он долго лежал не двигаясь, без мыслей, без желаний, пока солнце своими горячими лучами не начало нестерпимо жечь ему голову. Он приподнялся и увидел, что кошка, их кошка стоит рядом и смотрит на него.
– Кис, кис, кис, иди сюда. Одна ты здесь осталась… Как же ты уцелела? Ты, наверное, голодная? Надо бы тебя покормить, да где же я возьму тебе еды, где добуду молока? – говорит он кошке. – Да здесь, должно быть, полно мышей. Давай поохотимся! Ты хоть мышей ловить умеешь? Ладно, я помогу тебе: буду выгонять их из норок и щелей, а ты хватай их, не теряйся.
Дело пошло – он не ошибся: в мышах недостатка не было. Он стучал палкой, расшвыривал обломки, выгоняя мышей из норок, а кошка хватала их каждый раз все более ловко.
Сегодня я не очень-то проворен – устал. Нет сил выбраться отсюда на свет и вдохнуть свежий воздух. Сижу среди всех этих обломков, рухляди и пыли, вспоминаю.
Алина Ивановна, я часто думаю о вас. А вы вспоминаете ли наш класс, меня?
Никогда в моей жизни не было времени прекраснее, чем те годы рядом с вами. Я помню каждый день и тот, когда видел вас в последний раз. Миновав аул, я ушел тогда по дороге, ведущей – куда? – в овраг? Я надеялся вернуться до вечера, хотел удивить вас… Но так задержался в пути, что уж не смог ни догнать вас, ни найти…
Выросли мои ровесники. Это их дети встретили меня у новой школы, когда я катил свое колесо. А я – я из детства вошел сразу в старость, сам не заметив этого. Неплохая скорость, а?..
Мои бывшие одноклассники стали важными людьми. Я вижу, как они проходят мимо, неся впереди себя большие животы и переговариваясь друг с другом. Их громкий смех доносится до меня из-за изгороди. Я смотрю им вслед и недоумеваю: как могут так смеяться люди, познавшие жизнь?
Скоро наступит зима, и я уйду отсюда жить в пещеру. Буду вспоминать свое детство, слышать голоса дорогих мне людей и ваш голос…
А весной… Прольются дожди над землей, поднимется зеленая трава, защебечут птицы. Я вернусь в родной двор, приведу в порядок сад. Мои старания и заботу увидит и эта яблоня, и эта груша, и эта вишня, и эта земля – я вскопаю ее, посею кукурузу. Вы же помните меня?!
Надо подождать до весны… А теперь осень. Когда наступит весна, все изменится, все будет по-другому.
1987.
Перевод Н. Крыловой.
Снег идет
Мужчина стоял около своего старого дома. Стоял очень долго. Он был совсем одинок, пережил много бед, страданий и несправедливости. Люди забыли о нем, да и он забыл о них. Говорили, что он помешанный, но мнение людей его не волновало. Он хотел лишь одного: на одну минуту или на один миг вернуть яркий, прекрасный мир своего безоблачного детства.
Но его мечта отдалялась с каждым днем. Рядясь в разные цвета, посещали его невеселые мысли.
Однажды, когда он, окутанный мечтами, стоял возле своего дома, пошел снег. Легкий, как пух, пушистый снег крупными хлопьями покрывал весь мир, окрашивая его в белый цвет.
С нескрываемым удивлением смотрел мужчина на эту белизну. С каждым мазком снежного покрова ему казалось, что мечта его приближается. И тогда к нему начали возвращаться светлые мысли. К вечеру в его душе уже царило спокойствие.
– Слава Тебе, Аллах, что Ты можешь черное сделать белым, слава Тебе, Аллах, – сказал мужчина, потом удивленно добавил: – Неужели этот белый снег ложится для всех? Под своей белизной он все скрывает: голые деревья, испачканные грязью дороги, черные дома, хороших и плохих людей… – все прячет белый снег. Все сверкает под снегом. И у всех грешников, пока снег не растаял, есть возможность раскаяться. Да, у них есть возможность, пока снег не растаял, раскаяться. Когда снег растает, будет поздно, когда снег растает, все будет, как прежде.
Тайна, открывшаяся ему, потрясла его: «Об этом нужно быстрее сообщить людям!»
Он постучал в дверь соседа. Время было позднее, стучать пришлось долго.
– А, это ты, – сказал вышедший хозяин, – тебе что-то нужно?
– Нет-нет, снег идет. Пока снег не растаял, раскайся, для тебя будет лучше.
– Хорошо, – хозяин дома, узнав странного гостя, не придал значения его словам. – Заходи, попей чаю, согрейся.
– Нет, нет, мне еще многим нужно об этом сказать.
Мужчина зашагал дальше по улице.
Многие его принимали за сумасшедшего, не верили ему. Но это их дело – верить или не верить. Его долг – сообщить.
В одни ворота ему пришлось стучаться очень долго. В доме было шумно, играла музыка. Вдруг кто-то наконец отворил.
Мужчина рассказал о цели своего визита.
В ответ:
– Уходи отсюда, ненормальный! – ворота с грохотом захлопнулись. – Я и без тебя знаю, что идет снег.
Мужчина пошел дальше.
Около большого дома с горящим фонарем во дворе он остановился. Хозяина этого дома уже дважды пытались ограбить, но помешали соседи. И сегодня вечером он караулил грабителей с заряженным ружьем. Но пришедший этого не знал. Он стучался в этот дом, как и в другие дома. Хозяин, решив, что это опять вор, открыл окно и выстрелил. Даже не целясь, просто так, чтобы отпугнуть грабителя. Но выстрел попал в стоящего за воротами.
Не услышав ответного выстрела, хозяин выглянул в окно. Он увидел лежащего на спине мужчину. Узнал его. Это был не грабитель. Это был одинокий человек, проживавший недалеко от него в своем старом доме, которого люди прозвали Бедолагой.
Подбежав к нему, хозяин в отчаянии повторял:
– Я не знал, я не знал…
Смертельно раненный человек, посмотрев на мужчину, выстрелившего в него, произнес:
– Снег идет… Снег все белым покрывает… Пока не растаял снег, покайся… Когда снег растает, будет поздно…
1997.
Перевод Т. Батаевой, Р. Талхиговой.
Мольба
Было за полночь, а Амага, слушая шум проливного дождя за окном, все лежал без сна. Раньше, когда он был маленьким, таких сильных дождей не бывало. Тогда мягкие дожди шли неторопливо и недолго, и после дождя всегда улыбалось солнце. Сейчас каждый раз, когда идет дождь, возникает мысль: «Неужели близок конец света?» Потому что это не просто дождь, он несет с собой мрак, ветер, шум, широкие, бурные, почти как Аргун, селевые потоки. И эти потоки, прорезая глубокие русла, полосуют, режут лик Земли, создавая новые глубокие овраги.
Если даже ему, взрослому, столь тяжело переносить этот дождь, то как быть детям: ведь их тоска будет десятикратно больше. Он видел эту тоску, глядя на своего полуторагодовалого сына. Когда в небе раздавался гром, мальчик, показывая пальчиком в окно и крича: «Бу-у-ка!» – начинал плакать. И тогда Амага крепко прижимал к себе сына, бормоча: «Не бойся, он же ничего не сделает, не бойся…» Но страх в глазах сына и после этого не исчезал окончательно.
Сейчас, к счастью, дождь начался после того, как сын уснул. «Что же это? – подумал он. – С каждым днем и мир, и природа несут человеку все большую угрозу, они становятся враждебными, жаль детей…»
Его мысль обжег грохот, как от взрыва артиллерийского снаряда, раздавшийся над крышей, стекла в окнах вздрогнули с жалобным звоном, слабо горевшая керосиновая лампа погасла, а дом объяла темнота.
Сын проснулся с плачем.
– Мама! Папа! – стал звать он.
Амага заметался в поисках спичек, бормоча: «Сейчас я найду спички и зажгу лучину, а потом…», но, когда его поиски спичек затянулись, сын, испугавшись еще больше, снова позвал:
– Папа!
– Али! Я здесь. Не бойся, – быстро подбежав, он взял сына на руки.
И с мальчиком на руках продолжил поиски спичек в темноте. Но их нигде не было: ни на столе, ни в шкафу, ни в карманах.
А за окном дождь то усиливался, то слабел, но прекращаться, по-видимому, не собирался.
Мечась по дому с сыном на руках, он вспомнил влажный, туманный вечер. Это был один из вечеров последнего осеннего месяца, когда сады наполняются ароматом спелой айвы. Его младший брат, играя на гитаре, уходил со своими товарищами. Он несколько раз окликнул его, но тот шел, не отвечая, тренькая на гитаре; он не слышал голоса брата; голоса его друзей, звучащие в ушах, гитара, влажный туман оглушили его. Он звал его снова и снова, но младший брат скрылся в тумане, в сгущающихся вечерних сумерках. Он побежал за ним, но чем быстрее он бежал, тем дальше тот удалялся, интуиция подсказывала ему что-то, какую-то большую беду, поэтому он, плача и зовя брата, долго бежал за ним. Остановившись на окраине села, долго стоял, глядя на ватно-белый туман, лежащий в Аргунском ущелье. Туман перекатывался белыми волнами, и эта его белизна выделялась даже в сгущающейся темноте. Немного успокоенный этой картиной, он вернулся в свой холодный дом.
Его брат Алаш был моложе него на четыре года. Родителей Алаш помнил смутно, тогда как для Амаги воспоминания о них, постоянно живя в сознании, вызывая все новые картины из прошлого, были стимулом, дающим силы жить. Когда прошло счастливое время, наступил холодный зимний день, принесший с собой страшную весть: машина, на которой родители ехали в город, чтобы купить обновы для него и брата, упала в пропасть… Ему не дали взглянуть на них: тела, говорят, были слишком изуродованы.
И в памяти они навсегда так и запечатлелись: отец смотрит не него, уже сидя за рулем, а мать стоит около машины и говорит: «Будь хорошим, Амага!»
Родители остались в его памяти, а автомобиль, приведший их к гибели, до сих пор лежит на берегу Аргуна жутко покореженной грудой металла… Изредка у него возникает мысль: «И моя жизнь похожа на эту машину, она тоже лежит покореженной грудой от ударов о скалы бед».
Эта мысль в нем укрепилась еще больше, когда его младший брат, человек, ради которого он жил, все устремления и дела посвятив ему, уйдя в тот туманный вечер, пропал бесследно, словно горсть муки, брошенная в воду.
Он долго, без сна и отдыха, пока не обессилел, искал брата, а обессилев, вынужден был передохнуть. Однажды рядом с ним присел седой милиционер: «Парень, ты не единственный в Чечне, кого постигла такая беда. Их много. Это время предрекали наши святые, раньше не верилось, когда говорили, что наступит время, когда людей будут убивать, как скот, и некому будет мстить за их кровь. Сейчас это время наступило. С твоим братом, Бог милостив, наверное, ничего не случилось… Скорее всего, где-то гуляет со своими друзьями, думая вернуться домой сегодня-завтра…»
Милиционер оказался хорошим человеком: не добивая его сердце, охваченное горем, он ушел, дав ему надежду. И Амага жил этой надеждой, но она с каждым днем слабела. А мысль: «Мой брат пропал без вести», – с каждым днем укреплялась.
Не желая возвращаться в село, где Амага перенес столько бед, он остался в городе, устроившись на работу в большую библиотеку. К чтению книг, особенно сказок, пристрастился еще в детстве. Теперь у него появилась возможность полностью отдаться любимому занятию, тем более что здесь платили хоть и небольшую, но зарплату. Если расходовать экономно, то этих денег хватало на квартиру и питание; на одежду не хватало, но там что-нибудь можно придумать, на первое время и старая одежда подойдет.
Даже устроившись работать в библиотеке, он не оставил поиски своего брата, он бывал во всех притонах городских бродяг, вступал с ними в общение, прислушивался к их разговорам, а тем, кого находил более-менее человечными (таких встречалось очень мало), рассказывал о своей беде, они в ответ не говорили ничего, даже обычное: «Да поможет тебе Бог найти его», – как говорили все люди. Ничего не говоря, они начинали общаться друг с другом совершенно о другом, своем, словно его и не было с ними. И это усиливало его подозрения: «Если бы не знали чего-то, не вели бы себя так, знают, но говорить боятся или не хотят». И он убедился, что его подозрения имеют основание, когда один парень из шайки наперсточников сказал ему: «Хочешь узнать, что случилось с твоим братом, – нужны деньги, много денег, без денег никто тебе не поможет».
После этого он проводил немало дней, кутаясь от холода своей тоски, вжимаясь в угол с книгами, листая их, вечерами возвращался вместе со своей тоской в снятую им старую квартиру, в свои бесконечные сны о родителях и брате.
Но однажды привычный ритм его жизни нарушила девушка лет двадцати семи. Есть же в нашем городе такие девушки, у которых юность пролетела, пока они в различных учреждениях копались в бумагах или книгах, задержавшиеся с замужеством и не имеющие успеха у парней, так как не очень красивы.
Луиза была одной из них, она, видимо, решила действовать, поняв, что от мечтаний толка не будет и свою судьбу каждый творит сам. Амага, вот уже несколько лет не видевший человеческой доброты, с готовностью подчинился желанию Луизы. Он согласился предложить ей руку и сердце, жениться на ней, а потом, когда ее мать, торгующая пивом, купила по соседству с собой маленький домик, переехать туда, а позже принимать от нее помощь, часто ею оказываемую… Он согласился со всем, лишь бы его оставили со своей тоской (по брату), ожиданием (что он вернется) в покое.
Такая однообразная жизнь длилась год, в этот же год родился Али. Но на второй год все изменилось. Все, словно обезумев, остервенело метались, стремясь куда-то; собираясь на площадях, люди вели разные разговоры, произносили слова, которые были святыми от сотворения мира, но те, кто не лишился остатков разума, понимали, что эти слова потеряли свой изначальный смысл и теперь они – просто пустые звуки. Если глубоко исследовать причины этого шума, становилось ясно: они стремились удовлетворить материальные нужды, но смельчака, который попытается им сказать об этом, они, с налитыми кровью глазами, в экстазе от могущества толпы втопчут ногами в грязь.
Жена и теща тянули его за теми, кто стремился к жизненным благам, предлагая ему жить, «как люди», но он не хотел, он становился еще более задумчивым, прежняя жизнь, несмотря на все трудности, казалась сладким сном по сравнению с настоящей. Все впали в неистовство, все пытались урвать какие-то блага жизни, своровать, отнять; прежнего согласия, уважения друг к другу не было.
Но Амага не хотел входить в это море жестокого неистовства, он не умел грести всеми правдами и неправдами, да и учиться этому он не хотел…
– Такой-то пригнал третью «Вольво»… Другой построил трехэтажный особняк из итальянского кирпича… Третий, загнав «воздух», заработал миллиард рублей. И жена его не похожа на меня… Ходит в бриллиантах и в норковой шубе… – разговоры жены с каждым днем, угнетая его все больше, накапливались в сердце, как большая, грязная лужа. В конце концов эти разговоры перехлестнули через его сознание, и он, не отдавая отчета себе, около получаса орал на жену:
– Почему ты рассказываешь мне об этих людях? Я таким не буду! Мне надоели и ты, и твоя мать! Мне надоело чужое богатство, которым вы меня попрекаете! Я не стану, да и не смогу стать торговцем! Я не поеду в Турцию! И ты не поедешь, будучи моей женой! Да, я горец! Есть и буду им! Зная, что я колхозник, ты зря вышла за меня замуж! Я тебя, что, умыкнул? Если недовольна, возвращайся к себе домой! Нет! Живи здесь! Забери этот дом своей матери! Я уеду к себе в село! Со своим сыном…
Жена оторопело глядела на Амагу, она никогда не видела его таким злым. Ее губы задрожали, она с криком выбежала, громко хлопнув дверью.
– Так и будешь жить, – бросила она напоследок и побежала к дому своей матери, еще больше сгущая в этом доме наступающие сумерки.
Али, который с криком побежал за матерью, упал, споткнувшись о порог, и от этого заплакал еще громче. Отец немало времени потратил, пытаясь успокоить его, показывая ему игрушки, угощая конфетами, рассказывая сказки.
От долгого плача мальчик охрип и наконец затих, но есть ничего не стал, а лег, глубоко вздыхая и повернувшись к стене. Амага долго сидел рядом с сыном, жалость к нему застряла комом в горле. Задремал и Амага. Но его сон был недолог: он увидел во сне, как, просясь домой, стучится к нему брат, он вскочил и подбежал к окну. Молния, ударившая неподалеку, осветила залитые дождем стекла окна. Но это был не брат, это было просто видение, возникшее в его сознании. И горькое сожаление опять стало душить его.
После второго удара грома мальчик проснулся и стал звать родителей.
А теперь, сжавшись в комочек от испуга, он сидел у него на руках…
– Сейчас, сейчас мы найдем спички, – пытался он успокоить сына, мечась в поисках по дому. На столе, в ящиках стола, в шкафу, в карманах – он искал их везде, где они только могли быть, но спичек нигде не было. Что же это такое? И тут он вспомнил, как сегодня утром жена просила его купить спички. А он забыл о них. С сыном на руках Амага зашел на кухню в надежде, что там горит газовая плита. Но она не горела. Там тоже была темнота, изредка разгоняемая светом молнии. При свете молнии плач сына затихал, но, когда после этого раздавался гром, он плакал пуще прежнего.
– Али! Али! Потерпи, я сейчас… – не зная, что делать, отец в растерянности метался.
А от усиливающегося плача сына в его сердце прокрался холодок: с ним может случиться что-то плохое. От этого подозрения в его доме разверзлась темная бездна. Он узнал эту бездну. Впервые под его ногами земля разверзлась, когда он лишился родителей. Или это раскололась не земля, а разорвалось его сердце? Потом, когда потерял брата, появилась новая трещина. И эта трещина с каждым днем, вместе с крепнущей мыслью о том, что он никогда его не увидит, становилась глубже и шире. Эта трещина в конце концов и его сердце, и его самого разорвет на две части. И две его половинки побегут в разные стороны: одна – на запад, вторая – на восток, и каждая будет нести половинку рта, разинутого в крике: «Ала-аш!» Разорвавшись вместе с ним на две части, мир, хоть и разрушенный для него, будет стоять на месте, как и прежде, а он исчезнет. Когда родился Али, эта трещина, сужаясь, потихоньку превратилась в шрам, в постоянно ноющий шрам. И вот теперь существо, ставшее смыслом его жизни, камнем застыв от ужаса перед мраком, разрывало его сердце и душу на части.
Почти обезумев, он заметался, словно путник в горах, пытающийся уйти на узкой тропе от снежной лавины, зная, что если она настигнет его, то, ломая кости, унесет с собою в пропасть.
– О Аллах, помоги! Что же это такое, отец не может дать своему ребенку свет! – взмолился он, подбегая к окну, освещаемому молниями, надеясь, что от этого мальчику станет легче.
Но тот продолжал плакать, время от времени задыхаясь. С трудом, вспоминая забытые слова, Амага начал читать «Бисмалл», которому в детстве его научила мать. Он несколько минут читал эту священную суру из Корана, и плач мальчика, постепенно слабея, утих. Он удивленно взглянул на сына. Ребенок смотрел в окно, а оно было освещено странным светом.
«Сейчас ударит гром, и этот свет погаснет», – подумал Амага. Но свет не гас несколько минут, а потом проходили еще и еще минуты.
«Хвала Тебе, Великий Боже», – думал отец, глядя сначала на улыбающееся лицо сына, а потом на освещенное окно.
Наконец сын сказал:
– Папа, в дверь стучатся.
Отец прислушался: действительно, в дверь стучали. С сыном на руках он подошел и отомкнул дверь, забыв задать вопрос: «Кто там?»
– Я вспомнила, что сегодня у нас закончились спички, и принесла их, да и мальчик не может без света, – говорила извиняющимся тоном, словно боясь, что ее не пустят в дом, Луиза.
Амага отступил в сторону, пропуская ее в дом. Жена, войдя, начала, зажигая спички, искать свечку. Амага, заперев дверь, вошел следом за ней, и увидел, что освещенное окно погрузилось во тьму. Но в это время жена зажгла свечу, и в комнате стало светло.
Он взглянул на часы – было предрассветное время. «Как же я был неправ, думая, что нет никого, кого я мог бы призвать на помощь», – думал он, идя умываться. Он начал делать омовение, каждый раз читая «Шахаду», так как других молитв для омовения не знал. Когда он встал на утреннюю молитву, начинало светать. Вместо «Аттахийат» прочел «Фатиху», так как наизусть знал только эту суру. После молитвы он долго сидел, подняв руки к лицу, мысленно, без слов, обращаясь к Богу, рассказывая обо всех своих тревогах.
Луиза смотрела на него с удивлением. В их доме до сих пор не молились…
1993.
Перевод М. Эльдиева.
Отцовский сад
С наступлением весны вспоминается мне наше старое село, где прошло мое детство. Вокруг села рос густой лес. Деревья и кустарники вновь и вновь вырастали там. Потому людям приходилось постоянно расчищать свои сенокосные места и пастбища, а не то все вокруг давно бы заросло.
Когда-то здесь повсюду были дремучие леса и люди селились, вырубая деревья и сжигая остающиеся пни. Теперь люди боролись с остатками тех лесов, что были вырублены когда-то: они упорно не хотели исчезать, заново оживая каждой весной.
За годы выселения все село заросло. Вернувшиеся через тринадцать лет сельчане обнаружили, что деревца, посаженные ими еще до выселения, превратились в большие деревья. А лес, тесно обступавший село, разросся, и дикие звери были совсем близко. Говорили даже, что горные лани разгуливали по селу, не боясь людей.
Возвратившимся людям пришлось отвоевывать село у зверей и густой поросли. Звери-то быстро убежали от одного только шума. Но борьба с растениями так скоро не завершилась. Пришлось много потрудиться. Топорами, пилами, косами люди вычистили свои пашни и другие земли.
Прошло уже пять лет с тех пор, как не стало дороги в наше село (мост через Аргун разрушен). Эти пять лет пошли на пользу окружающей село растительности: из ростков выросли саженцы, саженцы превратились в кусты, кустарники стали деревьями…
Да, когда я был маленьким и мы жили в нашем старом селе, шла непрерывная борьба с деревьями, окружающими село. Тем не менее в своих дворах люди разбивали сады, принося с далекой равнины разные саженцы: яблони, груши, вишни, абрикосы, персики (последние два приживались трудно, особенно персик – плодов давал очень мало и постепенно совсем высыхал).
Отец тоже посадил за домом и во дворе сад. Причем сад этот был необычным. Многие посаженные им деревья были дикими: дикие груши, дикие яблоки. Когда они хорошо окрепли, в начале весны отец обрезал верхушки. И привил к ним другие ветви, взяв их от самых плодоносящих деревьев в селе. Один конец ветки он очищал от коры, а затем прививал его к срезанному стволу дикого саженца. Иногда к одному стволу отец прививал сразу по две, три или четыре ветки. Потом обвязывал место прививки, как будто рану, прикладывая немного черной земли или удобрение.
Сельчане с удивлением смотрели на то, что делал отец. Многие, посмеиваясь, качали головами: «Зря трудишься, ничего не получится».
Но все получилось: большинство привитых ветвей ожило. Из двух или трех прижившихся к одному стволу ветвей отец оставлял лучшую, а остальные удалял. Потом год за годом привитая ветка росла, а на месте соединения оставался шрам, но со временем и он разравнивался, а привитая ветвь сливалась со стволом так, что не отличить друг от друга. Тем не менее лишь немногие верили, что на этих саженцах вырастут яблоки или груши культурных сортов. Когда впервые деревья зацвели, все сомневались – «цветки опадут и не принесут плодов»; когда появились плоды – «они испортятся и опадут»; когда не опали – «сердцевина плодов будет гнилой». Плоды, однако, не сгнили, а наоборот, обладали каким-то особенным вкусом: кисловатый привкус диких плодов смешивался в них со сладостью выведенных людьми сортов.
Из деревьев, посаженных отцом, вырос хороший сад, приносящий обильные урожаи. Да и ухаживал он за садом тщательно: весной или осенью делал обрезку, рыхлил землю вокруг деревьев. И нас, детей, тоже учил ухаживать за деревьями.
Когда он заболел, а затем умер, уход за садом ослаб. Потом сад и вовсе забросили, и он зарос…
Потом началась война, первая война, и в селе сожгли все дома. Все равно люди возвращались к родным местам, пытались ухаживать за землей, собирали созревшие плоды, очищали сенокосные места, пробовали косить.
Когда началась вторая война, мост через Аргун разрушили бомбовыми ударами и теперь попасть в село очень трудно, даже пройти к могилам родственников сложно. Теперь, наверно, и кладбище, и село окончательно зарастут кустарниками и другой растительностью.
Год назад, перед наступлением осени, двое мужчин из села Зоны побывали в нашем селе, перейдя речку по мелководью.
Покинутое село было все в плодах деревьев, которые остались без присмотра и пропадали теперь без всякой пользы. Когда они рассказывали об этом, у обоих слезы выступали на глазах…
Услышав это, мне еще сильнее захотелось поехать туда. Попасть в село можно и другим путем: сделать большой круг через Шатой, а затем через Варандой – на машине, на лошади или пешком, можно было бы и на тракторе…
Но не поехал, знакомые и близкие отговорили: «Зачем тебе туда ехать? Дороги опасные, могут быть мины, да и стреляют из орудий по селу непрерывно. Если уж идти, то пойдем все вместе, взяв разрешение коменданта, и построим мост».
Слушая их, я вдруг вспомнил, как когда-то наших сельчан, возвращавшихся из Казахстана, уговаривали: «Зачем вам идти в эти трущобы? Селитесь на равнине». Люди не знали, что делать… Отец сказал тогда: «Вы поступайте, как хотите, а я буду жить там, где жили мои отец и дед». И люди последовали за ним.
Вот уже пять лет, как село заброшено из-за отсутствия моста. Да разве это такая уж трудноразрешимая проблема?! Были бы прадеды на нашем месте, они бы нашли дорогу в село.
Дороги отцов… Кто сегодня следует им? Или старается следовать? Мало таких.
В последнее время я все чаще вспоминаю об отце. Все, кому нужна была помощь, в любое время, рано утром или поздно вечером, смело стучались в его дверь: если нездоровится человеку, заболела корова или овца, ребенок долго плачет, нужно научить делать намаз или читать Коран (последнее было запрещено в прежнее время, но все же у отца постоянно было по два или три ученика). Отец всегда шел на помощь людям, считая это своим долгом. Думаю, только теперь я понял его, его дела и смысл его жизни: он больше думал об ином мире, для него и жил, и трудился.
Во мне нет многого из того, что было в отце. Но иногда думаю, что смог бы ухаживать за отцовским садом. И боль за этот сад терзает меня с началом каждой весны.
2004.
Перевод Т. Батаевой.
Бабочки
Сегодня утром, после восхода солнца, на свет появилась бабочка по имени Светло-Желтая. Все вокруг ей казалось необычным и светлым. Бабочке было очень весело: перелетая с одного цветка на другой, порхала она по саду, напевая песенку, которую почему-то вдруг вспомнила:
Как прекрасен этот мир –
Ведь я появилась на свет!
Как прекрасен этот мир –
И солнца ярче нет!
Вот так, весело летая, она заметила другую бабочку, сидевшую на белом цветке. Они познакомились. Ее звали Светло-Красная. Она родилась на день раньше, во время захода солнца.
Светло-Красная рассказала подруге:
– Самая большая бабочка среди нас – Советница. Ей три дня. Через каждый час она собирает всех бабочек в саду и дает советы.
Они полетели в сад. Светло-синяя бабочка по имени Советница восседала на большом желтом цветке, вокруг которого собрались желтые, красные, черные, серые, пестрые и другие бабочки.
Советница говорила:
– У людей большие проблемы. Они разделились на группы. И теперь готовятся воевать друг с другом. Ими изобретена атомная бомба. Если ее взорвут, весь мир разрушится.
– Пусть их мир рушится – ничего, – сказала одна черная бабочка.
– Э-э, малышка, ты неправильно поняла… Если их мир разрушится, то и наш мир исчезнет, – сказала Советница. – Неизвестно, что будет дальше, оставайтесь в саду, не разлетайтесь!
– А что значит «мир разрушится»? – спросила Светло-Желтая.
Советница ответила:
– Это значит, что не будет этого сада, этого солнца, цветов, нас – все погибнут.
Светло-Желтой не хотелось дальше слушать, и, подгоняемая теплым ветерком, она вылетела из сада к высоким травам.
Там она увидела другую бабочку, свою ровесницу. Они подружились. Вдыхая ароматы прекрасных цветов, они порхали, обгоняя друг друга, кружась, касаясь крылышками родниковой воды. Так продолжалось, пока не взошло солнце.
Потом они вернулись в сад, где Советница собирала их.
Увидев страшную картину, они замерли. Под деревьями лежали мертвые бабочки. Светло-Желтая узнала их: Советница, Светло-Красная, Светло-Пестрая и другие, другие… Все, кого она видела утром…
Неожиданно у нее перехватило дыхание, стало трудно дышать. Но, падая на землю, Светло-Желтая бабочка успела понять: чтобы разрушить их мир, достаточно одному человеку прийти в сад и опрыскать деревья…
1980.
Перевод Т. Батаевой, Р. Талхиговой.
Во время листопада в горах
Светлой памяти Абдул-Гапура,
истинного алима-ученого
Была пора, когда листва, отяжелевшая от осенней меди, опускавшейся на горные леса, отрывалась от веток и мягко ложилась на землю. Укутанные вечными снегами вершины высоких гор никогда не знали ни серебра зимы, ни меди осени, ни изумруда лета, они вечно были одного цвета – белого.
Старик Даба, житель этого села, иногда размышлял, глядя на горы, и однажды он сказал Янарсе, ученому-богослову, что они кажутся ему примером того, что в мире есть неизменяющиеся вещи, неподвластные времени.
И, задумавшись над его словами, Янарса ответил, что меняется все, даже эти горы; человеческой жизни не хватает, чтобы увидеть эти перемены, но не видимые глазу они все же происходят; эти изменения понемногу, незаметно происходят много лет или же, накопившись за тысячелетия, случаются вдруг, резко в виде извержения вулкана, либо на месте гор появляется море; кроме того, ведь есть и Судный день, когда по воле Бога эти горы будут разрушены, и Земля станет плоской и гладкой, как ладонь; никогда не меняется только Бог, сотворивший нас, Он был и будет вечно, у Него нет ни начала, ни конца.
После этого разговора Даба старался не думать на эту тему, для его разума это было слишком глубокое учение, иногда, случайно взглянув на снежные вершины гор, вспомнив, как коротка человеческая жизнь, и завидуя горам, у него рождалась безрадостная мысль: «Они стояли при семи поколениях моих отцов, и семь поколений моих потомков увидят их – как мало живет человек по сравнению с этим».
И как бы в ответ на эту мысль – другая: «Если эта жизнь лишь начало будущего, бесконечного будущего, зачем я переживаю, думая о том, что станется…»
И эта мысль, разбегаясь, как морская волна, накрывала собой сознание. Но опять начинала протестовать мысль-желание быть в настоящем: «Неизвестность необычна и пугает… Что же будет?.. Как трудно предстать перед Богом…» Потом новая волна мыслей, а потом еще… Когда теснящиеся мысли переполняли его голову, Даба шел к Янарсе, и говорить ему ничего не надо было, стоило его увидеть, как сознание успокаивалось, и мысли утихали, как море в штиль.
«Хвала Аллаху, – говорил себе Даба, – милосердие Бога в том, что ты, Янарса, живешь в этом селе, не будь этого милосердия, то мысли, невольно рождающиеся в голове, разорвали бы мою черепную коробку…»
– В мой смертный час ты должен быть рядом со мной, Янарса, – говорил он часто.
– Неизвестно, кто из нас уйдет раньше, Даба… Но если буду жив-здоров, то где мне быть, как не рядом с тобой?.. – отвечал ему Янарса.
– И это неизвестно… Но точно знаю: если я переживу тебя, мои дела будут плохи, – огорчался Даба.
Сегодня, после полуденной молитвы, люди не расходились из мечети, ожидая чего-то.
– По моим расчетам, они сейчас должны быть в Лаха-Варша, – сказал Янарса. – Когда они оттуда выйдут, должно быть сообщение.
– Как, что за сообщение? – не понял Даба.
– Даба, тебе все надо объяснять, – улыбнулся Янарса.
– Ваш долг объяснять нам, Янарса. Мы же без вас, как паства без пастыря.
– В таком случае я вынужден объяснить… Когда наши гонцы повернут обратно, на окраине села они выстрелят в воздух; услышав звук выстрела, наш брат-мусульманин у села Лаха-Варша выстрелит в свою очередь; вслед за ним выстрелят у селения Сюжи, а за ним – в Вашиндарое; потом выстрелят в Барзое… И передаваемая таким образом из села в село эта весть достигнет и нас…
– Умело придумано, – кивнул Даба.
Остальные старики, не поддерживая и не развивая тему их беседы (как всегда делали до сих пор), стояли тихо, глядя на окраину села, или сидели во дворе мечети на выструганных длинных бревнах, служивших скамьями, либо на больших валунах, перебирая четки, читая молитвы, и в завершение их проводя ладонями по лицам.
Солнце клонилось к закату, и тени стали длинными, но звука выстрела не было слышно.
– Абдул-Азиз не отпустит наших гонцов без угощения. Да и коней надо поменять, – сказал Янарса тихо, словно разговаривая сам с собой.
– Наверное, так, наверное, так, – закивали старики.
Прошло немного времени, когда на вершине высокого холма, на восточной окраине села, раздался выстрел.
– Прибыли, прибыли!!! – закричали люди.
– Не прибыли, только что тронулись в путь из Лаха-Варша! – сказал громко, чтоб все слышали, Янарса.
Видимо не до конца поняв смысл его слов или поняв, но возбужденные от близости того, что так долго ждали, сельчане, и стар и млад, столпились на площади у мечети. Среди них: с трудом передвигающиеся старики, инвалиды, беременные женщины (последние, стесняясь, избегая взглядов мужчин, смущенно прятались за спины других женщин).
Старик Осма, парализованный радикулитом, велел привезти себя к мечети на санях-волокушах, запряженных конем.
Янарсе, подошедшему к нему, чтобы справиться о здоровье, он сказал:
– Как неудобно, Яни, вы все стоите на ногах, а я бессилен…
– Тут нет твоей вины, Осма, болезнь тоже от Бога.
– Как же все-таки неудобно, – глаза Осмы увлажнились.
– Люди, если они сейчас только у Лаха-Варша, пройдет шесть-семь часов, пока они прибудут сюда. Поэтому расходитесь по своим делам, – сказал Янарса.
Это был высокий, худощавый старик, живущий однообразной жизнью и мало подверженный влиянию времени; сегодня, в восемьдесят два года, у него был тот же облик, что сформировался когда-то, в пятьдесят-шестьдесят лет. В его облике, во всей его жизни, во всем: в походке, в речи, в горе и радости – было какое-то своеобразное спокойствие, казалось, и время, поддавшись его спокойствию, не торопилось старить его тело. Это внешнее спокойствие было отражением его внутренней сущности. Оно начало поселяться в его сердце постепенно, с каждым днем по капле, после сорока, когда он углубленно стал изучать ислам, и, наконец, наполнило собой все его существо. Когда Даба задавал ему вопросы, мучавшие его, Янарса едва заметно улыбался: он узнавал себя, тоже когда-то вот так мучимого сомнениями; а чтобы избавиться от сомнений и укрепиться в вере, надо изучать священное учение; но чтобы укрепиться в вере, этого недостаточно, нужно постоянно работать над самосовершенствованием, контролируя свое сознание.
Идти по пути очищения Янарсе помогло то обстоятельство, что в Чечне были люди, достигшие вершин нравственной чистоты и потому достойные подражания. Ему было легче: он был не первым и не вторым, прорубающим путь сквозь джунгли мракобесия и ереси, и, видимо, даже не третьим. Да, ему было значительно легче: ему было с кем посоветоваться.
Наиболее духовно близким для Янарсы человеком стал Абдул-Азиз из Лаха-Варша. Что бы ни произошло, раз в два месяца, оседлав коня, Янарса выезжал из родного Хочи-Юрта, чтобы проведать друга. В общении с Абдул-Азизом его мысли прояснялись и печали исчезали. Не в характере Абдул-Азиза было выставлять на показ свою ученость, но спрашивающего он никогда не оставлял без ответа. Правда, в пятницу, во время коллективной молитвы (Янарса обычно приезжал к нему по пятницам, чтобы совершить пятничную молитву с ним), Абдул-Азиз коротко, не отнимая у людей много времени, читал проповедь.
Познакомившись с ним поближе, Янарса понял, что нравственной чистоте он учит людей не только своими речами, но и образом жизни, делами, поведением. Вместе с тем, он не был материально зависим от односельчан: помимо исполнения обязанностей муллы, он содержал хозяйство, участок земли, домашнюю скотину, более того, занимался деятельностью, почти незнакомой в горах, – торговлей. При взвешивании и отмеривании продуктов и товаров, при оплате труда чабанов соблюдать справедливость очень тяжело… Давать указания и объяснения словами не так уж и трудно, гораздо сложнее жить сообразно своему учению, достичь такого духовного совершенства, чтобы стать примером и в жизни, и в добывании пропитания, и в учении. Жить подобным образом в силах разве что святой.
Лет семь-восемь назад Янарса укрепился в мысли: хоть Абдул-Азиз из Лаха-Варша и не был основателем своего мюридистского ордена, все же в совершении богоугодных дел, в отношениях с людьми он достиг степени святого авлияа. Поэтому при первом же удобном случае он седлал коня и ехал в Лаха-Варша. Оказывается, каждый раз сельчане, в основном соседские дети, завидев его серого коня еще на вершине Харот-Корт, сообщали Абдул-Азизу, что едет гость из Хочи-Юрта. Тогда жена Абдул-Азиза, Медни, для Хозяина Серого (она в знак уважения не называла его по имени) готовила изысканное блюдо – лепешки с начинкой из творога или тыквы… Вкусное алычовое варенье он впервые попробовал в доме Абдул-Азиза. Поняв, что оно ему понравилось, Медни сделала для него запас и каждый раз, когда он приезжал в гости, угощала его.
Несмотря на обилие гостей в доме Абдул-Азиза, Янарса никогда не чувствовал себя обделенным вниманием. Наоборот, своим гостям из соседних сел и с равнины он представлял его как человека, хорошо разбирающегося в священном учении, и, несмотря на разницу в возрасте (около десяти лет), усаживал его на почетное место, заставляя читать суры из священного Корана.
Каждый раз в гостях у Абдул-Азиза, сидя на веранде с восточной стороны дома, Янарса думал: «Вот так, искренне желая людям добра, с чистыми помыслами, став примером во всем, человек не сможет жить, если его не наградил Бог». Эта же мысль у него возникла и ровно год назад, когда он, прослышав, что Абдул-Азиз собирается пешком совершить паломничество в Мекку, поехал проведать его, и Абдул-Азиз сказал ему: «Янарса, если твое желание совершить хадж в Мекку твердо, не откладывай из-за денег, я помогу, потом, когда-нибудь, если у тебя появятся, отдашь, собирайся, да и мне в пути будет товарищ». На это предложение Янарса ответил: «Да будет тобой доволен Аллах, Абдул-Азиз! Я пока еще не готов к совершению хаджа, кроме того – ты это знаешь лучше меня – все расходы паломник должен нести только из честно заработанных им самим денег». Янарса молился за них с того дня, как Абдул-Азиз и его товарищи тронулись в путь вместе с большой группой паломников из Чечни, и до тех пор, пока они не вернулись домой. Он мысленно вместе с ними проделал их нелегкий путь: пешком через Грузию, потом на пароме через Черное море в Турцию, оттуда пешком и на верблюдах через несколько стран. Узнав, что паломники вернулись, он сразу оседлал коня, приехал в Лаха-Варша и удивился множеству людей, заполнивших двор Абдул-Азиза. Старики, молодежь, женщины, дети – все хотели обнять человека, побывавшего в священной Мекке, пожать его руку, послушать его, почувствовать особую чистоту тех мест, где пророк Магомет (да благословит его Всевышний!) жил, проповедовал, где Аллах через архангела Джабраила передавал ему священное писание – Коран, где он похоронен…
Увидев Янарсу в толпе людей, Абдул-Азиз сказал:
– Добро пожаловать, Янарса! Пропустите Янарсу! Он гость издалека. Пропустите.
Эту ночь Абдул-Азиз, Янарса и еще несколько человек провели в неустанных молитвах в комнате, где на высоких полках лежали священные книги. Иногда Абдул-Азиз рассказывал о том, что ему довелось увидеть в Мекке и Медине, и по просветлевшим лицам слушателей можно было понять их радость, иногда глаза их увлажнялись, и светлые слезинки скатывались вниз по щекам. Они не просто слушали Абдул-Азиза, они мысленно были там, где жил пророк (да благословит его Всевышний!).
Они и не думали спать, когда наступило время утренней молитвы. Пока они, совершив сначала добровольную, а потом обязательную молитвы, перебирая четки, поминали Аллаха, а после обращались к Богу с мольбой, воздев руки, рассвело.
Абдул-Азиз подарил Янарсе привезенную из Мекки священную книгу имама Шафии и четки.
Уже уходя с подарками, Янарса заметил прекрасно оформленный Коран, лежащий на высокой полке у стены. Это был Коран с текстом, написанным по правилам «Таджвид» и набранный шрифтом, называемым «шрифт Усмана», привезенный из Мекки Абдул-Азизом. Такой Коран в Чечне был редкостью, муллы пользовались либо Коранами, напечатанными в Казани, либо текстами, написанными дагестанскими алимами от руки.
Заметив его взгляд, Абдул-Азиз сказал:
– Янарса, мне удалось привезти только три таких Корана. Один из них я подарил Учителю, другой – мулле из соседнего села, а этим мы будем пользоваться с тобой вместе.
– Да будет тобой доволен Аллах! Да примет он твой хадж благосклонно! Счастливо оставаться, – покинул двор Янарса, взяв коня под уздцы.
С тех пор прошло два месяца, и лето сменилось осенью.
В предзакатный час один из учеников Янарсы, взойдя на минарет, прокричал «азан», созывая правоверных на молитву.
Когда они после молитвы вышли из мечети, солнце склонилось еще ниже над вершинами гор, приобретшими бронзовый оттенок. На смену дневному теплу подул прохладный ветер, и он легко, словно они никогда и не были связаны с ветвями, целыми охапками срывал с деревьев багряно-желтые листья. Это были сутки, наступающие только раз в году, – ночь, когда оголялись леса. Когда пройдут эти день и ночь, люди утром, выйдя на улицу, увидят, что леса стоят оголенные и черные – это один из цветов близкой зимы. У зимы только два цвета: черный и белый, черный цвет наступит завтра же, а белый – чуть позже, они скроют все разноцветье природы.
Сегодня, в последний день, заглушая все другие цвета, здесь буйствует ало-золотистый цвет, и желтые лучи заходящего солнца еще более усиливают его волшебство, заполняя им всю природу.
Листья и солнечные лучи падают на спины овец и коров, проходящих по тропе под деревьями, и, медленно кружась, листья падают дальше; животные изредка хватают листья, но не жуют: несмотря на красивый цвет, не похоже, что они вкусны, видимо, расставание сделало их горькими. Коровы и овцы топчут листву. Ветер разносит вокруг чудные запахи осени: ароматы очищенных початков свежей кукурузы, спелых груш, яблок, чернослива, поспевающей айвы.
Солнце зашло, заметно похолодало. Муэдзин с минарета призвал к вечерней молитве, и, когда после молитвы люди вновь вышли во двор мечети, в небе, значительно выше горных вершин, сияла полная, такого же осенне-желтого цвета, луна.
Шел седьмой час, когда за околицей села раздался выстрел. С тех пор люди, собравшиеся у мечети, и стар и млад, стояли, если не считать времени молитвы, и никто ни разу не присел.
Настолько важной и величественной была для них весть, которую должны были принести посланники. Один Осма невольно был вынужден сидеть на санях-волокушах, и обида за свою слабость застряла у него комом в горле.
Время близилось к ночи. Поднявшийся из-за гор диск луны скользил уже высоко.
Листья и ночью продолжали падать, цепляясь друг за дружку, словно боясь не успеть. И шорох листопада сливался с шепотом людей, поминающих Аллаха.
Неожиданно, обжигая тишину, на окраине села раздался еще один выстрел.
– Прибыли, прибыли! – закричали люди, и скоро показались три всадника, скачущих во весь опор. Длинные черные тени всадников обгоняли их.
Остановив коней посреди площади, всадники, желая доброй ночи собравшимся, спешились.
Один из них из заплечной сумки своего товарища взял квадратный ларец. В лунном свете четко выделялся белый цвет ткани, в которую он был обернут.
– Прибыл наш почетный гость. Во имя Бога, Милостивого, Милосердного, – сказал Янарса, спускаясь по ступеням навстречу всадникам, те положили ларец в его протянутые руки.
– Люди, Коран – великое Слово Божие – прибыл к нам из Мекки! Он напечатан шрифтом Усмана, соблюдая правила «Таджвид». Подобный Коран в нашем селе впервые. Да прибудет милость Аллаха в наше село вместе с этим Кораном!
– Аминь! Аминь! Хвала Аллаху, хвала Тебе, Боже! – раздались на площади крики и рыдания.
Янарса с Кораном в руках вновь поднялся на открытую веранду мечети. Там, став на верхнюю ступеньку лестницы, он раскрыл Коран. Двое учеников с лампами в руках встали слева и справа от него, направляя свет на страницы священного писания. Сначала прочитав «Аль-Фатиху», Янарса начал с новой суры:
– Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Алиф, лам, мийм!..
Высокий голос Янарсы разлился далеко вокруг в серебристом свете луны, особым напевом заглушая шорох листопада и журчание родников. Люди на площади стояли, слушая его с прикрытыми глазами, и каждый думал о своем.
Где-то в середине суры Даба почувствовал, как беспокойные, словно бушующие волны, мысли упорядочились, и к нему пришло удивительное умиротворение. Свое сознание ему показалось чистым и светлым, как вода в горном озере в солнечный, ясный день.
Осма тоже сидел на санях, печально раскачиваясь и не вытирая безостановочно текущие слезы. На каждого производили впечатление и священная сура, и голос Янарсы, каждый надеялся на милость Божью.
Янарса закончил чтение суры, а тишину никто не нарушал.
– Люди! Близится время ночной молитвы! Готовьтесь к молитве. Да воздаст вам Бог Своей милостью за ваше уважение к Слову Его.
– Аминь! Аминь! Да будет тобой доволен Аллах, – раздались голоса, и люди пришли в движение.
И тут, заглушая голоса людей, раздался крик:
– Яни! Яни!
Это кричал Осма. Все оглянулись на него. Он стоял на коленях.
– Яни! Я могу встать! Я могу подняться, я…– говорил Осма, улыбаясь сквозь слезы.
– Хвала Аллаху, велика милость Бога, – подошел к нему Янарса и взял его ладонь в свои руки.
Люди окружили Осму, вознося хвалу Господу, радуясь его выздоровлению.
– Люди, после ночной молитвы проведем эту ночь в бдениях, читая Коран, – сказал Янарса.
– Правильное решение! Правильное решение! – раздались радостные крики.
Мужчины во главе с Янарсой вошли в мечеть, женщины и дети разошлись. На площади перед мечетью, под светом огромной, полной луны, остались конь, запряженный в сани, Осма, плачущий на санях, и его одиннадцатилетний сын. Маленькому мальчику сначала показалось, что они бесконечно одиноки – он, его отец, их старая лошадь. Дернув коня за поводья и плача наравне с отцом, он шел домой мимо огромной тени от мечети, изредка поднимая голову, бросая взгляды на белоснежные вершины, виднеющиеся на светлом горизонте; он торопился избавиться от одиночества, спешил в свой маленький домик, где их ждали родственные души, чтобы поделиться с ними увиденным здесь, поделиться своей и отцовской радостью.
2003.
Перевод М. Эльдиева.
Чтобы свечу не задуло ветром
Сквозь густую пелену снега, падающего большими хлопьями, покачиваясь, двигался автобус. Размеренно бегающие дворники очищали от снежинок, налипающих густой массой, лобовое стекло, и их скрип, сливаясь с шумом мотора, создавал своеобразную мелодию – грустную и убаюкивающую.
Часть пассажиров клонило ко сну, другие предавались своим размышлениям.
От них отличалась молодая женщина. С тех пор, как автобус тронулся в путь, она непрерывно плакала, повернувшись к окну и часто утирая слезы платком. До того, как заплакать, она окинула взглядом автобус, словно пытаясь найти знакомого человека. Потом быстро отвернулась – видимо, не увидев никого.
Ашми заметил, что у нее большие глаза – темно-синие или зеленые, точно определить их цвет ему не удалось. По тому, как она смотрит, он понял, что она чеченка, беженка, которую война вынудила покинуть родной дом.
Взгляд беженца отличается от прочих. В какой бы части света он ни находился, беженец остается беженцем – человеком, лишенным крова, очага, покинувшим родину… Его не может понять тот, кто сам не был беженцем, а тот, кто был им, поймет: в сердце беженца – пустота, бескрайняя пустыня, где вечно воют холодные ветры. Нет, это не раскаленная солнцем песчаная пустыня – это покрытая снегом и льдом, бескрайняя, вечная мерзлота, которая никогда не оттает.
Он, Ашми, почувствовал холод этой пустыни еще десять лет назад. В то время он работал в единственной в мире чеченской газете, жил в доме родственников, писал статьи о литературе, культуре, обычаях, традициях. Ему больше ничего не было нужно, лишь бы все кругом оставалось так, как есть: чтобы каждое утро он мог ходить на работу в Дом печати, возвращаться домой, готовить себе ужин, строить планы на будущее…
Но все изменилось в один день: порядок, который казался незыблемым, рушился, разваливался, уходил в прошлое; многие из товарищей видели в этом хаосе хорошее, новое, упрекали его, что он проявляет симпатию к властям, хотя никогда не состоял в партии.
Однажды, возвращаясь с работы, Ашми увидел, как к памятнику Ленина прицепили трос (удивительное дело, как этот тщедушный немолодой человек, нездоровый на вид, самостоятельно, словно паук, взобрался на памятник, чтобы набросить трос на шею Ленина) и «КАМАЗ» свалил его. Ашми сказал стоявшим рядом товарищам: «Это варварство». Из-за этой реплики он – хотелось ему этого или нет – прослыл «заступником партии».
Вскоре обвинения еще более усилились. «Разве не помнишь, – говорили ему, – как тебя таскали по разным инстанциям из-за того, что писал статьи о чеченском быте, о водяных мельницах, о значении лошади в хозяйстве горцев, о своеобразной архитектуре башен?» Он помнил об этом и обо всем другом, но сердце подсказывало ему, что бездумные действия этих людей приведут к большой беде.
Однажды вечером, увидев, как на митинге двое – работник Дома культуры, тщательно изучавший для вступления в партию труды Маркса, Энгельса и Ленина, чуть ли не спавший, положив их под подушку, а также поэт, сочинявший хвалебные стихи, не пропуская ни одного красного дня календаря, – смело выступали, обвиняя известных в крае людей, угрожая самому могущественному в мире государству, он убедился в этом окончательно. Удивительно было не то, что они так осмелели, а то, что так легко, безоглядно переступили соблюдавшиеся до сих пор чеченцами правила приличия, перестали соблюдать этикет во взаимоотношениях и разговоре между собой. Еще до того, как они вдвоем вышли из здания телевидения, Ашми почувствовал исходящий от них холодок хамства – хамства людей, которым все дозволено… Потом они проникли в разные учреждения… Больше всех по душе им пришелся Дом радио…
По радио днем и ночью звучала одна и та же песня:
Дует ветер холодный, холодный…
Возможно, тогда исполнялись и другие песни, велись и другие разговоры, но в его памяти осталась именно эта:
Дует ветер, холодный, холодный…
Барга, барга, барга, барг…
Утром, днем, вечером, в полночь, на рассвете:
Дует ветер, холодный, холодный…
Оказывается, они пели о ветре, который теперь постоянно дует в его душе…
Приблизившись к окраине какого-то села, водитель несколько снизил скорость. День клонился к вечеру; снег не переставал падать. На улицах села были видны люди, занимающиеся хозяйственными делами, а также скот, выгнанный на водопой. На остановке стоял мужчина, он попросил остановить автобус. Перед ним стояло несколько ящиков с гуманитарной помощью от Красного Креста. Автобус остановился, мужчина со своими ящиками поднялся.
– Эй, чеченцы, как много вас оказалось, – сказал старик, сидевший на переднем сидении, смеясь своей реплике. – И здесь вы, и в Грозном, и в Москве, и за границей… Вас оказалось так же много, как китайцев.
Беженец, не ответив, уселся на место, которое уступил ему молодой человек, поставил перед собой ящики с гуманитарной помощью.
Шутку старика никто не поддержал, она никак не соответствовала подавленно-грустной атмосфере, царившей здесь. Старик и сам, видимо поняв это, быстро достал из кармана четки и стал перебирать их.
А у окна плакала молодая женщина, часто утирая слезы и глядя на ребенка, которого держала на руках.
Ашми опять задумался.
Дует ветер, холодный, холодный …
Да, под эту песню люди, нарушая все границы и запреты, ожесточившись, остервенело метались, говоря о том, во что не верят сами, провозглашая несбыточное, яростно заклинали, страстно разоблачали, варя на улицах котлы, поедая мясо. Они не различали дозволенное от недозволенного, принижали великое, поносили достойное, забросив свое хозяйство, бродили по городу, словно животные… Воры поучали, сумасшедшие лечили, полные женщины выли по-волчьи, худые записывались в армию, курицы кукарекали по-петушиному, кошки лаяли по-собачьи, кони ржали по-ослиному, ослы лягались – все закружилось, предвещая что-то страшное.
Война… Она была не такой легкой, как предсказывали, сверкая глазами, на площадях старики, а тяжелой, жестокой, с бомбежками городов и сел.
Ашми довольно долго оставался в своем доме, расположенном на окраине города: мол, я никому ничего плохого не сделал, поэтому мне ничто не угрожает. Но когда на его улице от осколка ракеты погибла старушка – она пасла свою бурую корову, продавала молоко и перебивалась этим – он понял, что война не разбирает, кто виноват, а кто нет: этому дракону все равно, лишь бы была добыча, которую можно проглотить.
Ашми уехал в горы, в село, где родился и вырос. Там он привел в порядок дедовский дом и провел пять месяцев, прощаясь с жизнью каждый раз, когда налетавшие с равнины самолеты начинали бомбить окраину села. Хорошо, что он переехал в село: рядом была мать, родственники, они утешали его, он – их, были опорой друг другу. А кто знает, что случилось бы в городе?
Через пять месяцев, в начале весны, когда сельчане вскапывали и засевали свои огороды, заскакивая при налете самолетов в вырытые во дворе ямы – подвалов у горцев не было, они никогда и не думали, что в них будет необходимость – да, в то время, когда зеленеют горные склоны, появляются желтые и светло-голубые цветы, он, загрузив свои пожитки на машину, отправился в город. Он не знал, что творится в городе, переживал за остающихся в селе. В сознании мелькала мысль: «Если от имени государства бомбят своих же граждан, не различая виновных и невиновных, исходя из того, что просто кто-то будет поражен, мир, люди изменились, перешли в другое качество, при котором не различаются понятия «добро – зло», «жестокость – милосердие».
В этом он еще больше убедился, когда на одном из блокпостов, увидев скопление людей (как и он, с гор в свои дома возвращались горожане), задал вопрос: «Почему задерживают людей?», не получив ответа, направился прямо к солдатам, достал из кармана красное удостоверение и едва успел протянуть его со словами: «Я член Союза журналистов СССР», как его остановил солдат с косынкой на голове, передернул затвор автомата и прикрикнул: «Да хоть космонавтом будь! Мне все равно! Вон!».
Да, и СССР больше не было, и мир изменился.
Потом он увидел город: центр полностью разрушен, окраины разбиты, места, по которым ходил в детстве, изуродованы до неузнаваемости, перепаханы войной, кругом закопченные печные трубы разрушенных домов. Но все же некоторое время люди, уверенные, что беды и лишения навсегда остались позади, были энергичны. Турецкие фирмы обнесли руины в центре города красивым забором и обвесили их белой бумагой, на которой были какие-то надписи на их языке. У большинства людей ощущался порыв к созиданию, желание все расчистить, восстановить, отстроить заново.
Но оказалось, что настоящее зло только начиналось – об этом в ту пору не было известно ни ему, который, устроившись на телевидении, начал делать передачи о народных традициях и необходимости их возрождения, ни ей, девушке с большими синими глазами и светлыми волосами. Она вела передачу «Столица» на русском языке, рассказывая о светлом будущем чеченской столицы, находя в позитивных мелочах его ростки.
Они были близки друг другу не только своей верой в будущее. Ашми нравились ее большие синие глаза, удивительно синие, как цветы, появляющиеся в начале весны. Их замечал не только он один. Таких было много. Но она выбрала его.
Возможно, причиной тому стал случай, произошедший во время видеосъемок в Веденском районе, когда похитители людей попытались захватить их в плен, а он, достав гранату и взявшись за чеку, спас их от грозящей беды.
Или ей по душе пришлось то, что он вместе с ней, когда перекрыли дороги и людям не давали уходить с гор (ее бабушка жила в маленьком горном хуторе), а сердца их разрывались, как небо, от рева непрерывно налетающих самолетов, забыв про усталость, обивал пороги чиновников с просьбами и заявлениями, писал сначала вежливые, затем нелицеприятные телеграммы Ельцину в Москву: «… если Чечня – субъект России, обеспечьте право на жизнь своих граждан»… Через неделю хлопот, благодаря помощи международной гуманитарной организации, наконец-то был дан коридор по лесной дороге, и Ашми с Элимой вместе пришли в село. Люди, доведенные до отчаяния бомбежками, плача, бежали им навстречу; уподобив их пришедшим на помощь святым, суетились, а он, утешая их, прося известить всех, выступил перед ними с короткой речью.
Возможно, Элима сделала свой выбор и из-за другого случая. Это произошло на узкой лесной дороге (хорошо, что не было дождя, иначе была бы непролазная грязь), машины тронулись вниз и в облаке пыли столкнулись, одна из них свалилась в пропасть, пострадали люди; Ашми отдал редакционную машину, чтобы вывезти раненых. (Тогда она как-то особенно посмотрела на него, удивляясь и восхищаясь).
Но, оказывается, он ошибся и в этом: через год после знакомства она сама рассказала о причине своего выбора: «Хотя на вид я казалась беспечным человеком, на сердце была печаль, я тревожилась о своей будущей судьбе, не знала, как буду жить в этом жестоком мире, ведь я единственный ребенок престарелых родителей. Мне показалось, что ты почувствовал мою незащищенность, я заметила в тебе сострадание, желание стать опорой моей потерянной душе». – Он ответил ей: «Я ничего не заметил, просто увидел твои большие синие глаза – два озера Кезеной…» – «Однажды ты спросил, почему я не ношу темные очки, сказал, что они бы пошли мне… Я много думала об этом. Почему ты так сказал?» – «Знаешь, почему? Чтобы в озерах твоих глаз не купались отражения посторонних людей… Они были нужны мне одному…» После этого она долго смеялась: «Я и не думала, что ты такой…»
Ее теперь нет, и ему казалось, что таких глаз больше ни у кого не может быть. До сегодняшнего дня…
Женщина с такими глазами сидела в этом автобусе, впереди него, она непрерывно плакала, то и дело глядя на своего ребенка, улыбающегося во сне. Было огромное желание заговорить с ней, расспросить обо всем, утешить, облегчить горе. Но он не сделал этого, потому что было неизвестно, как она воспримет его участие, как это растолкуют находящиеся здесь люди… Он опять задумался.
Ашми женился на Элиме, недорого купил полуразрушенный дом на окраине города, восстановил его с помощью родственников, но не успел прожить там и двух месяцев, как судьба Грозного вновь перевернулась.
Боевики вошли в город и захватили его, а федералы беспорядочно бомбили, подвергали минометному обстрелу жилые дома. Боевики и не думали уходить, они быстро обосновались, открыли тюрьму, начали задерживать «людей, продавшихся русским», и спешно предавать их суду, словно боясь не успеть.
Ашми и его жена тоже оказались в их числе, потому что работали на телевидении.
Поэтому сосед, переживавший за него (несмотря на уговоры, тот часто ходил в центр города, чтобы выяснить, что к чему; во время той войны с ним ничего не случилось, а на второй войне он подорвался на мине) – да, тот сосед сказал, чтобы Ашми с женой ушел, потому что ему самому и всем, кто их знает, будет трудно пережить, если с Ашми и Элимой что-нибудь произойдет. «Не беспокойтесь, мы подумаем и решим что-нибудь…»
– «Как бы вы не опоздали, как бы не опоздали»… – как-то грустно покачал головой Абдул-Гапур, складывая руки за спиной. На какое-то мгновенье он показался Ашми похожим на человека, стоящего на похоронах; представил он и похороны, свои собственные похороны, на которых стоят опечаленные люди. Эта картина испугала его, хотя это только видение, кто знает, может, в нем какой-то знак? В этот день вместе со своей женой он отправился в путь. Абдул-Гапур довез их на своей старой машине до вершин склона Суйр-корта – там она остановилась, закончился бензин. Абдул-Гапур сказал, чтобы они быстро двигались дальше, так как все равно ничем не могут помочь ему, чтобы спасались, спустились к поселку Гикало и шли дальше.
Они послушались его, ушли пешком, по пути наткнулись на две обстрелянные из вертолетов машины –«Камаз» и «Уазик»… Машины еще дымились, догорая… Четверо погибли, пятеро получили ранения. Погибших и раненых уже увезли…
Машины увязали в пыли, как в болоте, натужно ревя, дергались на месте, тогда они казались несчастнее идущих пешком. Люди, не вынося жалобный рев машин, подталкивали их, если оказывались места, один или двое из идущих садились в них … Но от этого пеших не становилось меньше, их было очень много. Когда в небе начинали кружить самолеты, они укрывались в придорожных ямах, в зарослях, а машины продолжали двигаться. Они были в большей опасности, чем пешеходы, так как были хорошо видны с самолетов, и поэтому абсолютно беззащитны…
Один водитель, узнав Ашми, остановил свой набитый людьми автобус и открыл двери со словами: «Если сможете, садитесь…» Но Ашми махнул рукой и сказал, чтобы тот ехал дальше. Автобус скрылся в облаке пыли, как и этот в снегу теперь …
Прерывая размышления, он опять обратил внимание на женщину у окна и ее ребенка… Опять всей душой и телом почувствовал он своеобразное тепло прошлого. Он сожалел о том времени, мысленно вновь вернулся назад.
Конечно, это были не сожаления о самом прошлом, а о взаимоотношениях с Элимой, он вспоминал их щемящую сладость. А то время было и трудным, и странным, и смешным, и безжалостным, как страшные сновидения, в которых все перемешалось. Время, когда произносились высокопарные речи, наполненные торжественными словами; когда упитанные женщины слагали гимны в честь победителей, а артисты – песни, после чего герои становились еще смелее и начинали угрожать всему миру; когда в каждом селе ставили высокие стелы-трубы погибшим на войне, устраивали жертвоприношения; когда играли свадьбы; когда похищали людей, а потом продавали их за деньги; когда устраивали расстрелы на площадях, на которых собиралось много любопытных; когда по телевидению, созданному на деньги, выделенные одним известным евреем, звучали песни о том, что освободят Иерасулим от иудеев; когда банды расхищали «масло родины»[1], грабили людей; когда тот, кто хотел жить честно, перебивался с трудом; когда убивали одиноких стариков, чтобы присвоить их дома; когда в мечетях передние ряды занимали грабители, приносившие в жертву часть награбленного, и вновь совершали убийства, похищения людей…Это был апокалипсис, какой-то апокалипсис.
Шли дни – без работы, без зарплаты, если даже устраивался на работу, то без оплаты труда, видя кругом все усиливающиеся пляски несправедливости – в пыли разрушенного города, в грязи, когда шел дождь или снег. Все труднее становилось честно зарабатывать свой хлеб. Нищета, осознание того, что ни ты сам, ни твои знания на родине не востребованы, холодили сердце; хотелось уйти куда-нибудь, туда, где нет лицемерия, нет людей, на природу, уйти до того, как завершится день, пока не наступит ночь…
А с наступлением ночи нужно было возвращаться домой, запирать ворота на засов, закрывать двери, шторить окна и укрываться, положив в изголовье оружие, и каждый раз, услышав шум машины на улице, хвататься за оружие, думая, что пришли за тобой… Ночь не успокаивала, наоборот, она усиливала тревогу; эта тревога, наполнив собой весь мир, плескалась через края; она таким же образом наполнила и его сердце, и поэтому один из них – или он, или мир – должен был взорваться…
Но ни мир, ни он сам не взорвались, а на их улице взорвалась бомба, сброшенная с самолета, убив пятерых – среди них было и двое детей, возвращавшихся из школы.
Ему было жаль Элиму, которая в надежде на то, что у нее будет семья, нормальная жизнь, покой, поверив в него, ушла из своего дома, оставив в одиночестве свою мать…
Однажды Элима сказала ему, что надо уходить, потому что их уже не двое, а трое. Это известие заставило его на время забыть происходящее: бомбежку, смятение людей. Оно на время освободило его от отчаяния, Ашми перестал чувствовать опасность. Но не успел закончиться день, как тревога увеличилась стократно из-за опасения за жизнь сына (или дочери – не важно, это был его ребенок…).
Он не имел теперь права оставаться там, где идет война, – если нужно, он уйдет даже на край света, у него нет денег, но все равно он уйдет, хоть пешком…
Он перебрался в село, но и там происходило то же самое, что и в городе: бомбили окраины, центр села. Погибали люди, погибали животные, которые паслись; животных погибало больше, людей – меньше…
Ашми захотелось быстрее покинуть этот край, забрав с собой близких (среди них был и их еще не родившийся ребенок, о котором знали лишь он и Элима).
Решившихся уйти оказалось двенадцать человек. Загрузив на машины то, что захватили с собой, они направились в сторону ингушской границы.
И впереди, и позади них двигались машины, над ними кружили самолеты. Они постоянно бомбили, обстреливали ракетами обочины дорог. Как только появлялись самолеты, молодой человек, ехавший на «Уазике» на две машины впереди них, спрыгивал и, направив камеру вверх, начинал съемку.
Когда он проделал это несколько раз, один старик, высунувшись из машины, крикнул: «Парень, не нужно этого делать». Но тот не послушался. Опять появились самолеты, парень снова выпрыгнул из машины. Шум, взрывы, вспышки – потом стоны, крики, плач… Оказывается, самолеты пустили ракеты. И снимавший, и старик, отговаривавший его от этого, а также множество других людей погибло – всего девятнадцать человек. Машины были разбиты, сожжены. Их машину не задело, Бог миловал…
Людей, которых держали три дня, не пропуская через границу, наконец-то пропустили. Ашми вспомнил дракона из сказки, который лежал вокруг родника, не подпуская к воде, пока ему в жертву не отдадут девушку или юношу… Дракон же, который преградил путь им, наедался не так легко, ему понадобилось проглотить девятнадцать человек…
Автобус остановился. Люди начали сходить… Плачущая женщина, вытерев слезы, направилась к выходу, держа на руках ребенка.
Да, убегая от войны в прошлый раз, они остановились здесь же, на этой автостанции. Темнело, становилось холодно. Ашми встретился с одним чеченцем из Грозного. Его звали Бувайсар. Он снимал две комнаты и позвал Ашми к себе: «Заходи, скоротаем ночь, а завтра что-нибудь придумаем». Их было двенадцать, а там – еще шестеро… В двух комнатах – восемнадцать человек… Ночь была трудной, особенно для Элимы. Ей не хватало воздуха. Несколько раз она выходила. Находилась во дворе, пока не начинала мерзнуть, потом возвращалась в дом.
На автостанцию до самого утра приезжали машины, слышались голоса беженцев, шум, плач детей…
Некоторые беженцы разожгли костры из старых покрышек и, греясь вокруг них, провели ночь на улице.
С рассветом Ашми стал обходить этот маленький городок, входя в каждый двор, спрашивая, не примут ли они у себя постояльцев за некоторую плату… Но, по словам хозяев, дома были заняты людьми, бежавшими от войны; двое-трое сказали, что сдадут жилье за сто долларов, за меньшую сумму не согласны.
Он вернулся, когда уже начинало темнеть; ноги ныли от долгой ходьбы. Он не смог в этот вечер взглянуть в глаза Элимы. «Я не нашел жилья», – сказал он, не поднимая взгляд, упершийся в пол; в комнате установилась необычная тишина, тишина, наполненная недовольством им. Им были недовольны все: и живущие здесь – тем, что они пришли и осложнили им жизнь, и приехавшие вместе с ним – тем, что он не увел их из этого дома, не устроил где-нибудь.
А что он мог поделать? Знал бы, что так сложится, остался бы дома…
Эту тягостную тишину нарушил Бувайсар:
– Не расстраивайся, здесь не так легко найти жилье. Завтра поищем вместе…
На второй день все повторилось: походив до вечера, он вернулся, устав как собака… На третий день, увидев Макшерипа, который работал вместе с ним в газете, он несколько успокоился: он из этого города, сможет помочь… Схватив за рукав, Ашми остановил его, когда тот проходил мимо.
– Не узнал… Богатым будешь, – сказал Макшерип.
– Да, я так изменился, что меня уже невозможно узнать… Много времени прошло с тех пор, как мы расстались – целых полгода…
Дела Макшерипа, по его словам, обстояли еще хуже, чем у него. Найти здесь жилье невозможно, может быть, лучше уехать во Владикавказ или Нальчик…
В этот день Бувайсар тоже ничего не нашел. На четвертый день, когда вышел во двор, он услышал разговор Бувайсара с женой.
– О чем ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я сказал этим людям, чтобы они уходили?
– Если ты этого не скажешь, мы все здесь задохнемся… Люди ведь живут в палатках, в вагонах, пусть идут туда.
– Потерпи! Потерпи же! – прикрикнул Бувайсар.
Голоса доносились из-за дома, он медленно, пытаясь остаться незамеченным, отошел в сторону и, задыхаясь, пошел бродить по улицам этого маленького городка. Когда редкие прохожие начинали внимательно рассматривать его, он вытирал руками лицо… Оно было мокрым от слез, которые текли вопреки его воли. Слезы падали, как теперь этот снег…
Он еще долго бродил в этот вечер… Нашел нечто похожее на жилье. Сказали, что поставят буржуйку, можно заселиться на следующий день…
Уже после того, как стемнело, он вернулся к домику, который снимал Бувайсар. Тот стоял во дворе, ожидая его. «Твоей жене стало плохо, ее отвезли в больницу», – сказал он…
… Мысли Ашми прервал женский голос.
Недалеко от него на остановке, посреди снега, стояла та самая женщина, которая плакала в автобусе. В сгущающейся темноте никого не было видно, кроме них.
– Ты не звала меня?
– Уже несколько раз.
– Да, увлеченный мыслями, я ничего не расслышал. Что такое?
– Ты не знаешь, как найти здесь улицу Горького?
– Конечно, знаю. Я пешком обошел здесь все улицы. Все они безрадостны и горьки. Какой дом тебе нужен?.. Да, нужно идти в ту сторону. Я провожу тебя. Я никуда не спешу. Как тебя зовут? Падам? Хорошо, Падам. Меня зовут Ашми. Дай мне свою сумку… Я провожу тебя, ступай за мной… Нам нужно идти достаточно далеко.
«А я буду вспоминать дальше… Мысли давят, если не довести их до конца… Поэтому я продолжу… Мысли, наполненные грустными воспоминаниями. Да, Падам, ты, твои глаза вернули меня в прошлое, к воспоминаниям. Теперь слушай, если хочешь; не хочешь – не нужно. Я опять возвращаюсь к тем дням, к дождливым, холодным осенним дням…
Я тотчас же направился в больницу. Врач сказал: «Ребенок умер в утробе, прошло несколько дней, ее кровь заражена… Необходима срочная операция… Нужно много крови… чтобы перелить… кровь… много крови…» Я сдавал кровь, пока не свалился без сознания. Сдали Бувайсар, многие беженцы из Чечни… Много крови сдали чеченцы. Кровь, кровь… Но она не спасла Элиму…
Перед смертью она позвала меня: «Я не вижу тебя, но чувствую, – сказала она. – Ты не слишком отчаивайся из-за моей смерти… Но не забывай меня… Не оставайся в одиночестве, женись».
Да, Падам, через несколько дней она умерла… Ее похоронили здесь же, на кладбище, так как никто не решился везти ее тело домой… Какой-то таксист сказал: «Дома и без нее много мертвых, даже не успевают хоронить». Я не обиделся на него… Какая разница, где похоронят человека… Земля, сотворенная Богом, едина…
Ты меня слушаешь, Падам? Говоришь, что плохо слышишь? Ничего, я это говорю сам себе…
…После этого у меня, разуверившегося во всем, обозлившегося на всех, появилось желание умереть, сразившись со всем миром. Потом хотелось кричать во весь голос, повергая в ужас мир, проклиная всех: и тех, кто решил затеять эту войну, создал оружие, приказал применить его; и тех, кто пустил его в ход; и тех, кто кормил, восхвалял воюющих; и тех, кто придумал создавать государство, выступал на площадях; и всех властителей мира – всех, всех подряд! Потом захотелось подняться в снежную ночь на высокий холм и завыть по-волчьи, выть днем и ночью, не останавливаясь, изливая свое горе земле и небу… Затем, охрипнув от воя, упасть и лежать там, замерзая, заносимый снегом.
Но я не стал делать ни того, ни второго, ни третьего. Я просто продолжал ходить по земле, слыша последние слова Элимы: «Не слишком отчаивайся…» Чем больше времени проходило, тем яснее мне становилась суть этих слов: мне стало понятно, что я действительно впал в отчаяние. Мне казалось, что вся эта война затеяна для того, чтобы убить мою жену и еще не родившегося нашего ребенка, что все беды выпали только на мою голову.
Но, когда спала с глаз пелена, я понял, что Чечня переполнена пострадавшими, чьи беды еще тяжелее.
Нет, Падам, неправда, что чужие беды заставляют забыть о своих. Чем больше я вижу их, тем тяжелее становится на сердце. Ты же видишь, как умирают люди, разорванные бомбами, раздавленные танками, подорвавшиеся на минах, как заживо гниют в тюрьмах, как у людей, обезумевших от горя, разрываются сердца, происходят кровоизлияния в мозг, как они, рассеянные по всему свету, стоят в очередях за гуманитарной помощью, мерзнут в развалинах Грозного и палаточных лагерях, как главы разных государств говорят о них, исходя из своих интересов – одни, чтобы били еще сильнее, другие – чуть щадя, как третьи выражают соболезнования, четвертые хоронят, пятые кричат: «Кошмар, на помощь!», но изо дня в день уничтожение народа продолжается.
В том, что все обстоит именно так, я окончательно убедился, когда однажды, возвращаясь с вечерней молитвы из местной мечети, оказался посреди стоявших по обе стороны дороги призраков, кутавшихся в промокшие от холодного дождя лохмотья. Их темные силуэты несколько выделял свет, который падал из окон мечети. «Подайте, ради бога… Подайте…». У меня не было возможности подать всем… Нет, я не виню этих женщин – они вышли, чтобы спасти от голода своих детей. Виноваты были чеченские мужчины, у которых не хватило ума и сил, чтобы защитить женщин, не доводить до этого. А женщины, оставив на время обычаи и запреты вайнахов, вышли спасать своих детей.
Чеченские женщины и сегодня белыми птицами кружат над нашим краем, стараясь сохранить в наших очагах огонь жизни…
… Падам, ты говоришь, что не слышишь меня. Ничего, я рассказываю самому себе. Скоро мы дойдем. Да, буран усилился. Этот дом находится вон там, на повороте. Видимо, я иду быстро, ты довольно далеко отстала. Раз так отстала, понятно, почему не слышишь меня. Я буду идти медленнее, догоняй».
– Если бы ты отдала ребенка, чтобы руки отдохнули…
– Спасибо, я не устала…
– Мы дошли. Вот дом, который ты ищешь…
– Спасибо, да вознаградит тебя Бог… Ты потрудился…
– Сначала войди, посмотри, находятся ли здесь те, кого ты ищешь, – Ашми не ушел и стал дожидаться на улице.
Вскоре Падам вышла на улицу.
– Говорят, тетя переехала… – растерянно проговорила Падам. – Еще две недели назад… Теперь не знаю, что и делать.
«Алхамдуллилах, хвала тебе, Аллах, что дал мне возможность в эту зимнюю ночь помочь им…» – мысленно поблагодарил Ашми Бога.
– Сестра моя, не расстраивайся… Сегодня рядом с тобой находится твой надежный брат, – решительно сказал Ашми.
– Не знаю, как и быть… Отвлекаю от дел тебя, незнакомого человека… Если бы только где-нибудь переночевать… – Падам склонила голову над ребенком.
– У тебя есть место, где переночевать, оплаченное на три месяца вперед… Нет, не говори ни слова… Отдай мне ребенка… Это девочка или мальчик? Мальчик?! Да продлит Аллах его жизнь… Как его зовут?..
– Магомед, – чуть слышно проговорила женщина.
Ашми, шедший впереди, заметил, что она снова плачет…
– Падам, я прошу тебя, не расстраивайся из-за этой неудачи… И без этого и у тебя, и у меня так много горестей… – сказал он, не оборачиваясь назад.
Через некоторое время они подошли к пятиэтажным домам. Ашми вошел в подъезд одного из них. Падам несколько замешкалась. Потом вошла. Среди домов кружила метель. Ветер с грохотом захлопнул двери. Когда поднялись на второй этаж, Ашми, передав ребенка Падам, открыл одну из четырех дверей. Он вошел, зажег свет и пригласил Падам. Она вошла, держа ребенка на руках, и в нерешительности остановилась у входа.
– Входи, входи, – сказал Ашми, прикрывая за ней двери.
– Не знаю, как быть… что я делаю… такая ситуация… – тихо проговорила она.
– Ситуация была бы тяжелой, если бы мы не встретилась со мной, и тебе пришлось ходить по улицам, стучаться в чужие двери, проситься на ночлег… Тогда действительно дело обстояло бы плохо, из рук вон плохо… Я видел и таких, – сказал Ашми, принимая из ее рук ребенка.
Падам сняла пальто, стряхнула снег и повесила его. Осторожно уложив ребенка на кровать, Ашми ушел на кухню. Он зажег газ, поставил на плиту чайник. Сам задержался на кухне, чтобы не стеснять Падам, пока та кормит и присматривает за ребенком. Когда он переставлял чайник, в котором закипела вода, на кухню зашла Падам с бутылкой детского питания в руках.
– Без этого он не наедается, – Падам поставила бутылку в кипяток.
Ашми про себя заметил, что она сказала ему об этом как-то просто, без стеснения. Выходит, она приняла во внимание его просьбу.
Вынув из кастрюли с кипятком бутылку с молоком, Падам встряхнула ее, потом отвернулась и сделала глоток, пробуя молоко на температуру.
Когда Ашми зашел из кухни в зал, ребенок, наевшись, опять заснул.
– Пойдем, выпьем чаю, – пригласил он гостью на кухню.
Женщина молча перешла на кухню и села за стол. Ашми налил две чашки чая.
За чаем они узнали, кто откуда.
– Где отец мальчика?
– Погиб, – сказала Падам. – Сказал, что не станет убегать от войны, раз другие воюют. Ушел и погиб. Прошло уже десять месяцев.
– Он знал о том, что у него есть сын?
– Нет, он родился через месяц после его гибели.
– Да продлит Аллах его годы! Пусть Аллах простит грехи его отцу.
– Благодарю, – Падам встала и начала убирать посуду со стола.
– Падам, отдыхайте спокойно… Вы проделали долгий путь, наверное, устали… Я ухожу к своему товарищу, переночую у него… Завтра покажусь…
– Мы лишили тебя жилья, – извинилась Падам, заметно покраснев.
Ашми понимает ее мысли: ей хочется сказать, почему ты уходишь из своего дома, ведь здесь две комнаты… Ей хочется так сказать, но она не говорит: неизвестно, как он, мужчина, это воспримет. Точно так же и ему не хочется ночевать здесь: неизвестно, что она подумает. Чеченские обычаи, чеченские мысли. Поэтому он уходит, чтобы она спокойно провела ночь, без ненужных размышлений.
– Ничего! Спокойной ночи, – Ашми вышел на улицу. Он опять вспомнил ту прежнюю песню:
Дует ветер, холодный, холодный…
Затем – вторую строку:
Той, что любил я, рядом нет…
Весь куплет:
Грустно, грустно глядя в небо,
Больше я не буду ждать…
Он шел, напевая эту мелодию, пока не дошел до улицы, где жил Бувайсар…
Прошли год и два месяца с тех пор, как он не приходил на эту улицу. Он раз-два видел Бувайсара, тот приглашал его. Он ничего не говорил в ответ. Ему казалось, что причиной смерти ребенка стала нехватка воздуха для Элимы, когда они ночевали здесь… Возможно, все было и не так…
Но все равно он возненавидел весь мир, еще больше – этот край, этот город, улицу в этом городе. Поэтому он обходил эту улицу. Появись возможность – он уехал бы и из этого города, и из этого края. Однажды он уже засобирался, взяв взаймы деньги. Но не уехал, откладывая изо дня на день, задержался до наступления зимы. Наконец-то он разобрался в своих сомнениях: с одной стороны, хотелось уехать отсюда куда-нибудь далеко-далеко, забыть обо всем; с другой стороны, здесь была похоронена Элима…
Он устроился на работу в одной арабской гуманитарной организации и остался… По возможности, он не приходил на эту улицу, обходил ее, даже бывая здесь по делам.
Этой ночью у него нет желания избегать этой улицы, ноги сами ведут его сюда. Нет, это не означало, что он забыл Элиму, ее здешние мучения; просто он теперь не связывал их с этой улицей и с этим домом.
Дует ветер, холодный, холодный…
Той, что любил я, рядом нет.
Грустно, грустно глядя в небо…
«Что можно увидеть в небе, когда дует холодный ветер и вокруг метель?» – задавая себе вновь и вновь этот вопрос, он остановился. Что же произошло?
Он не ощущал той тяжести на сердце, которая давила в последнее время, походка была легкой. Ему не захотелось искать причины этих перемен, они были ему по душе, поэтому были нужны. «Раз продолжаешь жить, необходимо перемениться, освободиться от мрачных мыслей; раз без них нельзя, нужно, чтобы они были такими же белыми, как этот снег. Белый снег… Элиме тоже нравилось ходить по улице в снежную ночь. Так же нравилась ей и весна в белом цветении… И к белым рубашкам меня приучила Элима…» Этой ночью мысли об Элиме были какими-то легкими, если в них и была боль, ее стало меньше… С ними был свет…
Он дошел. Тихо постучался. Бувайсар вышел.
– Здравствуй, Ашми! Что с тобой? Ничего не произошло? – увидев его, засуетился тот.
– Да нет. А без этого к тебе нельзя, просто так?
– Конечно, можно! Заходи.
Ночь прошла в сновиденьях, Ашми снились то снег, идущий ночью, то сливовые деревья в белом цвету.
На второй день он ушел рано, но некоторое время бродил по улице, чтобы не тревожить с утра женщину с ребенком. Зашел в магазин, купил погремушку, которую привязывают к колыбели, фрукты, сладости и к обеду пошел к своим гостям. Метель прекратилась, ярко светило солнце, ясный выдался день, под ногами поскрипывал снег… Мороз обжигал лицо. «Холодный, холодный дует ветер… Мох или мохь2… Ветра же сегодня нет… хотя и холодно… Так это крик… Да, все эти десять лет… Я кричал о том, чтобы не бросались в пропасть… Так это был тот крик?.. Наверное, он. Но был и другой… Пронзительный крик его сердца… С тех пор, как в ненастную осень Элима покинула его… Сегодня он не слышит этот крик. Но все равно: «Холодный, холодный дует ветер… Той, что любил я, рядом нет…». Ему не хочется, чтобы эта мелодия вертелась в голове. Но она все же вертится…
Когда дошел домой, отомкнул двери и вошел, он заметил перемены в комнате, где жил эти последние полгода. Перемена была в том, что здесь находилась женщина, а там, где она присутствует, бывают особенными и порядок, и воздух, и ощущение жизни.
– Доброе утро, – произнес он.
– Здравствуй, – в ее голосе не ощущалось никаких чувств, кроме безнадежности, безразличия, душевной пустоты. Это несколько расстраивало, но было великое благо, что она находится здесь, а с ней – маленький ангелочек. Они изменили это жилье, оно стало светлым, благодаря солнцу и им.
Мальчик спал, Падам пригласила Ашми на кухню. Она приподняла перевернутую на столе глубокую тарелку, под которой стопкой лежали чепалгаш, потом налила чай. У Ашми, который вспомнил свою прошлую жизнь с Элимой, застрял ком в горле.
– Я хотела уехать с ребенком во Францию… У меня там сестра, в Ницце… Там всегда тепло, есть жилье, питание…
Падам, стоя у окна, постепенно разговорилась. Солнце сквозь платье высветило красоту ее тела. Ашми на мгновенье задержал на ней взгляд. Этого оказалось достаточно, чтобы оценить увиденное. Словно обжегшись, он опустил глаза. Но не успел он съесть и двух долек чепалга, как появилось желание снова взглянуть в сторону окна. Не решился, съел еще один чепалг. Желание оказалось сильнее запрета. Когда он взглянул в ту сторону, ее уже не было у окна, а там, где она стояла, был солнечный свет, щедро разливающийся по полу. Падам ушла в тень, куда не доходили лучи солнца. «Наша гостья жадная», – подумал Ашми. Но он знал, что не прав, это была не жадность, а что-то другое. То, что это именно так, осложняло путь, ведущий к надежде, возникшей в глубине его души, но все равно радовало его.
– Рассказывай, Падам, я тебя слушаю, – Ашми сделал глоток чая.
– Потом… тетя сказала, что будет ждать нас… Обещала помочь получить загранпаспорт… Правда, я не смогла приехать сюда в назначенный срок…
– Почему ты пытаешься уехать туда, Падам? Как бы хорошо ни было, человек, приехавший туда жить, остается в роли попрошайки…
– Я не знаю… Я не из-за себя… Ради ребенка… – она опустила глаза к полу.
– И это верно… Чем я могу помочь тебе?..
– Не знаю… Если бы можно было провести здесь несколько дней, пока не уладятся дела…
– О чем ты говоришь, Падам? Оставайся хоть на несколько дней, хоть на неделю, на месяц…
– Не знаю… как-то неудобно…
– Падам, я понимаю… Это трудное время… Люди перестали доверять друг другу, очерствели… Но я хочу, чтобы ты поверила мне, в мою искренность… Я благодарю Аллаха, что он привел вас ко мне… Ведь то, что в эти страшные дни я имею возможность оказать вам помощь, – великое благо для меня…
Падам ничего не сказала ему в ответ. Глаза ее наполнились слезами. Чтобы не разрыдаться, она ушла в другую комнату.
Однажды Ашми, задержавшись на работе, пришел к Падам и ее сыну, когда уже стемнело. Он засиделся за разговором. Когда уже поздно ночью собрался уходить, Падам сказала:
– Здесь две комнаты, для нас достаточно одной.
Ашми ничего не сказал ей в ответ, он устроился в оставленной для себя комнате. Но спать не хотелось. Он лежал, долго думал и, наконец, пришел к выводу: Падам и ее сын Магомед были для него одиноко горящей свечой в мире, столь для него мрачном; какой бы слабой ни была эта свеча, она давала свет, хотя, горящая на ветру, она была очень беззащитной, а ветер – холодным и безжалостным («Дует ветер, холодный, холодный…»). Поэтому ему нужно было быть очень осторожным, так как одного его случайного движения или слова, которое можно было бы неправильно истолковать, окажется достаточным, чтобы задуть эту свечу. Он опять начинал думать: нет, невозможно предугадать желание женщины, поэтому будет лучше, если не торопить события, а подождать до поры до времени.
В эту ночь он заснул перед рассветом.
Утром, вопреки своему решению, которое принял ночью, он, когда пил чай на кухне, разговорился, удивляясь сам себе.
– Падам … Я хочу… чтобы ты правильно меня поняла… Год назад у меня была семья… Как и у тебя… Она умерла… Оказалось, что еще раньше нее умер наш неродившийся ребенок… Я рассказывал тебе об этом… Поэтому мне хочется, чтобы у меня было право… да, право… постоянно оберегать вас, помогать вам… – сердце учащенно билось, язык заплетался. Нечто подобное уже происходило с ним очень давно, в молодости, однажды осенью, когда после очередного порыва ветра на землю падали пожелтевшие листья, вечером, наполненным запахом спелой айвы, когда под ней, слушая Ашми, остановилась девушка, возвращающаяся с родника… Выходит, что прошлое, его юность не исчезли бесследно, прежние ощущения могут вернуться… Он замолчал, не зная, о чем говорить дальше.
– Я согласна, – с какой-то легкостью ответила Падам. – Пусть наши отношения закрепят по мусульманскому обычаю. В Той-юрте живет мой дядя…
Сознание Ашми в этот миг просветлело, оно уподобилось заснеженному склону горы. Он знал, что это только на некоторое время, но это было настоящим чудом. Он вышел, на улице шел снег. В этот год снега было много. Он вспоминал слова, сказанные Падам, они были произнесены с какой-то легкостью, без душевного волнения. Потрясения, беды заставили ее забыть про волнение: свое решение она приняла заранее, не слушая сердце, одним разумом, а с ним не бывает волнений… Какая разница, как это случилось… Если идет снег, дует ветер…
Дует ветер, холодный, холодный…
Той, что любил я, рядом нет…
Нет, она рядом, слава Аллаху. Она подобна свету, который виднеется там, вдалеке, в темноте, согревая сердце, озаряя путь…
В Грозный они доехали, когда уже стемнело. Снег местами стаял, был сырой холод, иногда набегал ветер, пронизывающий насквозь. Ашми несколько удивился, что в этом разбитом, мрачном городе так много людей. Они ходили быстро, молча, боясь опоздать, чтобы до наступления темноты где-то спрятаться, затаиться, замереть. Несколько маленьких автобусов отъехало, они не смогли сесть в них. Люди, ни на кого не обращая внимания, невзирая на возраст, протискивались в машину, двери закрывались.
Бородатый, в годах мужчина обратился к ним:
– Если так будете стоять, сегодня не доберетесь домой. Бросьте условности, протискивайтесь, поднимайтесь и устраивайтесь… Люди убегают от ночи… Ночами происходят страшные вещи…
– Что же происходит ночами?
– То же самое, что и днем… Людей убивают, похищают, грабят… И днем, и ночью… Но люди все равно боятся ночей.
Ашми отошел от автобусной остановки и стал голосовать проезжающим рядами машинам. Но никто не останавливался.
– Брат мой, похоже, что ты давно не был в этом городе, – сказал бородатый.
– Как ты об этом узнал? – спросил Ашми.
– Люди уже другие. Если не знают человека, машину не останавливают… Доверия нет, остался только страх…
– А ты не боишься?
– Чего?
– Ночи.
– Для меня дни и ночи одинаковы. Люди, подождите, подождите! А вы идите сюда! Я не сажусь… Это семья… маленький ребенок… – он затолкал их в автобус.
Автобус остановился достаточно далеко от улицы, на которую им было нужно. Они шли в наступающей темноте, под ногами хлюпала грязь, дул холодный ветер. На руках Ашми был ребенок, а у Падам – сумки. Там, где раньше были улицы, – ямы, лужи, руины… Кое-где из-под развалин виднелся свет – газ, горящий в трубе.
Через полчаса дошли до дома, на их улице было темно, как в могиле, нигде не горел свет. В конце улицы показалась свора собак. Бродяги ушли, облаяв их, иногда поворачиваясь и угрожающе рыча. Ворота его дома были закрыты. Передав ребенка Падам, он попытался перелезть через забор, но соскользнул вниз, так как не на что было упереться. В поисках удобного места он отошел на пару шагов. Там от забора не осталось и следа. По всему двору была проложена тропинка, на которой различались следы людей и собак. Он прошел по этой тропинке и открыл ворота, запертые изнутри. Затем – двери дома.
– Теперь мы уже дома… Я сейчас зажгу свечку… Вы пока присядьте здесь, на диване. Наверное, его не унесли потому, что слишком стар…
Усадив Падам с ребенком, он достал из сумки свечу. Спичка несколько раз тухла, не разгораясь, наконец-то свечка стала гореть, освещая комнату.
– Завтра подведем газ… Сейчас я разведу огонь в печи, – с виноватым видом засуетился Ашми.
Падам, ничего не говоря в ответ, достала из своей сумки бутылку воды, намочила кусок марли и стала вытирать пыль со стола. Магомед спал.
Ашми вышел во двор. К счастью, дрова были. Когда приезжал летом, он топором разрубил абрикосовое дерево, сваленное снарядом, и сложил дрова под навесом. Они оказались кстати. Сначала он взял тонкие ветки, затем – потолще. Когда он с дровами направился ко входу, сотрясая землю, прогремели взрывы. Приседая на месте, он обратил внимание на то, что пламя свечи, горящей у окна, заметалось, но не погасло. Взрывная волна сотрясла дом, выпало лопнувшее стекло. Задувший в окно ветер опять чуть не погасил свечу… Он поднял упавший в снег уцелевший осколок стекла и поставил его на место, закрепив маленьким гвоздиком…
Большими снежинками начал идти снег, часто слышались выстрелы, в сознании рождались мысли, которые превращались в молитву, обращенную к Богу…
Сердцу было тяжело, но одновременно и как-то легко… И было желание среди этих развалин, взрывов, ожесточившихся людей создать какой-то островок спокойствия – вокруг себя, вокруг этой семьи – островок, на который падает снег… Чтобы свечу, которую он зажег этой ночью, не задуло ветром, чтобы рассветало и вечерело, чтобы наступила весна, чтобы вспахивалась земля, засевалась кукуруза, чтобы шли дожди, а потом светило солнце…
2004.
[1] Масло родины – калька чеченского слова «мехкадаьтта».
2 Мох и мохь – на чеч. яз. игра слов: мох – ветер, мохь – крик.
Перевод Э. Минкаилова.
Русло твоего родника
– Гумку, говорят, дают…
Увидев женщину, выбежавшую с этим криком из соседнего двора, одетую в старый темно-синий халат, поверх которого была надета шерстяная безрукавка, а на голове пуховый платок, Камал понял, что и ему теперь надо идти за этой гумкой.
Гумка – это продукты питания и вещи, которые выдают чеченским беженцам международные благотворительные организации со всех концов света. Образовано оно от сочетания «гуманитарная помощь».
В пунктах выдачи в большинстве своем бывают женщины, иногда встречаются и мужчины вроде Камала. Среди беженцев войны много одиноких женщин – у одних мужей забрала война, у других они уехали по России и дальше в поисках заработка, оставив здесь семьи.
Жена Камала не могла ходить за помощью, она оставалась дома с четырьмя детьми. Дети были маленькие, самой старшей девочке – всего двенадцать лет. Некоторые и в ее возрасте бывают рослыми, помогают матери. Айне с виду не более десяти лет, в школе она ниже всех своих ровесниц. Врачи говорят, что это из-за нехватки витаминов. До витаминов ли, когда вопрос стоит о хлебе насущном у них, гонимых войнами, несчастьями.
Когда начали подрастать свои дети, стали понятными тревоги отца – раньше это и в голову не приходило. У отца Камала было одиннадцать детей. Из них старшие шестеро, кроме одного, умерли рано, не успев появиться на свет. И тот скончался в десять лет от внезапной головной боли. «Не от голода умерли они, – частенько говаривал отец. – Такова была Божья воля». Мать ничего не говорила. Она, вспоминая их, плакала… Потом рассказывала о своих злоключениях в том холодном, чужом краю: из-под снега собирали колоски на сжатых полях, продали все ее золотые изделия и одежду, работали на шахте, выданный там паек откладывали детям, помогали сердобольные соседи: казахи, киргизы, немцы, русские…
Теперь Всевышний смилостивился над ними – весь мир пришел на помощь, чтобы они не умерли от голода и холода. Если бы это было не так, что бы они делали? Как трудно бы им пришлось, если бы здесь не на что было существовать. Ему сейчас легче, чем отцу. Нет угрозы голодной смерти. Весь мир шлет благотворительную помощь, не надо лишь лениться получать ее.
Год назад работающий в пункте выдачи помощи Ахид, узнав его, подошел. «Камал, что ты здесь делаешь? Такие ученые, как ты, не должны стоять в очереди, заходи», – с этими словами он пригласил его в помещение. Вслед прозвучали слова женщины: «Выдай ему и долю тещи». Он долго думал над этими словами, не понимая, при чем же здесь умершая три года назад теща. Что этим хотели сказать? Наконец понял: она выражала недовольство тем, что ее обошли в очереди, вот и подкалывала, мол, он бегает за жену и за ее мать. Видимо, по мнению этой женщины, получение гуманитарной помощи – женское дело. Тогда чье же дело присмотр за детьми?..
С тех пор, невзирая на настойчивые приглашения Ахида, он стоял в очереди, не обходя никого. По правде говоря, Ахид тоже потихоньку переставал замечать Камала, вежливость его иссякала, сам он толстел, наконец, у него, бывшего, как щепка, выросла солидная «мозоль», он начал покрикивать на женщин («Не кричи здесь на нас, ори на свою жену», – не оставались в долгу те), и из него вышел бойкий работник.
– Растолстел, ненасытный, воруя гумку, – судачили женщины в очереди.
Камал же стоял с отсутствующим видом, думая о чем-то своем. Сегодня, когда он подошел, Ахид поднял большой гвалт:
– Ва-а, женщина! Я не выдам тебе гуманитарку по ксерокопии паспорта дочери… Пришли ее саму или принеси ее паспорт! – кричал Ахид.
– Откуда я возьму ее паспорт, если она уехала в Грозный на похороны свекрови?! – громче него орала шестидесятилетняя полная женщина.
– Пришли ее сюда, когда приедет домой…
– А кто знает время ее приезда?
– В таком случае мне нечем тебе помочь!
– Пусть накажет вас, обирающих нас, несчастных, Всевышний! Пусть накажет вас Всевышний! – неожиданно громко запричитала полная женщина.
Ахид, несколько растерявшись, осмотрелся. Заметив Камала, подошел и поздоровался:
– Эти люди не дают мне работать… Посмотри, как ругается эта женщина! – сказал он, отойдя с ним в сторону.
– Ахид, отдай ей то, что она просит, – сказал он.
– Как я выдам, если не имею права? Донесут… Меня же тогда лишат работы… – растерянно проговорил Ахид.
– Если ты под роспись выдашь людям их долю, тебя не лишат работы… Выдай… – пытался он помочь Ахиду выйти из этой ситуации.
– Ладно, сделаю по-твоему… Ради тебя…
Шум утих, полная женщина тоже ушла.
Вскинув полмешка муки на спину, неся в руке сумку с сахаром и кукурузным маслом, Камал двинулся домой. Глядя прямо перед собой, о чем-то думал…
Вновь вспомнил он отца. Однажды, пробродив по селу целый день и вернувшись домой, он услышал сказанное недовольным отцом: «Сейчас ты не поймешь мои слова, ты поймешь их позже, когда подрастут твои дети…»
Тогда был непонятен смысл этих слов, но они остались в сознании… Таким далеким виделось время, о котором говорил отец. А каким близким оно оказалось…
Отец им, детям, рассказывал о жизни в раю, учил читать Коран, молиться, заучивать аяты, но никого из них не научил жить, добывать средства к существованию. Поэтому после его смерти они, его дети, даже будучи двадцати лет, не понимали законы жизни довольно долгое время… Правда, Кати понял после женитьбы, вернее, его образумила жена. Теперь вместе со свояками крутится в Москве. Камал со старшей сестрой и сейчас не поняли людей, даже если и поняли, то не умеют жить, как люди. Она за Тереком, в кошаре, затерянной среди песков, перебивается, разводя скотину и кур.
После окончания института в городе он сам сначала уехал в село учить родному языку детей.
Потом, работая в школе, через год, два, видя в горах башни, строения, наблюдая за людьми, их трудом: пахотой, посадкой кукурузы, ее уборкой, приготовлением из нее еды, работой водяной мельницы, косьбой, сбором сена, укладкой его на зиму – решил написать научную работу об особенностях сельской жизни и вернулся в город. Ему говорили: «Тебе трудно будет защитить эту тему. Чеченская тема власти не по вкусу, лучше возьми что-нибудь другое, например: «Зарождение и рост в Чеченской Республике партийных и комсомольских организаций». Он их внимательно слушал, но со своего пути не сворачивал.
Правда, теперь эта тема ему уже кажется объемной и большой. Сейчас он ее назвал бы по-другому: «Место отца в чеченской традиционной семье».
Чем больше проходило времени, тем больше удивляли его взаимоотношения отца со своей семьей. Он видел, сколько разницы между отцом и им самим, теперь уже главой семьи.
Он задумался, перед ним живо предстала яркая картина далекого детства.
* * *
Пятилетний мальчуган ходит по саду за белым домом, наклоняясь к опавшим фруктам. Он подбирает понравившийся, осматривает, бросает, берет другой, пробует на вкус, потом идет под другую крону. И там находит яблоко, или грушу, или большую сливу, иногда встречается и айва, желтея среди листьев…
Кроме мальчика, по саду бродят и куры, некоторые из них клюют надкушенный им плод, проклевывая до сердцевины, потом съедают семена. Впереди кур идет петух, хорохорясь, кружа вокруг некоторых, затем клюя и возгласом «ко-ко-ко» подзывая их к себе. Ходит, считая весь этот сад своим. Мальчугану это не нравится, он кидает в петуха надкушенный плод или камешек. Это уже не нравится петуху, он, несколько отойдя, останавливается, повышая свое «ко-ко-ко». Когда же мальчик не отстает от него, взлетает на ограду из четырех жердей, оттопыривая крылья, и кричит, вытянувшись, издавая тонкие долгие звуки: «Ку-ка-ре-ку-у-у!»
Мальчуган больше не обращает на него внимания, он вновь подбирает плоды, выбирая вкусный. Но неожиданно донесшиеся звуки удивляют его. Он до сих пор не слышал такие: они не звонкие и сильные, как у петуха, а странные, как бы приглушенные. Мальчик глазами ищет то место, откуда исходят эти незнакомые звуки. Это их пеструшка пытается кричать петухом, вытягивая шею и хлопая крыльями.
За домом появляется дада.[1]
– Что это было, Камал? – спрашивает он.
На нем темно-коричневая одежда, на голове каракулевая шапка-ушанка. Камал всегда видит отца в этой одежде: осенью и весной… Зимой он поверх одежды надевает шубу. Летом тоже бывают изменения: вместо шапки – феска, поверх ичигов в эту пору надеваются чувяки вместо галош.
Мальчугану думается, что отец и соседи, которых он видит, созданы Всевышним вместе с их одеждой и спущены с небес в таком виде. И он создан так же. Ему и в голову не приходит, что отец и другие жители села носят одну и ту же одежду из-за бедности. Он понял это и то, что людей не спускают с небес, гораздо позже
– Которая из них кричала петухом? – спрашивает вновь отец.
– Вот эта, – указывает мальчик пальчиком на пеструшку. Словно дожидавшаяся этого, пеструшка вновь, вытянув шею, пытается петь.
– А-а, – говорит отец, – надо ее отправить в кастрюлю. Потом зовет занятых чем-то во дворе Яхийту и Кати:
– Идите сюда оба, поймайте эту курицу.
Не успели эти слова слететь с уст отца, как Кати, сорвавшись с места, загнал пеструшку, не давая ей проходу.
– Так, так, Кати! Яхийта, ты стань там – напротив! Камал, а ты не пропускай ее мимо себя! Палочкой! Палочкой! Загоните в сарай! Так вам легче будет ее поймать. Так! Так! – руководит отец.
Но курица не хочет заходить в сарай, она, когда ее совершенно загнали, забегает под сапетку. Упав ничком, Кати, схватив за лапы, вытаскивает курицу.
– Неси ее сюда, – говорит отец, надраивая об язычок пояса довольно большой нож, вытянутый из висевших на боку ножен.
Вонзив нож в землю, кладет курицу, придерживая ногами крылья и лапки. Бьющуюся головку курицы он за хохолок придерживает левой рукой, беря нож в правую руку.
– Отвернись, Камал, – говорит ему отец.
Этот же стоит, не понимая, что ему говорят. Тогда Яхийта закрывает ему глаза рукой. Когда отнимает руку – окровавленный нож вновь воткнут в землю, шейка у курицы перерезана наполовину, на ней висит головка…
Когда курица наконец перестает биться, отец берет ее за лапки и говорит:
– Надо ее перекинуть через дом.
Остерегаясь капель крови, отец, размахнувшись, кидает ее через крышу. Но та, не перелетев, падает на шифер и, оставляя на нем кровавый след, соскальзывает во двор. Отец размахивается сильнее: теперь она скрывается за крышей. Затем соскальзывает по другую сторону дома. Кати, не дожидаясь указаний, бежит за дом, чтобы принести курицу.
– Что это вы делаете на крыше? – спускается из сеней мать.
Камал подбегает к матери, берется за ее подол и остается с ней. То, что он увидел сегодня, – удивительно. Хочется рассказать об этом ей. Но мать почему-то в последнее время не особенно желает его слушать. Она стала такой большой. И места ему остается мало, когда ложатся спать. Раньше его было больше. Тогда мать и сказки ему рассказывала, а теперь уже не рассказывает…
– Она кричала петухом… Мы перебросили ее через крышу… а теперь, почистив, надо отправить в кастрюлю, – говорит отец.
– Яхийта почистит. Я сегодня, по-моему, буду занята: у нас может быть гость, – говорит мать.
– Яхийта, – зовет отец.
Сестра подходит.
– Ты звал меня, отец?
– Яхийта, ты знаешь Эсилу, живущую на краю села? Пойди, позови ее… Скажи, что просила нана.2
Сестра уходит, выйдя за ворота, он остается на месте, держась за подол наны.
– Иди к даде, – говорит мать. – Нана устала, она хочет отдохнуть.
А он все равно стоит, не отпуская платье наны. Он замечает усталость матери, она не улыбается, как раньше, не ласкает его, не поет песен, не рассказывает сказки…
– Иди к даде, – берет его отец за руку, тот отпускает платье матери.
Нана идет в дом. Он же с отцом идет в надворную постройку, дада говорит:
– Камал, ты теперь большой. А поэтому ты уже не должен спать с наной. Сегодня ты ложись спать здесь, с братом. Кати, присматривай за ним, покорми, когда будешь есть сам, уложи спать с собой. Меня сегодня не будет дома. Ведите себя хорошо. Будешь, Камал?
Мальчик говорит «Да», хотя многим сказанным отцом он недоволен. Ему не нравится, что нельзя спать с мамой, не хочет он спать и с Кати, не хочет, чтобы уходил отец, не желает… Но дада не спрашивает о его желаниях. Он, сказав то, что считает нужным, скрывается во мраке ночи. Потом, опираясь на палку, приходит эта толстая тетя. Вслед за ней возвращается и Яхийта.
– Дети, вы не балуетесь? Ведите себя хорошо, дети, ведите хорошо! Да живите вы долго! Подойдите… – она подает Кати свернутую бумажку.
Развернув, они находят конфеты – маленькие подушечки. Всего пять. Кати отдает ему три, оставив две.
Вслед за толстой тетей приходит и их соседка, сухощавая Зарган.
– Зачем они собираются? – недоволен Камал.
– Нельзя так говорить, Камал, – говорит Кати. – Они могут обидеться.
Кати, видимо, знает что-то, чего не знает он. Дада знает. И Яхийта… Эти две женщины тоже знают, но он не знает. И они ему не рассказывают.
Когда стемнело, они с Кати заходят в свою комнату. На печи под навесом Зарган печет чепалги. Это тоже не нравится Камалу: пусть у себя дома печет их, а не у них. Здесь нана будет печь… Камал идет под навес.
– Вот и курочка подходит… Чепалги… Зарган накормит своих детей, – говорит Зарган, обмывая чепалги в теплой воде.
Рядом за столом стоит Яхийта, она обмазывает маслом каждый чепалг. Закончив, Зарган ножом нарезает их, дает дольку Камалу. Потом берет большую часть, кладет в миску, передает Яхийте:
– Пойди, раздай их за здоровье своей матери.
Мальчику не нравятся эти слова. Иногда нана и его посылала раздавать милостыню на помин усопших.
– Мама! – бежит он с криком в дом.
Побежавший следом Кати не успевает схватить его. Камал, пересекая сени, с ходу забегает в комнату матери. Нана лежит на паднаре3 на нескольких высоко приподнятых подушках, накрывшись белой простыней.
Увидев ее, мальчуган начинает громко плакать.
– Камал, иди к нане, – мать гладит мальчика по голове. – Не плачь. Нана завтра поправится. Сегодня побудь с Кати и Яхийтой. Иди. Да хранит тебя Всевышний!
Когда тучная тетя выставляет его, он начинает плакать. Кати за руку уводит его к себе. Там, на круглом столе, блюдо со стопкой чепалгаш. Камал сопротивляется, не ест их, плачет. Яхийта и Кати очень стараются развлечь его, накормить.
– Не хочу! – противится Камал.
– Ты не хочешь, но твой ротик хочет чепалгаш… – говорит Яхийта.
– Не хочет, – закрывает рот Камал. Плач прекращается.
– Твой животик хочет… Он совсем похудел… – Кати, приподняв его рубашку, трогает рукой животик. Камал улыбается. Но все же торопится сказать:
– Не хочет!
– Твой животик хочет… Послушаю, что он говорит… – прикладывает Кати ухо к животику.
– Хи-хи-хи…– смеется от щекотки Камал.
– Хи-хи-хи… – смеется Яхийта.
– Ха-ха-ха… – смеется и Кати.
Наевшись, Камал быстро засыпает.
* * *
Сорокапятилетний Камал, лежавший на паднаре, прикрыв глаза, встает и прохаживается по комнате. Начало весны было холодным, хотя весь снег и растаял. И дома холодно. В это село, особенно на эту улицу, где он снимал квартиру, газ поступал плохо. Да и тот частенько отключали. Поэтому в одной из благотворительных организаций он попросил печь для растопки дровами.
Печь погасла. Дома, в их селе, топили дровами дуба, чинары, осины, их жар держался долго, не гас. А огонь из кусков теса, обломков ящиков гас быстро, ровно бумажный, в золе невозможно было найти ни уголька.
Ему вспомнился один рассказ отца. Во время высылки, не имея растопки, побоявшись, что дети замерзнут, он вышел, прошел через село на окраину, не найдя нигде ни щепочки, ни кустика. Неожиданно в поземке он заметил деревянные кресты… «Попал на кладбище… Не сочти за грех, Всевышний…» – вцепился он в один из крестов. Но дерево не подалось с места. Потом, многократно подергав, со всей силой потянув, он вытащил древесину, обломившуюся в месте гниения. Принеся в дом добытые таким образом дрова, он обогрел комнату.
Теперь его дела обстоят не так уж и плохо. Однако трудности настигают и его, как когда-то отца. И тот в выселении пытался спасти семью от голода и холода. И сидел, как сейчас его сын, на корточках, растопив печь, глядя на огонь…
Жизнь, особенно жизнь чеченцев, не идет прямо, она движется по спирали, совершая круги несчастья…
У многих народностей мира, и у соседей чеченцев в том числе, начатое отцом продолжает сын, внук продлевает далее, столетиями создаются основы жизни: здания, имущество, драгоценности, книги… А у чеченцев все это уничтожается частыми свирепыми вьюгами, как теперь. Что же остается в наследие? Советы отца, если есть разум принять их…
В детстве же и в мысли не приходило, что такое возможно. Тогда жизнь казалась большой тайной, подлежащей расшифровке и полной сюрпризов. Тогда, в то утро…
* * *
Камал, проснувшись, видит ясный солнечный день. По саду гуляет петух в сопровождении кур. Не найдя рядом мать, мальчик удивляется. Он оглядывается, шарит вокруг руками – нет наны. Тогда он замечает: и эта комната не та, где он всегда спал.
– Нана! – с криком выбегает он. Пересекая двор в солнечном свете (вместе с ним бежит и его тень), он мчится в дом. Стоящие в сенях две женщины – Эсила и Зарган – от души смеются:
– Ха-ха-ха…
– Ва-ха-ха…
– Да достанься ты маме! Как он бежит, словно боится опоздать, – говорит одна.
– Иди, иди! Поговори с гостем, – подхватывает другая.
Камал на них не смотрит, он не желает их видеть. Со вчерашнего вечера своим приходом они нарушили его привычную жизнь.
Он быстро забегает к нане. Она лежит в постели, накрывшись белым одеялом. А что это рядом с ней, как кукла? Большая кукла! Она и рот раскрывает…
– Камал, иди к маме…
– Мама, что это?
– Это? Это твой братик.
– А где я буду спать?
Нана слабо улыбается не в силах смеяться.
– И ты будешь рядом со мной. Этот – с одной стороны, ты – с другой…
– Нана, ведь двое не поместятся.
– Тогда ты ляжешь в ногах… Ты же уже большой…
– Я не хочу в ногах… – плача, Камал выбегает.
Во дворе женщины смеются, хлопая в ладони. Этот плачет громче, те пуще смеются…
– У Камала появился соперник, – говорит Зарган.
– Ха-ха-ха… – смеется Эсила.
Яхийта подходит к нему, берет за руку:
– Пошли, к даде пойдешь?
Мальчик перестает плакать. Он идет с сестрой, держась за ее руку. В другой руке сестры – узелок. Они уходят, выйдя за ворота. Спускаются по склону к реке. В ней светлая вода, видны камешки. Он хочет залезть в воду. Сестра не пускает его. Переносит на руках. Потом они через кустарник, подминая опавшую листву, поднимаются по склону. Мальчик, поскользнувшись на листьях, падает, ладошка выскальзывает из руки сестры, он катится по склону до ровного места, там барахтается в желтой листве, заливисто смеется, вороша листья, подбрасывая их, те переливаются в ярком, солнечном свете желто-красным цветом.
– Хватит, Камал. Поднимайся, – кричит сестра.
Камал трогается вверх по склону, но вновь соскальзывает вниз. Опять смеется, подбрасывая листья. Яхийта, положив узелок возле куста орешника, спускается вниз по склону, в листве она находит несколько орешков. Разгрызает один и ядрышко дает Камалу. Потом, взяв Камала за руку, поднимается вверх. Затем они идут по более ровному месту сквозь кусты. Наконец, подходят к маленькой зеленой лесной поляне: на одном ее краю стоит большая-большая груша, под нею лежит много опавших желтых плодов. Камал, отпустив руку сестры, бежит под грушу. Собирает плоды, ест. Тут из-за груши появляется дада.
– Дада! – подбежав, обнимает Камал отца. Отец, взяв его на руки, смотрит на Яхийту.
– Мальчик родился, – говорит Яхийта, глядя в землю.
– Ва-ха-ха! – смеется отец, ставя сына с рук на землю. – Камал, у тебя, говорят, братик родился?!
– Он какой-то маленький, – недовольно отвечает Камал.
– Подрастет он, Камал… Ты тоже был таким же маленьким… – смеется отец.
– Я не был, – надувает губки Камал.
Ему хочется плакать, вспомнилась разлука с матерью со вчерашнего дня.
– Не был… не был… ты родился вот таким, большим, – садится отец на корягу, лежащую под грушей, беря Камала на руки.
Отец проводит по щеке Камала чуть отросшей щетиной, но тот не смеется, как раньше. Обеспокоенный, отец внимательно смотрит на него: Камал чуть не плачет.
– Дада, я не буду спать в ногах… – говорит он.
– Кто тебе наказал спать в ногах?
– Мама…
– Ха-ха-ха, – опять смеется дада. – Твое место занято… Ты у дады в ногах спать не будешь. Ты с дадой самим будешь спать… А теперь давай назовем твоего братика. Кати, Камал, Ковра… Его имя будет Ковра!
Отец, развязав узелок, начинает есть, иногда угощая и Камала. Яхийта, собирая плоды, ходит под грушей, широкая тень которой делит полянку надвое.
Закончив есть, отец ставит Камала на землю.
– Яхийта, вы идите домой, – говорит он.
– Я хочу остаться, – жмется к отцу Камал и, взяв за руку, тянет его.
– Нет-нет, даде сейчас нельзя домой… Вечером, когда стемнеет, я приду домой… Потом мы вместе ляжем спать.
Двое детей уходят через зеленую полянку, сквозь кусты спускаются по скрытому красно-желтой листвой склону, пересекают речку с бегущей светлой водой.
Сквозь свет полуденного солнца брат и сестра идут к своему маленькому жилищу.
* * *
Проснувшись, он понял, что прослезился. Оказывается, во сне оплакивал свое далекое детство. Зайдя на маленькую кухню, он включил свет. Взял со шкафа исписанные листки, спрятанные там от детей, сел за стол. Мысли вновь увели его в детство. Он пытался постичь поступки отца. При рождении ребенка тот скрывался от взора соседей, односельчан, старался не попадаться им на глаза, домой приходил лишь в потемках. До такой степени он был совестлив, нравственен. Да, совестливость-нравственность. Надо понять значение этого явления. Взяв карандаш, он записал большими буквами: ИЭХЬ-БЕХК.4 Как оно сейчас измельчало. По телеканалу вечером слышишь: «Такой-сякой от души поздравляет свою дочь (или сына) с исполнением года (или любого года)…» То же, говорят, происходит и в Грозном.
А то, что прирезали курицу, кричавшую петухом, оказывается, было принято у всего нашего народа: наказание за бунт против своего естества – быть мужского или женского пола – лежало в основе этого действа. Этот случай свидетельствует, насколько сильно должно быть то различие у людей. А теперь сколько их, рядящихся под женщин мужчин и наоборот, показывают по телеканалу! Запреты нарушаются ежедневно, освобождая тело, терзая душу или создавая иллюзию, будто ее нет вовсе.
Собравшись записать свою мысль, Камал приостановился с карандашом в руках, услышав плач ребенка в соседней комнате. Это Зайт – сын, появившийся здесь, на чужой земле. Малыш хиленький, частенько болеет. Он положил руку на голову ребенка, лежащего в маленькой кроватке. У того был жар. Камал взял ребенка на руки.
Когда он сам был маленьким – не таким, как этот ребенок, которому сейчас всего семь месяцев, – да, ему было три-четыре года, во время болезни отец брал его на руки и вслух читал «Ясин», доходя до слова «мубийн», проводил рукой по телу. Особенно плавный, своеобразный напев был при чтении Корана, этот мотив усыплял его, снились хорошие сны… Он выздоравливал.
Камал не знал «Ясин» наизусть, он знал «Фатихат», «Кулх», несколько других коротких сур. Читал их сыну.
Тут, проснувшись, мать взяла ребенка за руку:
– У него температура. Надо дать панадол, – заволновалась она и дала лекарство. Потом ушла в соседнюю комнату, занялась делами.
Да, столько же было тогда и Ковре. Сколько ему было месяцев? По всей вероятности, не было и года. Он очень исхудал, мало ел. Дада сказал, что его надо лечить. Вывели в сад из сарая откармливаемую на зиму скотину. Обернув веревкой и потянув, повалили. Было много крови. Ямка, выкопанная Кати лопатой, наполнилась. Освежевали, разрезали надувшуюся, как большой пузырь, требуху, посадили туда маленького голенького Ковру. Камал плакал, боясь, что с ним что-то случится. Ковра же уснул в утробе животного. После этого он поправился, пополнел, начал ходить… Вырос здоровым мужчиной… Однажды летом пошел купаться и утонул… Его нашли на песчаной отмели, где Аргун при выходе на равнину выкинул его на берег. Отец после этого прожил недолго… Сердце не вынесло последнего удара… Выселение, потеря отца, матери, смерть семерых детей и, наконец, смерть Ковры – все это по кусочку забрало его сердце, и оно в конце концов растаяло.
С момента рождения первого ребенка родители отдают им свое здоровье, забывают себя, не надышатся на детей… Все рассчитывают на них. А из них неизвестно, что получится, когда повзрослеют.
Да и сам он не особенно соблюдает некоторые заветы отца. Свернул с отцовского пути. А если ты, Зайт, еще дальше отойдешь, что же останется от отцовских наказов? Где ты отыщешь то, что было дорого предкам? Где найдешь следы их дорог? Не уходи, сойдя в сторону. Не смешайся с мутными водами паводка, в которых не различишь правду и кривду. Пусть у твоего родника будет свое русло, Зайт. Неизвестно, сколько проживет и твой отец. Не падай духом.
Здесь Камал остановил бег своих мыслей. «Что-то я увлекся, поверяя этому маленькому, только что появившемуся на свет человечку свои тяжелые мысли, рассказывая печали… Как ему их вынести, если и я так тяжело переношу их?» – шепотом сказал он. Потом положил руку на лоб ребенка. Тот вспотел, малышу заметно стало легче.
Когда обернулся, уложив ребенка в кроватку, увидел приметы зарождающегося дня. Светало. Настало время намаза.
2005.
[1] Дада – здесь: отец.
2 Нана – мать.
3 Паднар – топчан.
4 Иэхь-бехк – нравственное понятие, букв.: стыд-вина.
Перевод А. Тарамовой.
Гора и море
Когда война разразилась во всю мощь, Вара находился в городе. Все вокруг уезжали, он же решил остаться с родителями. По правде говоря, они тоже не хотели уезжать. Отца, как выяснилось позднее, удерживало на месте ожидание близкой смерти, его – имущество, а мать не захотела оставить их обоих. Когда-то, во время выселения, она рассталась со своими родителями, которые впоследствии умерли, и теперь не могла провести вне семьи даже сутки.
У родителей Вары не было других детей, кроме него и дочери, что была старше его на два года.
Санет была замужем. К счастью, о ней не нужно было беспокоиться. Со своим мужем они жили в Москве. Она приезжала перед началом второй войны и долго уговаривала: «Вам необходимо уехать отсюда, в Москве говорят, что здесь скоро развернутся жесточайшие бои». Отец отправил ее обратно со словами: «На все воля Божья. Не печалься, а лучше поскорее вернись к своим детям».
Варе принадлежало шесть дворов, место, где добывали бензин, два магазина, а в них подвалы, полные товаров и продуктов.
Это было все его достояние, которое ему удалось собрать за последние пять-шесть лет. Больше него самого этим достоянием гордились его родители, которые в жизни не видели ничего, кроме собранного в поле зерна и молочных продуктов, полученных от коров и овец.
– Ай да Вара! Я назвал тебя этим именем, чтобы ты стал таким же славным мужем, каким был абрек Вара. Будь осторожен, мало на свете людей, не прельстившихся материальными благами… – повторял отец. А затем тихо добавлял: – Нет у тебя брата, который мог бы стать тебе верным товарищем…
Когда-то были у него два брата и еще три сестры. Да все умерли еще детьми. Он их даже не помнил. А его родители страдали каждый раз, когда в других родственниках замечали черты своих умерших детей. Им обоим это было очень тяжело. Даже если бы он знал, какая тяжесть лежит на их душах от пережитых невзгод, разлук и страданий – все равно ему не было бы так трудно…
Но все это оказалось просто сном перед настоящей разлукой и настоящей бедой. Он это понял, когда ближе к середине первого месяца зимы бомбы упали в одном-двух кварталах от их улицы. В этот день пять из шести его домов были разрушены до основания. Отец, который как раз перед бомбежкой пошел присмотреть за ними, туда не дошел…
Чтобы похоронить его на кладбище, на самом краю города собралось пять-шесть человек. С трудом похоронили, несмотря на непрекращающийся обстрел.
– Мама, любым способом нам нужно выбираться из города, – сказал он матери в тот же вечер, когда вернулся с похорон отца.
Мать согласилась. Но денег у них не было, а те, что были, закончились. Он пошел к своим магазинам. Хотя сами здания были разрушены, подвалы уцелели. Только товаров и продуктов осталось менее половины. Вокруг деловито суетились люди в военной форме. Он заявил им, что является хозяином этих подвалов и всех вещей, находящихся в них. Этого хватило, чтобы те разъярились окончательно, избили его и бросили в подвал, угрожая расстрелять, как предателя Родины. На второй день его спасла мать, которая пришла за ним и, плача, уговорила командира этой группы отпустить его.
Вскоре чеченцы ушли из города – по минному полю, они прошли от Грозного до Алхан-Калы, устлав всю долину своими телами. (Позже он прочитает об этом в Москве, когда ему в руки попадет роман «Идущие в ночи»… Хотя в нем и упоминались действительные события, все же в целом это было вранье, очерняющее одну сторону и обеляющее другую).
Еще через несколько недель к ним во двор пришли солдаты и сразу поставили его к стенке. Был ли он действительно в чем-то виноват или нет, их не интересовало – достаточно было, что он чеченец. Мать упала в ноги командиру, плакала, кричала, умоляла. Похоже, сердце у того было не из камня, потому что он пожалел мать и отпустил его.
После этого мать начала настаивать: «Нам надо уехать отсюда, надо уехать…» – «Подожди. Мы же не можем уехать вот так, без ничего, чтобы на чужбине милостыню просить».
Месяца через два в городе стали появляться кое-какие организации и люди, работающие в них. Его сосед пришел с бригадой строителей.
– Бека, я продаю шесть дворов и два магазина, – сказал Вара ему.
– Зачем ты продаешь их теперь, когда война уже закончилась, – удивленно вытаращился на него Бека.
– Мне опротивела эта страна, хочу уехать отсюда…
– Сколько просишь?
– То, что сам дашь… Мне нужно, как минимум, три тысячи долларов…
– И как ты узнал, что у меня с собой ровно столько и есть?… На, вот они…
– Я продал тебе за эти деньги шесть своих дворов и два магазина…
– Не спеши совершать сделку… Эти деньги ты вернешь, когда сможешь. Позже, когда пожалеешь…
– Не пожалею… Я продал тебе за эти деньги шесть своих дворов и два магазина…
– Да будет благодать тебе от твоих денег.
– Да будет доволен тобой Бог!
На третий день они с матерью выехали, а в это время шло уничтожение Саади-хутора (позже ему попалась книга, изданная московским «Мемориалом», в которой сообщалось: там погибло более тысячи человек, некоторым из захваченных в плен отрезали головы и затем варили их в ведрах – даже от такой жестокости мир не содрогнулся, мир продолжал жить как ни в чем не бывало), людей похищали, убивали, они исчезали без следа, над безвинными людьми совершалось всевозможное насилие, их унижали, превращали в тряпки, об которые можно вытирать ноги, взрывали дома, машины, продавали тела убитых – зло и жестокость переполнили Чечню.
«Как только земля все это выносит?.. Страшная страна, надо бежать отсюда и чем дальше, тем лучше», – думал Вара.
Еще через два месяца, в середине осени, они с матерью добрались до Бельгии. Безостановочно лили дожди. На улицах было сыро. Точно так же – на сердце. Ему сразу не понравилась эта страна, ее люди и чеченцы, обосновавшиеся там…
– Неужели во всей Европе нет теплого места без дождей…
– Есть, Франция… Там есть такой город – Ницца… А в нем, говорят, немало чеченцев…
В Ниццу они с матерью отправились по железной дороге. Через окно виден был чистый, ясный горизонт.
Он очень хотел поскорее добраться туда. Верилось, что Ницца находится по ту сторону светлого горизонта. Так оно и было. Они добрались туда уже без денег и ослабевшие от голода. Действительно, в Ницце было тепло, люди приветливые, все улыбались и говорили друг другу: «Бонжур – бонжур, пардон, месье, – пардон, сильвупле – сильвупле, мерси – мерси». Сразу же по прибытии их накормили, предоставили жилье и дали ежемесячное пособие. Впервые получив его, Вара сразу же купил ящик апельсинов. Поставил его посреди комнаты, а затем съел все апельсины, за исключением двух-трех, которые достались матери. По этим фруктам он сильно тосковал в голодном и жестоком Грозном. Теперь он наелся в полное удовольствие…
Так же, как по апельсинам, он истосковался по мирной, однообразной жизни и простым удовольствиям. А они были тут на каждом шагу. Здесь не стреляли, не бомбили и никто не приставал с расспросами, кто ты и откуда. Но существовала другого рода опасность: в погоне за удовольствиями потерять самую суть своей души. Вара точно не знал, что это за опасность, но чувствовал ее сердцем. Сознание подсказывало, что нужно быть умереннее, сдержаннее во время редких прогулок к морю…
Да, море… Это было главное сокровище этих мест. Оно было прекрасным и грозным одновременно. Море само по себе представляло уже целый мир, оно кипело, волновалось своеобразной жизнью. Манило, звало в далекие края. Пугало, когда в ветреные дни жестокой силой волн разрушало основания гор…
Говорить по-французски он научился за три месяца. Нашлась и работа: следить за порядком в одном ресторане – его называли теперь «секьюрити». Наверное, владелец ресторана учел высокий рост и плотное телосложение Вары. Его сменщиком был молодой чернокожий, приехавший из Африки. Друг к другу они относились хорошо.
Правда, ходили слухи, что чернокожие не любят чеченцев за то, что они составили им конкуренцию в такого рода работе… Но пока он ничего не замечал.
Чечня так и оставалась незаживающей раной где-то в глубине его сознания. Хотя он и пытался не вспоминать о ней. А если против воли и вспоминал, то в первую очередь ему представлялась надпись, сделанная большими буквами у тоннеля под железной дорогой: «Добро пожаловать в ад!» Ему хотелось забыть это адское место. Но мать очень часто скучала о нем.
– Зачем ты печалишься, мама, ведь здесь такое же небо, как в Чечне, такие же горы, такие же леса… Здесь есть море, которого нет там, мир, которого нет там, и люди здесь добрее…
– Все это так… Только…
– Что только?..
– Это место, где у людей исчезло чувство стыда… Никогда не видела людей, которые лежат на берегу моря, полностью раздевшись, как животные…
– Да, это верно.
– Обязательно женись на чеченке, пусть умрет твоя мать за тебя, – глаза матери наполнились слезами.
– Конечно… Здесь много чеченских девушек… Неделю назад чеченцы, приехавшие из Голландии, увезли отсюда невесту для своего сына, причем односельчанку.
– Надо бы съездить домой, когда война закончится…
– Хорошо… Но, по правде говоря, зачем думать о возвращении, если мне даже смотреть в ту сторону не хочется… Я заранее позабочусь о том, чтобы меня похоронили здесь.
– Не делай этого, сын… Если умру, отвези меня домой… Похоронишь рядом с отцом…
– Хорошо, мама. Хорошо.
После этого разговора прошло около двух месяцев… Весенним теплым днем примерно двадцать чеченцев собрались на местном мусульманском кладбище, чтобы похоронить ребенка, умершего в одной из чеченских семей.
Вечером, вернувшись домой, он рассказывал матери:
– Здешнее мусульманское кладбище находится в очень красивом месте. На краю города, на высоком холме… С одной стороны виден склон, поросший лесом, кизилом и лесными шишками, а с другой – лазурно-синее море. «Нельзя, чтобы наши домашние в Чечне узнали об этом прекрасном месте, – в шутку сказал Эламха из Гойт. – Если они об этом узнают, то все будут рваться сюда, чтобы быть похороненными именно здесь»…
– Сын, каким бы красивым ни было это место, но ты похоронишь меня дома, – в сердцах сказала мать, а затем внезапно разрыдалась.
– Богом клянусь тебе, мама, я вовсе не имел в виду то, о чем ты подумала. Я просто рассказывал, о чем и как мы говорили между собой… – начал он поспешно извиняться.
В свободное от работы время Вара ездил то в Монако, то в Рим, то в Лиссабон, а когда ему надоедала жара, – в Норвегию. Он стремился получить от жизни как можно больше, изо всех сил пытаясь погасить желание все увидеть, все попробовать, но, сколько бы он ни мотался туда-сюда, это желание не только не ослабевало, а как будто становилось еще сильнее.
У него не было времени остановиться, поразмыслить – его кружило в водоворотах жизни, словно терновый куст, что рос на берегу, а затем вода размыла под ним почву, и его понесло бурным потоком.
Чистое небо его жизни омрачало только одно – мать все время тосковала. Он, как мог, пытался развеять ее тоску: приглашал в гости земляков ее возраста, приносил всевозможные диски и видеокассеты с чеченскими песнями, беседовал с ней вечером и утром, уходя из дому. Однако из этого ничего не получалось, изо дня в день мать тосковала все сильнее, пока однажды тоска не свалила ее.
– Кровоизлияние в мозг… К счастью, не очень сильное… При правильном лечении может выздороветь, – объявил врач.
После долгого лечения мать начала поправляться, словно ребенок заново участь говорить и ходить.
Однажды ночью во сне ему привиделась покрытая снегом и льдом гора, что смотрела на их и соседнее село. С горы вниз бежали потоки светлой воды. Но, не дойдя до их села, вода бесследно исчезла среди высоких трав… На второй день, ничего не сказав матери, Вара купил билеты домой. Мать, без возражений, согласилась с решением сына…
Домой добрались хорошо, без приключений. В городе не было ни одного пустующего жилья. И людей, и машин стало намного больше. Сосед, которому он продал свои дворы, даже не предложил пожить пока в одном из их бывших домов. Разговаривал довольно холодно. Казалось, он был в растерянности. Возможно, решил, что Вара вернулся, чтобы отменить их прошлую сделку и потребовать обратно свои дома. Но у того и в мыслях этого не было. Хотя Вара верил, что Бека сам предложит нечто подобное примерно так: «Деньги, которые ты заплатил, не составляют подлинной стоимости твоего имущества, в минуту отчаяния ты уехал, бросив все свои дома, теперь забери обратно хотя бы один из них». Не сказал. Бека был уже не тот, что раньше, изменился. Все вокруг страшно суетились, никто не задумывался о творившихся ежедневно преступлениях, бедствиях, об исчезающих каждый день людях – все пытались получить пособия, компенсации, пенсии на умерших, пособия на погребение, добивались помощи от гуманитарных организаций, готовили всевозможные бумаги, грешили на каждом шагу, а те, кто должен был заботиться о людях, – были готовы содрать с них шкуру, чтобы затем и ее продать… – всюду торжествовало бездушие.
Смерть, похороны, обряды поминовения – все воспринималось людьми как нечто, само собой разумеющееся (как сходить за водой или по дрова); не успев похоронить близкого человека, тут же мчались разгребать развалины Грозного, стоять в очереди за мукой или сахаром, забыв, что все они стоят в очереди у самой смерти…
Начался второй месяц, как он вернулся в Чечню и жил в доме у двоюродного дяди по отцу, когда от резко поднявшегося кровяного давления умерла его мать. Не прошло и трех дней, как все разошлись по своим делам, включая и близких родственников, которые должны были исполнить все обряды поминовения.
На главной городской улице затерли надпись «Добро пожаловать в ад». Надпись стерли, а ад остался. Только он изменился, обрел другое содержание, но не исчез, наоборот, начали проявляться ему неизвестные стороны доселе: ад царил теперь не только снаружи, но и в душах людей. Поэтому нужно было бежать отсюда, бежать безвозвратно, и как можно быстрее туда, где тепло, где доброжелательные, отзывчивые люди, где кипят удовольствия и радости жизни.
С таким желанием он помчался в город уже через неделю после завершения обряда поминовения, неся на плече дорожную сумку и распрощавшись с родственниками и соседями. Вначале он добрался до бывшей центральной городской площади, где теперь была автостанция и торговали продуктами, и тут его остановил красивый мотив песни. Голос певца был удивительно чистым и сердечным, он звучал, заглушая все другие голоса и звуки. Он вслушивался в слова:
…Ранили? Да, ранили.
Покорилась ли? Нет, не покорилась.
Пусть люди говорят, что хотят,
Но Чечня не погибла…[1]
Эти слова запали ему в душу. Он подошел к месту, где торговали кассетами, и остановился. Здесь уже столпилось несколько человек, остановившихся, как и он, послушать песню.
«Если не погибла сейчас, то уже никогда не погибнет», – тихо обронил кто-то. Вара недовольно посмотрел на него. Как бы ни прозвучали эти слова, плохо одетый седой мужчина стоял, плененный песней и со слезами на глазах. Певец начал второй куплет, от которого перехватило горло:
Сбили с ног? Да, сбили.
Поднимется ли? Я смертью отвечу за это!
Поднимется навстречу рассвету,
Чтобы жить под безоблачным солнцем.
Число желающих послушать песню все увеличивалось. Похоже, все, как и он, впервые услышали ее.
Права ли была? Права,
Заставляя нас завидовать мертвым.
Но мы еще успеем пожить,
Сожалея, что нет с нами умерших.
С третьим куплетом комок в горле растаял и пролился слезами. Вытирая глаза платком, он оглянулся вокруг и увидел, что в таком же точно состоянии находилось большинство слушателей. А стоявший возле дома старик плакал навзрыд.
Песня закончилась, но затем началась вновь.
Дав нищему старику пятьдесят рублей, Вара быстро пошел к стоянке такси, чтобы самому не заплакать в полный голос. Опомнившиеся люди один за другим бросали деньги в маленький ящичек, стоявший перед нищим. Когда он оглянулся, садясь в такси, ящичек уже почти наполнился. Но старик, забыв для чего он там стоит и не замечая пожертвованных ему денег, все еще находился в трансе и продолжал плакать.
– До Слепцовской, в аэропорт, – сказал Вара.
Такси тут же сорвалось с места.
С затуманенным сознанием, будто застыв, он сидел, глядя на дорогу прямо перед собой. Неожиданно та же самая мелодия вновь ворвалась в его сознание, как вода, прорвавшая плотину.
«Чечня не умерла… Сожалея, что нет с нами умерших… поднимется»… – обрывки песни вплетались в его мысли.
Ему показалось, будто водитель обратился к нему:
– Ты что-то сказал? – спросил он.
– Надеюсь, ничего печального не случилось?
– Нет… эта песня… как сказать… у меня мать умерла…
– Да помилует ее Бог.
– И тобой да будет доволен Всевышний! – он вытер глаза платком.
Однако песня продолжала звучать в его сознании, а потому слезы не прекращались.
На Ачхой-Мартановском повороте, у блокпоста, заглянувший в машину русский офицер спросил водителя:
– Это не заложник у тебя?
– С чего ты взял?
– А почему он плачет?
– Мать у него умерла.
– А-а… понятно.
Они поехали дальше, а Вара размышлял: «Хоть и невидимое, но есть добро в этом краю… Чечня пытается возродиться, восстановиться. И эта песня – доказательство тому. Добро как будто ширится, распространяется… Не всегда же только злу умножаться? Ведь когда-то это был край, где царили сострадание, доверие, нравственность».
Остановив машину, он вышел из нее, присел на корточки на краю дороги и, подобно тому старику, плакал, облегчая свою душу. Шофер курил возле машины.
Прошло пять минут, десять. Водитель закурил вторую сигарету. Наконец, высвободив свое сердце, Вара вздохнул. Умывшись водой из бутылки, которую протянул водитель, он вытер лицо платком.
– Извини, мужчине неприлично вести себя так.
– Я понимаю тебя…
Водитель завел машину.
– Разворачивай обратно.
– Как обратно?
– Мы едем теперь в наше село… в горы… в Шатойский район, – сказал Вара.
2005.
[1] Популярная в послевоенной Чечне песня на стихи Л. Абдулаева в исполнении автора музыки – В. Гадаева.
Перевод Э. Хасмагомадова.
Кружиться в этих волнах
Шоип ощущал грусть не только в своей душе, ее проявления он обнаруживал во всем, что его окружало: солнце светило не так ярко и приятно, как хотелось, – летом оно было слишком горячим, словно стремилось расколоть головы; весна и осень казались не в меру прохладными, к тому же шли дожди, поднимая холодный, сырой туман с поросших лесом гор; особенно тоскливо было зимой: длинные темные ночи, пасмурные дни, глубокие сугробы; холод, проникающий сквозь щели в дом, в сердце.
Грусть, исходящую от природы, можно было перенести, еще большую тоску вызывали люди, их взаимоотношения, работа в газете: необходимость постоянно о чем-то писать утомляла – навоз разбросали, табак посадили, тучный уродился, собрали, подвесили, спрессовали, опять разбросали навоз. Когда этот табак надоедал (если столько усилий требовалось, чтобы написать о нем, сколько же вреда приносит он тому, кто его курит!), на редакционной машине ехал в какой-нибудь далекий, заброшенный аул, чтобы познакомить читателей с положением дел в колхозном хлеве, надеясь, что, увидев природу тех мест и людей, тоска чуть уляжется, станет легче. Однако от взгляда на хлев, утопающий наполовину в грязи, скот в навозе, сморщенные раньше времени, хмурые лица животноводов – тоска не только не улетучивалась, но и значительно крепла, смешиваясь с туманом, поднимающимся с пропасти.
Правда, иногда среди доярок встречалась умеющая играть на гармони… По его просьбе, она в «красном уголке», расположенном в начале хлева (там обычно висел портрет Ленина), пела под гармонь, от всего сердца произнося слова:
Скажи, что кругом гора,
Скажи, что на той горе я,
Скажи любящему меня,
Чтобы приехал за мной.
Запевала впадала в экстаз, как будто это она осталась на той горе, а Шоип приехал за ней. Потерявшие надежду выйти замуж, ее подруги были безрадостны и подпевали без особого энтузиазма.
Эта песня несколько развеивала тоску, погружая в размышления, создавая в сознании разнообразные картины будущего. Но в этих картинах не было облика крепкой русоволосой (или темненькой) певуньи.
Пыл исполнительницы, словно почувствовавшей это, тая, гас, как огонь лампы, в которой закончился керосин. Подпевавшие успокаивались. Как ни старалась их подруга понравиться гостю из райцентра, все же опять остается она с ними и со своими прежними надеждами: забросив навсегда этот хлев, спуститься вниз, чтобы жить другой жизнью. Но, не желая расставаться с теплом души, возникшим от встречи с внезапным гостем, она долго крутилась вокруг, ласково и все время улыбаясь, повторяла: «Обязательно приезжайте еще, мы встретим вас не так просто, как сейчас, устроим вечеринку, барана зарежем…»
Когда гости садились в машину, она все еще удерживала улыбку на лице; проехав довольно далеко, Шоип обернулся: девушки стояли там же – впереди она со своей натянутой улыбкой, позади – точно на похоронах, ее угрюмые подруги. Приоткрыв дверь, чуть высунувшись, он помахал рукой; та помахала в ответ, еще более растягивая улыбку… Казалось, если бы эта машина не скрылась за поворотом, она бы побежала следом за ними…
Иногда приходила мысль: осуществить мечту вот такой девушки из хутора, и, затмевая все другие печали, появится одна семейная забота, тогда, пытаясь избавиться от нее, будешь день ото дня выполнять разные дела, так, незаметно, пройдет время, приблизится старость.
Но ему не хотелось идти по такой борозде, хотелось выбраться из нее, чтобы иметь почет и уважение, достойные его профессии и способностей, мечталось узнать весь мир, а не только шестую часть суши…
Настоящая жизнь, казалось, там, где можно свободно творить, высказывать свое мнение… Причина грусти, которая везде и всегда преследовала его, была в жажде этой свободной жизни. Ему казалось, что все люди, живущие в этой огромной стране, ощущают ту же тоску, что и он. Только три типа людей, определенно, не испытывают этих чувств: дети, старики и начальство.
Ясно, почему беззаботны дети: все было для них ново, имело особую тайну, они верили всему, что им говорят: что все дороги для них открыты, впереди их ожидает светлое будущее (лет десять назад он сам в это верил, поэтому при виде детей в красных галстуках его глаза наполнялись слезами: он представлял, как тяжело будет им, когда они узнают всю правду).
Старики не носили в себе его переживаний, потому что они никогда не обманывались так, как он: власть всегда была враждебна к ним, если не считать эти пятнадцать лет. Поэтому все хорошее, что происходило в последнее время, они воспринимали с недоверием, приговаривая: «Кто не побережет себя от их добра, тот не сбережет себя от их худа». Это одна причина. Другая: их главная грусть была вызвана безысходностью собственного положения – неизбежностью смерти и необходимостью предстать перед судом Всевышнего.
Начальству было и вовсе не до печалей: оно должно было ставить перед людьми все новые цели, придумывая воззвания с указанием дорог, ведущих к их достижению (конечная цель была очевидна – коммунизм, требовалось создавать менее значимые ближайшие задачи). Честно говоря, хоть и не грустили они, все же ощущалась в них какая-то усталость: ведь нелегко держать столько народа в клетке, нелегко подыскивать новые слова, чтобы убеждать в своей правоте, однако с каждым днем все меньше становилось людей, принимающих сердцами призывы: «Постановление съезда номер такого-то – в жизнь!»
После, когда один за другим умерли три руководителя страны, он понял: усталость нижестоящего начальства исходит от старческой недееспособности вышестоящего.
А сейчас это будущее было скрыто; эта власть, наложившая капкан на народ, никогда не меняясь, так и будет стоять, сколько бы времени ни прошло; мечтающим о свободе ничего другого не остается, как при первом удобном случае перейти границу…
«А кто знает, что за ней?!» – «Перестань, за ней свобода! Хотят – работают, не хотят – нет, живут припеваючи… И мы будем так жить (если когда-нибудь эта власть исчезнет), засунув руки в карманы, насвистывая, давая взаймы миллионы, говоря все, что вздумается…» – «Далекая песня радует…» – «Это не далекая песня, там все именно так… Писатель напишет книжку – становится миллионером. А здесь что… Написав десять книг, Шахаев пьянствует, не имея даже своего угла… На чеченском языке в год выходит всего лишь около десяти книг. Это ничтожно мало… Они усердствуют, желая растворить нас среди других людей…»
Подобные разговоры вели, облегчая свою боль, длинным летним днем до самого вечера три молодых писателя из разных районов Чечни в кафе на берегу Аргуна, кушая жареное мясо, запивая его настоящим грузинским вином «Киндзмараули», слушая песню «Снегопад, снегопад» в исполнении Наны Брегвадзе (по их заявкам она звучала снова и снова, так же периодически, как только заканчивалось, подносили вино). Когда солнце спустилось на хребет, работник кафе с бутылкой в руках подошел к ним: «Осталась последняя бутылка этого вина, возьмете ее?» – спросил он. Это очень позабавило писателей: «Конечно, возьмем! Под пение грузинки, оказывается, легко идет грузинское вино… Ха-ха-ха…»
Когда вышли, выпив все, один из них, Олхазар, приехавший из Западного района Чечни, вспомнил, что у Шоипа, живущего на берегу Аргуна, нет хозяйки. «Печаль, о которой мы говорили, несколько поубавится, если ты женишься», – сказал Юнус, он был из Восточного района Чечни. «Не проблема, поступлю, как скажете… Здесь, в соседнем селе, у меня есть девушка, за которой я ухаживаю вот уже десять лет…» – «Ты довольно рано начал…» – «Детская любовь».
Когда же пришли, выяснилось: полная решимости до сих пор босиком идти с ним на край света, сегодня она не готова была исполнить их желание. На ее мнение, кажется, повлияло то, что они слишком долго слушали грузинскую певицу. Оскорбившись, эти трое, не расставаясь, вышли на дорогу и, голосуя, доехали до Шатоя, оттуда добрались до одного хутора, что рядом с Итум-Кали, в дом к Даки – поэту, сочиняющему необычные стихи о природе.
Дака, окончив математический факультет института, вернулся и работал учителем в родной школе. Он был старшим в большой семье, родители души в нем не чаяли, поддерживая все, что он говорил, и одобряя все, что он делал. Из всех чеченских обычаев Дака более всего придерживался обычая резать барана для гостя. Вот и сейчас, не поддаваясь уговорам и протестам друзей, он зарезал для них барана, пока они сидели за разговорами под навесом. Братья Даки, освежевав животное, бросили мясо в котел и, пока оно варилось, быстро пожарили сердце, легкие и печень, положив готовое блюдо на стол рядом с хлебом, сыром, маслом, медом; спустя час принесли полную вареного мяса большую чашу… Трапезничая, приятели просидели почти до рассвета, сожалея о свободе, которой не обладали. Дака, иногда вставая, обходил кругом дом…
– Они и здесь бывают? – спросил Олхазар.
– Кто знает, вдруг… В школе есть у нас один безбилетный коммунист. Больше жизни любит газету «Красная звезда». Ни один номер не пропускает. Все хранит. Из этой газеты он знает о положении войск в Афгане лучше, чем офицеры, которые там служат, знает судьбу всех известных военачальников. Вот уже две недели, как имя Героя Советского Союза Чайки не упоминается в газете, не случилось ли с ним чего? Этот вопрос беспокоит его в последнее время… – рассказывал Дака, обгладывая баранью кость. Когда обглодал, под столом согнул ее обеими руками и сломал, костный мозг положил перед гостями – хозяин был не только вежлив, но и силен.
Когда стало светать, друзья упали на постели, заранее заправленные белыми простынями, провалялись до обеда следующего дня; потом с Дакой впереди отправились к протекающей неподалеку горной реке, умылись (Дака даже искупался в этой светлой реке – он закалял тело, помимо того, что писал стихи, зимой ходил высоко в горы на охоту, да еще ночевал там). Потом опять сидели под навесом за большим столом, до вечера обсуждая свое горе; когда же эти разговоры порядком надоели, Юнус сказал: «Дака, прочитай свои новые стихи», – тот, покраснев, дрожащим голосом, как будто был учеником, а они учителями в школе, прочитал. Способный выполнять любую работу, Дака, когда дело касалось его литературных возможностей, краснел, нелепо улыбался, становился чувствительным, слабым, беззащитным, как травинка, удивляя своих слушателей: «Смотри-ка, в таком мощном теле оказалась такая тонкая, нежная, ранимая душа».
Дака в своих стихах снова передавал им то, что они видели вокруг: холодные родники, высокие горы, бьющийся о берег, бросающийся вниз с огромных камней Аргун… Шоипу казалось, что видимое было намного прекраснее того, о чем они слышали голосом Даки. Правда, строки, написанные поэтом о своей утраченной любви, тронули сердце: плач души нельзя было увидеть, оглядевшись вокруг, ведь он зародился в его сердце и не мог принадлежать другому, у каждого из нас свои переживания…
После обеда, когда гости засобирались, Дака запротестовал: «Не поедете, не побывав на вечеринке», – не дожидаясь повторного приглашения, они согласились и снова до вечера обсуждали свою беду, сидя под кроной груши на берегу реки.
Вечером под навесом во дворе Даки собрались молодые люди: девушки и парни. Девушки были высокие, кровь с молоком, румяные и белокожие – все красавицы, как сказочная Малх-Азни. Ни в девушках, ни в юношах, пришедших с ними на вечеринку, не чувствовалась печаль или забота, с ними были только веселье и радость жизни.
Девушки пели песни, играя на гармони; парни исполняли илли[1] под дечиг-пондур. Потом, вставая по очереди, танцевали. Гостей тоже приглашали на танец, хотя они и пытались отказаться, ссылаясь на свое неумение.
Из песен, что пели девушки, он запомнил:
Как красив гость,
Как темна ночь…
Если ты боишься,
Я провожу тебя в путь.
Из исполненных парнями илли особенно понравившиеся строки звучали так:
Как лягушку в траве,
Усыпив свою мать,
Прошу: приди
На наше веселье.
Девушка, примеченная Шоипом, была очень красива: Бог щедро наделил ее тело и лицо красотой. Это то, что было на поверхности… Узнав ее поближе, когда появилась возможность обратить на себя ее внимание, выяснилось, что чувствам, наполнившим ее душу, нет предела, их целое море… Купаясь в этом море, можно забыть все невзгоды, избавиться от всех печалей! Эх, жизнь! Бейте в ладоши!
Пребывая в восторге от этой мысли, Шоип выбежал в центр круга, не совсем понимая, что делает. Раскинул руки, как орел крылья, обошел кругом девушку, словно хищная птица свою добычу, и стал вытанцовывать перед Кабихой. Когда та чуть замешкалась, Дака прикрикнул:
– Выходи в круг! Выходи! Не задерживай гостя!
Кабиха сама была не прочь танцевать, но, с удовольствием наблюдая за тем, с каким нетерпением ожидает гость ее выхода, как, наконец, потеряв терпение, бьет ногой об пол, словно конь, готовый броситься вскачь, она не торопилась. Когда же вышла в центр, широко разведя руки, поплыла по кругу, в сто раз большее восхищение испытал Шоип. Волны, исходящие от девушки, расходились, незаметно для людей они превращались в волны всеобщего восторга; эти волны в один из вечеров, спустившись с берегов, очутились в ровной долине; бегущие воды Аргуна как-то по-особому закружились, и в этой воде отразились все картины лета: деревья, выросшие на берегах, огромные валуны, небесные светила… Да, эта девушка, Кабиха, и была чистой водой Аргуна, текущей летней ночью, вобрав в себя всю прелесть этой ночи, соки и нежные запахи всех трав и цветов.
Думая, что танцует, он начал бить по волнам руками, не понимая точно, что делает; не умея плавать, был согласен утонуть в этой воде.
Он пришел в себя, когда девушка вышла из круга.
– Парень-то, оказывается, способен танцевать, – заметил Олхазар.
– Он кружился, как подхваченный вихрем, не давая взгляду задержаться на себе… – подхватил Юнус.
– Нельзя позволять чужому взгляду останавливаться на себе, ведь так и сглазить можно, – вступила тамада девушек.
– Шоип, – заговорил Дака, – если хочешь жить, имея состояние, женись на одной из наших соседок из рода шашанхо. Достаточно дать женщине из этого рода три рубля и пустой мешок, чтобы она тебя обогатила. Если же ты приведешь в дом женщину из нашего рода, ты избавишься от всех жизненных неприятностей, кроме одной, – этой женщины.
– Знаешь, Дака, мне кажется, лучше стать вашим зятем, – ответил Шоип.
Эти слова вызвали смех девушек и юношей.
Юнус, обратившись к девичьей тамаде, сказал:
– Дорк деъча, шайн меркан деркий дIадоьркий аш доьркаршца?2
Юноши и девушки, удивившись, замолчали, не понимая, что он говорит.
Юнус, довольный произведенным эффектом, стоял улыбаясь. Он снова повторил:
– Дорк деъча, шайн меркан деркий дIадоьркий аш доьркаршца?
На несколько секунд опять установилась тишина. Потом все, начиная с тамады девушек, засмеялись так, что зазвенело не только на хуторе, но и в окрестных пропастях. Их смех, передаваемый друг другу лесными опушками, разлетелся далеко. Когда он стих, девичья тамада сказала:
– Слушай, Дака, ты случайно лесным купырем не накормил своего гостя? Что-то он заговаривается.
Юнус по-прежнему сиял, как лунный свет, ничего не говоря.
– Такие вот у нашего гостя своеобразные шутки. У нас здесь иногда говорят «рк» вместо «хк»…
– Что? Что? Мы, если надо, говорим и «рк» – райком, например, и прочее – хьакха,3 нал4… – выходила из себя девичья тамада.
– Да нет, это не то… Скажем, у нас говорят «дайморк», на равнине говорят «даймохк»,5 мы говорим «берк», они говорят «бехк»,6 мы – «даьIарк», они – «даьIахк».7 На литературном языке в этих словах вместо «рк» надо говорить «хк». Он подтрунивает над нами из-за особенностей нашей речи, – с трудом объяснил собравшимся юмор Юнуса Дака.
Юнус же в восторге от удачной шутки посмеивался, фыркая в нос.
– Так дело не пойдет! Это мы над ним покуражимся! Ну-ка, бейте в ладоши! Играй, гармонь! – вышедшая в круг тамада пригласила Юнуса на лезгинку.
Танец затянулся, неуклюжий Юнус не поспевал за ловко и быстро кружившейся девушкой. Парень очень устал, ему было тяжело дышать; партнерша же была все еще легка и бодра.
Похоже, Юнус пожалел о своей шутке, он весь взмок, превратившись в море пота, но выйти из круга раньше девушки не мог – это большой позор.
А та и не собиралась останавливаться. Ее подруги пропели:
Выходи из круга –
Тебя еще пригласят.
Выходи из круга –
Тебя еще пригласят.
Танцовщица и не думала прислушаться к песне.
– Ой, мы же не можем позволить тебе убить нашего гостя, – вскочила Кабиха и, остановив тамаду, избавила Юнуса от его страданий.
Когда перевалило за полночь, под лунным светом, смеясь и подшучивая друг над другом, молодежь стала расходиться.
– Эй! Утром встань пораньше, пока роса не спала, мы бы скосили нашу поляну, – говорил один.
– За меня не переживай, а сам не забудь взять наковальню и молоток! – кричал кто-то в ответ…
На следующий день Дака проводил гостей до самого Итум-Кали. Отведя Шоипа в сторону, он сказал:
– Кабиха приковывает взоры многих, у нее уже выросли крылья… До сих пор не было парня, которого она привечала бы, как тебя… Если ты серьезно настроен, не мешкай, поспеши вернуться сюда.
Затем, посадив гостей на автобус, следовавший в Шатой, заплатив за билеты, он ушел, радуясь тому, что его друзья уважаемы и любимы людьми; это чувство вдохновило Даку на написание новых стихов, он летел домой, не касаясь земли ногами.
Не доезжая до Шатоя, гости издалека вышли в том месте, где Вярд-эрк сливается с Аргуном (на равнине это «эрк» звучит как «ахк»8, но где-то он вычитал, что топонимы пишутся без изменений). Там было местечко, где жарили мясо и подавали домашнее пиво. Когда это и другое соединялось, друзья могли свободно обсуждать свою боль и боль своего народа.
Недалеко от этого места, на мелководье Аргуна, мыл «Жигули» красного цвета лысый коренастый мужчина среднего телосложения.
– Знаете, кто это? – спросил Шоип.
Тем двоим мужчина был незнаком.
– Это писатель Бакиев.
– Правда?! – обрадовались литераторы, считая всех в этом мире, кто пишет, родственными душами. – Мы должны с ним поздороваться.
– Добрый день, Султанбек!
Писатель что-то невнятно пробурчал в ответ, не прекращая мыть машину.
– Султанбек, ты что, меня не узнал? – удивился Шоип.
– Много вас, – ответил тот, не поворачиваясь, – а я всего один в этом районе советский писатель.
– Хоть нас и много, меня ты должен узнать… Помнишь, когда ты отредактировал мое стихотворение «Природа Родины», присланное в газету, я остался не очень доволен. Тогда ты сказал: «Мне по нраву твой характер… Терновник растет острым с самого начала».
– Вспомнил… Ты, кажется, из Лаха-Варша? – обернулся наконец Бакиев. – Что, парни, говорите, будете писателями? Вам придется днем и ночью усердно трудиться, чтобы достичь моего уровня.
Молодые литераторы одновременно улыбнулись: они-то знали, что не только догнали его в творчестве, но и давно обошли – ха-ха, не по количеству произведений обошли, а по их качеству, содержанию.
Чуть погодя они уже сидели все вместе под кровлей, покрывающей три сплетенные из прутьев стены. Когда дошла очередь до выпивки, Бакиев привел пословицу:
– Если говорить о невесте, то девушка – даже беременная – лучше, чем разведенка. А в выпивке в выигрыше прозрачная водка…
Никто не ответил великому писателю, однако среди них были и употреблявшие только домашнее пиво.
Выпив, поев жареного мяса, молодые литераторы стали говорить о горе, которым охвачена родная земля.
– Парни, слушайте внимательно!.. – Бакиев на правах старшего взял разговор в свои руки. – До сих пор и я говорил об этой печали. Я сделал то, что не сделал ни один из вас. Во время концерта, который проходил в здешнем райцентре, я поднялся на сцену и, называя каждого поименно: КГБ, ОБХСС, милицию, райком партии, райком комсомола… нет-нет, их я не тронул, в их руках нет особой власти, они дети по сравнению… военкомат, ПУЖКХ, ДОСААФ – всех, всех я послал подальше прямо в микрофон… Испуганные этим, люди, пришедшие на концерт, словно боясь куда-то опоздать, не успевая выйти через дверь, спотыкаясь и падая, топча друг друга ногами, разбежались; зал остался в моем полном распоряжении… Какая из этого вышла польза? Только один вред. Поэтому оставьте в покое эту печаль, забудьте о ней и пишите. О-о, вам придется очень много трудиться, чтобы приблизиться ко мне…
– Мы и не собираемся тебя догонять, – сказал Олхазар, глядя куда-то в даль с мечтательной улыбкой на лице и делая глоток пива.
– А что было после? – спросил Юнус.
– Меня вызвали в КГБ… На стол передо мной положили какие-то бумаги. «Твой дед был настоящий коммунист, твой отец тоже был истинный коммунист, работал в обкоме; мы полагаем, что и ты будешь предан идеалам предков и коммунистической партии…» – «Конечно, почему бы и нет? В конце концов, надо жить так, как жили наши отцы, продолжать их дело. Я не то что роман о революции, целую тетралогию напишу», – пообещав это, я вернулся домой. Теперь вот пишу роман.
Султанбек вскоре ушел и продолжил мыть свою машину. Да и молодые литераторы недолго предавались своим горьким думам.
Откуда ни возьмись, перед ними возник поэт Дамад Сакиев из Черного Ахка. Он был того же поколения, что и Султанбек. На его смуглом лице, испещренном морщинами, застыла улыбка. Дамад из числа тех, кто под впечатлением от возвращения на Кавказ после выселения стал писать стихи.
– Из такого далека как ты здесь очутился? – больше всех удивился Юнус, встретив человека из своего района.
– По дороге к приятелю в Борзой, услышав, что вы здесь, завернул сюда…
Когда Дамад присел и выпил, разговор стал еще более оживленным. Речь опять шла о терзавшей всех печали. Правда, причину этой печали Дамад усмотрел не во власти, а в известной чеченской писательнице Луизе. По его словам, именно она препятствовала продвижению его творчества, сделала его несчастным, когда Дамад отверг два предложенных Луизой «подарка»: любовь и писать за нее стихи.
В послеобеденное время, когда молодые литераторы решили встать, Дамад – любитель таких посиделок – сказал:
– Парни, подождите-ка. Послушайте четверостишие:
Iа, хьо шийла Iа,
Хьо ма гIийла Iа.
Арахь хIоьттина,
Ло тIе доьттина.9
Парни, я провел столько бессонных ночей, до самого рассвета подбирая и шлифуя слова, чтобы прийти к этой простоте, к этой звонкости, чистоте и выразительности. Возможно, мне недолго осталось жить…
– Почему ты так говоришь? – глаза Шоипа наполнились слезами.
– Я страдаю болезнью, которую мы не называем вслух.10
На миг воцарилась тишина. Дамад сам нарушил ее:
– Мы не должны расстраиваться из-за этого. Парни, неприлично идти к моему другу с пустыми руками. Может, коньяк…
– Это несложно, – побежал Шоип за коньяком с мыслью, что если Дамад внезапно умрет, то угрызения совести будут терзать его из-за невыполненного желания старшего товарища. Хотя среди известных Шоипу чеченских обычаев он не встречал такого, что неприлично идти в гости без бутылки.
Потом… Потом Дамад удалился со своей бутылкой «Эрзи». А они разъехались, кто в город, кто в свои районы, чтобы снова писать в газетах статьи: пришла весна, навоз разбросали, табак посадили, пропололи, собрали, подвесили, спрессовали, пришла осень, наступила зима…
Спустя несколько лет вышел роман Бакиева «Начало» о революционном движении в горах, но, как ни старался автор, опираясь на правду, вознести тех, кто устроил этот хаос, у него ничего не вышло, наоборот, многое вскрылось: все революционеры-активисты – воры, разбойники, проститутки или им подобные. Недовольные тем, что революционная борьба в романе передана без должного трепета и почтения, поднялись чеченские советские интеллигенты, боясь отстать друг от друга, они клеймили Бакиева, превозносили революцию и партию в своих статьях, выступлениях по радио и телевизору. Сердце Бакиева не выдержало.
Тогда время бешено закружилось, и с каждым его поворотом поднимались сильные ветры; они подули и в стране, охватившей шестую часть суши, ломая и круша то, что казалось незыблемым, вечным. Эти ветры настигли и Чечню: в одном из горных районов против воли обкома сняли 1-го секретаря партии, выбрав другого; один из организаторов смуты в подтверждение своей правоты привел строки известного поэта Ахмеда:
Как сожалею я,
Как сожалею,
Что в свое время
Слова не сказал.
Потом главой республики стал первый человек из чеченцев – люди устраивали массовые торжества, жертвоприношения, кружились в зикре. После этого многие начальники были из числа чеченцев. Вторым лицом в России стал чеченец – опять торжества, жертвенные обряды, зикры…
Почти в каждом селе открылись мечети, торговля стала свободной, деньги… машины, полные денег… Некоторым этого вполне хватало, благодаря Бога, они говорили, что следует остановиться… Многие возражали, считая, что общественность оценила их не по достоинству: один обвинял власть в своей чрезмерной полноте; другой считал ее виновной в своем косоглазии; третий был недоволен бессонницей и нечистой силой, мучившей его ночами, полагая, что власть имеет к этому самое прямое отношение; четвертый был уверен, что в его незаконном рождении виноваты не родители, а власть, не создавшая для их любви необходимых социальных условий…
Услышав их крики, со всех городских трущоб и нор, лесных зарослей и горных пещер, кошар, затерянных в песках, – отовсюду, отовсюду двинулся народ на городские площади….
Началось все со строительства завода, намеченного в Гудермесе. Если его построят, на нашей земле не взойдет пшеница, не родятся дети мужского пола, если и родятся, то инвалиды, которые не смогут иметь потомства: еще котлован завода до конца недостроен, а уже воздух и природа загрязнены; в подтверждение этому один художник (по его словам, он был мастером, выучившимся искусству скульптора в престижном российском институте)… так вот, этот художник привез с фермы, что недалеко от предполагаемого места строительства завода, в целлофановом пакете свиной помет. Как он сказал, если исследовать этот помет в лаборатории, станет очевидно, какую опасность представляет еще не построенный завод для людей, животных и неживой природы. Помет этот художник носил в своей сумке и, когда начинал разговор, демонстрируя, высоко поднимал его как самый главный аргумент.
После этого сбылось все, о чем с давних пор говорили наши отцы (советская власть исчезла без кровопролития), улицы Грозного заполонили герои из романа Бакиева «Начало»; когда увидели все это, когда нарушили их покой, житье-бытье, преследовавшие писателя очень пожалели о клевете; они бились головами о городские стены: «Как мы заблуждались, как прав был Бакиев!» – говорили они.
Но было поздно. Революционные котлы с каждым днем закипали все больше и уже бурлили. Они стояли на центральной площади Грозного и вдоль Сунжи. Там варили колхозные, совхозные и просто чужие туши тех коров и баранов, что не вернулись с пастбищ. Чтобы набить свои животы, там же собирались восставшие, подняв на главной площади республики невообразимый шум народного схода, они выкрикивали в адрес властей: «Ваше время прошло, настала наша эпоха!» – так они усиленно трудились днем и ночью, в дождь и под палящим солнцем.
В один из дней он увидел Юнуса, он шел, довольный собой, впереди группы, спешащей к котлам; было заметно, что Юнуса чрезмерно радует данная ситуация.
– Юнус, что ты тут делаешь?
– Шоип, ты ли это? Что-то тебя не видно. То, чего мы так ждали, сбылось! Нашей печали больше нет! Пойдем сначала отведаем мяса, я знаю, в каком котле самое вкусное! Один Бородач хорошо варит, говорит, что и в этом есть свои секреты: дрова должны быть дубовые или буковые, огонь равномерным, пену надо снимать своевременно…
– Я пойду…
– Как?! То, о чем мы мечтали…
– Я об этом не мечтал…
– Что?! – лицо Юнуса нахмурилось. – Не собираешься ли ты помогать партократам?
– Нет… Но и к вам примыкать нет желания…
В глазах Юнуса молнией вспыхнуло пламя ненависти, наполнив все его существо злобой, но отношения, связывавшие его с Шоипом до этого, не позволили грубо ответить другу и расстаться навсегда (это случится само собой, впоследствии их взаимная симпатия сойдет на нет, как будто ее и не было вовсе).
Шоипу захотелось выйти из толпы возбужденных людей. Он пошел вдоль берега Сунжи. Пересек два моста и, не дойдя до третьего, в долине реки Сунжа, возле пилорамы, увидев толпу людей, решил выяснить, в чем дело.
Как только он подошел, кто-то громко позвал, и все собрались во дворе под железным навесом. Люди пристроились кто где: кто на срубленных деревьях, кто на длинных скамьях, расположенных то тут, то там; напротив них стоял высокий, широкий топчан. На нем установили стол и трибуну. Первым выступил длинный, худой мужчина с тонкими черными усиками в форме сталинских времен:
– Товарищи! Власть надо взять в свои руки! – сказал он. Потом, проведя рукой по растопырившимся тонким усикам, добавил: – Сегодня же надо захватить власть!
Слушатели, придя в восторг от его слов, зааплодировали.
Не успел оратор сесть, как его место занял художник. Он говорил о своих исследованиях, подкрепляя слова, высоко поднимал главный аргумент – свиной помет. Его удостоили жидкими аплодисментами. Не успел он закончить, как на топчан взобралась молодая женщина в военной форме, она закричала:
– Товарищи! У нас нет времени на обсуждение свиного помета. Мы сегодня же должны захватить здесь власть и идти дальше… в Дагестан, Казахстан, Китай…
– Китай нам не завоевать… Китайцев больше миллиарда…
– Ну и что, что их так много?! Один наш Ханпаша тысячу фашистов уничтожил… Если каждый из нас выведет из строя по 200 тысяч…
– А где мы их хоронить будем? Хи-хи, – засмеялся сидящий на бревне иссиня-бледный, как стена, мужчина.
– Об этом не беспокойтесь… Для этих целей мы восстановим цементный завод в Чири-Юрте…
Шоипу подумалось, не на свадьбу ли чертей он попал. От стариков доводилось слышать, как однажды ночью некто шел куда-то и очутился на свадьбе, его приняли как дорогого гостя, усадили на самое почетное место; когда же он неожиданно выстрелил, то оказался сидящим на свежем коровьем помете, а кругом – до того темно, что не увидишь, как тебе пальцем в глаз ткнут.
У Шоипа не было оружия, чтобы выстрелить… Он очень расстроился. Но вдруг вспомнил, что против чертей нет лучшего оружия, чем имя Бога. Тогда мысленно он произнес имя Господа и прочитал «Кулх».11 Ничего однако не изменилось: навес на железных столбах по-прежнему стоял, под ним были механизмы, доски, древесина, на них сидели люди…
Не зная как, он поднялся на топчан.
– Товарищи! То, о чем мы здесь говорим, принесет только зло! Давайте не будем обсуждать ненужное, попробуем сделать то, что реально в наших силах… У нашего народа есть пословица: протягивай ногу по длине ковра…
На этом его речь, вскочив со своего места, прервала выступавшая только что женщина:
– Не слушайте его! Это шестерка партократов! Как-то (тогда я работала в хлеве в горах) он приехал, заставил спеть для себя песню «Скажи, что кругом гора…» Зародив в моей душе огонь… пропал на пять лет.
– Вот вы и встретились… хи – хи – хи… – опять засмеялся сидящий на бревне.
– А кому он сейчас нужен? – пренебрежительно скривила рот женщина. – Сейчас у меня есть не чета ему. Воины! Ногой оземь ударят – родник забьет…
– А что с вашим хлевом? – спросил Шоип, ощутив вдруг прелесть времени, проведенного там.
– Места, где стоял, не осталось. До последнего камня разобрали люди. То же стало и со скотом… Около десяти коров отправили в котлы на городской площади…
– Ладно… – Шоип сошел с топчана, вышел из-под навеса и двинулся по направлению к центру города, слыша раздававшиеся следом презрительные выкрики и свист.
Когда он подходил к главной площади, толпа народа хлынула в одну сторону. «Что стряслось на этот раз?» – с этой мыслью он побежал за ними.
Как корова на краю села, на тротуаре возлежала смуглая женщина. Она кричала:
– С моим сердцем все в порядке! Мне не нужен врач! Я не встану с этого места и не притронусь к пище, пока депутаты не сдадут свои мандаты.
– Тогда и я поступлю так же, – сказав это, мужчина в годах с седыми усами, носивший в летний зной мохнатую шапку, сел рядом, вытянув обе ноги. Кажется, в горах, он пас скот, очень утомился и при первом удобном случае прилег на народной площади, к тому же объявившая голодовку была довольно привлекательна, она бойко, как ласточка, говорила по-русски.
– Будет неплохо! – сказал распорядитель митинга Бааш.12 – Эти двое объявили непрерывную голодовку до тех пор, пока депутаты не сдадут свои мандаты… Принесите камеры. Это надо показать всему миру. Принесите палатку, чтобы разбить над ними.
Этой ночью Шоип долго не мог заснуть. Под утро, когда все же заснул, ему приснился сон.
Он в горах. С ним также Дака. Они поднимаются довольно высоко. Заходящее солнце падает на высокие горы в том месте, где Шунд-эрк вливается в Аргун. Эта река не так мутна, как Аргун, вода ее светла, но не как молоко, а прозрачна, видны камни на ее дне и плавающие рыбы с красными пятнами. Вдруг Дака, резким движением забросив руку в воду, ловит рыбу, потом еще, еще… Они жарят ее на углях до красной корочки. Затем едят. В сумерках слышатся веселые девичьи голоса. Появляются Кабиха и несколько девушек. На Кабихе белая одежда. При каждом ее шаге черные волосы волнами бьются о спину. Увидев Шоипа и Даку, она улыбается.
– Почему вы пришли на наше место?
– Здесь много места… Устраивайтесь в том доме, – говорит Дака, указывая пальцем на каменный дом с плоской крышей, покрытой черепицей, – а мы останемся здесь, под деревом, рядом с огнем…
Потом все, в том числе и он, засыпают… Внезапно открыв глаза, он видит Кабиху, идущую по Шунд-эрку против течения. И эту воду, и девушку освещает необычайно золотистое сияние луны, показавшейся из-за горы. Так, идя по воде, Кабиха доходит до места, где река падает вниз с высокого берега. Перед этим водопадом большой омут. Весь лунный свет собран в нем. Кабиха ступает в этот омут, а когда достигает середины, вода скрывает ее… Легкой рябью подернулась поверхность омута. Где же она? Ее нет. Шоип смотрит по сторонам. На одном берегу он видит красивую башню, она построена из отточенного камня, белого, как эта вода, углы ее тщательно выровнены. Она прекрасна так же, как и Кабиха. Или девушка превратилась в башню?
Когда Шоип проснулся, солнце уже поднялось довольно высоко. В последнее время он предчувствовал большую беду, но увиденный сон навеял светлые мысли. Ты смотри, вот уже пять лет, как он не был там, в горах… Не вышла ли Кабиха замуж?.. Как там, в горах?
Шоип отправился в путь. В горы почти не поднимались машины, зато спускалось много. Люди на автобусах, легковых и грузовых машинах ехали в город. На склонах гор виднелась неубранная скошенная трава, начатые покосы, брошенные косы, вдоль дороги бродил скот и бараны…
В Итум-Кали улицы были пустынны, нельзя было встретить даже редкого прохожего. Под палящим солнцем лежало село, скрытое белой пылью. Ему показалось, что оно как-то странно, не в лучшую сторону изменилось. А как оно было красиво раньше! Что же с ним стало?
Шоип заметил ишака, лениво бредущего вверх по улице, отгоняя иногда взмахами хвоста и ушей мух. Ишак казался светло-серым: серым он был сам по себе, пыль на спине придавала ему еще и белый цвет.
Ускорив шаг, Шоип обогнал животное. Оно не удостоило Шоипа взглядом. Но, пройдя не так далеко, вздрогнул – ишак вдруг закричал.
«Чтоб ты кричал за помин своей души!» – бросил Шоип проклятье в адрес ишака.
На окраине села, рядом с одним домом, он увидел много машин. Когда подошел ближе, на улицу вышли нарядные парни и девушки. Среди последних особенно выделялась одна – в белой одежде. Он узнал ее – Кабиха. Она была прекрасна, как во вчерашнем сне. Ее посадили в белый «Мерседес», который выделялся среди других машин, как породистый скакун среди коней.
Машины, издавая звуки, подобные крику встреченного им ишака, обдавая его пылью, тронулись в путь. Все женщины, провожавшие Кабиху, кроме одной, зашли в дом. Подойдя, он узнал ее – это была тамада с той вечеринки.
– Добрый день!
– Будь любим Богом!
– Ты не узнала меня? Дорк деъча, шайн меркан деркий дIадоьркий аш? – Доьркаршца… Он получил от меня по заслугам… Тебя-то я сразу узнала… Куда ты пропал?
– Меня не было дома.
– Разве ты не был на этой Земле? Может, на пять лет летал в космос? – смеялась девушка.
– На Земле-то я был…
– Устав тебя ждать, Кабиха сегодня вышла замуж.
– За кого?
– Какая тебе разница? Он из этого села. Воздушник13… Столько денег привез…
– Привез… что?.. А-а, деньги…
– Да, он очень старался, чтобы привлечь ее внимание, одаривал девушку и всех ее близких подарками.
Попрощавшись, Шоип последовал дальше. В голове не было никаких мыслей, лишь какая-то пустота, горькая пустота…
Ноги сами привели его к дверям дома Даки. Его встретил младший брат Даки, Шоип не узнал его: когда приезжал сюда несколько лет назад, он был маленьким, сейчас же значительно вырос.
– Даки нет дома, с приятелями отдыхает на берегу реки. Я могу сходить за ним, – сказал парень.
– Не стоит, я знаю, где это место, – Шоип направился на берег реки, где росла большая груша и где когда-то он провел незабываемые минуты с друзьями.
Увидев Шоипа, Дака удивился:
– Как странно, что ты объявился.
Но больше друга был удивлен Шоип: Дака был в военной форме, его приятели тоже.
Как только Дака заговорил, Шоипу стало ясно, что он сильно изменился. С высокого холма – холма, созданного собственными мыслями, смотрел Дака на того, кто когда-то был для него чуть ли не святым, с одной стороны, сочувствуя ему, с другой – с насмешкой. Кажется, Дака уже не пишет стихов, решив, что это совершенно бесполезное занятие.
По голосу Даки его чувства поняли и другие. Слегка подвыпивший один из них сказал:
– Слушай, друг, напиши обо мне какую-нибудь поэму…
Шутка понравилась остальным, они засмеялись.
– Если ты совершишь доблестный поступок, напишу и без твоих советов…
– Хорошо, – ответил тот, – доблесть тоже скоро покажу. Наливайте, парни, нашему поэту!
Шоип развернулся. Дака прошел следом несколько шагов, сказал, что вечером они тоже едут в город, попросил не уезжать. Шоип не остался.
Потом… Потом, как в болезненном сне, все смешалось.
Захватим власть! Оплюем депутатов! Проклятья начальству! Золотые краники! Верблюжье молоко! Стреляйте! Убивайте того, кто против! «Хотят, чтобы братоубийство я принял за газават!» Ешьте мушмулу, собирайте груши. Этот мир Джохар держит на своих плечах! Хапайте или терпите. Поэтесса умерла. Ешьте черемшу. Что для нас самолеты? Хушт-пушт! Мы их посохами собьем – зенитки не нужны. Мы все генералы. Режиссера убили! Город полон трупов. Шалинский базар разбомбили. В Алдах целая семья погибла… Преследовавшие детей вертолетчики расстреляли их пулеметной очередью. В Котар-Юрте убили двенадцать человек только из одной семьи. «Я-то свои усы сбрею, а вот что ты будешь делать со своими ушами?» Джохар не убит – он скрылся. Комитет народного спасения. Разрушенные дома затянули белым саваном… От них веяло смертью… Сорок восемь часов. Мир. Войска вышли. Мы на весь мир прославили чеченцев. Да будут благословенны герои! «Возьмите любую работу, какую пожелаете, оставьте только меня правителем!» Чу! Не оставим! Армия генералиссимуса! Он спустится на белоснежном скакуне с небес! Коллаборационисты! Избейте их палками! Стреляйте! Иерусалим будет наш! Ты продался русским. А ты – евреям. В раю говорят на нашем языке. Воруют нефть, людей!.. Бригадные генералы… Надо и дальше распространить свободу… Надо захватить Дагестан… потом Казахстан… потом Китай… Двухликие, трехликие… маски.
Снова война. Народ в панике. Бомбят беженцев… Ракетами обстреляли зеленый базар… Убит художник. По чужим землям скитаются несчастные люди. Палатки. Вагоны. Свиные хлевы. Устроившиеся в них люди. Всемирная гуманитарная помощь. Очереди. Богатеющие на хищении гуманитарки. Мы добрались до Парижа… Норвегии… Германии… Говорят, и в Австралии есть. «Хвала Жаку Шираку за то, что принял нас!»
Руины города… Одичавшие собаки… Готовьте документы! Будет польза! «Чечня не погибла!» Снова готовьте бумаги. Эти неверно оформлены. Готовьте взятки. Люди пропадают без вести… Взрывы… Зло… Пренебрежение друг другом. Ненасытность. Жестокость…
Прошло тринадцать лет, а этот затянувшийся страшный сон не закончился. И все же, не желая навсегда расстаться с родной землей, снова стремишься в эту страну бед и жестокости. Часто вспоминаются или видятся в снах прежние времена, поездки в горы. Его друзья разъехались кто куда. Говорят, Юнус – в Киргизии, Дака – в Турции, Дамад жив-здоров, как двадцать лет назад, – видимо, врачи ошиблись, поставив ему смертельный диагноз. Олхазар, как и он, Шоип, здесь, сидит дома, поклоняясь Богу, разочаровавшись в целом свете…
Сейчас, даже если поедешь в горы, не найдешь укромного места, чтобы отдохнуть. Или подорвешься на мине, или тебя пристрелят, или пропадешь бесследно…
Прежняя печаль теперь кажется щемяще-сладкой. Думается, что это была и не печаль вовсе… Как же, оказывается, хорошо жили, надо было и дальше так жить: писать о том, что навоз разбросан, табак посажен, собран, подвешен, спрессован; ездить в колхозы, чтобы слушать, как доярки поют песни, потом – в горы, чтобы на вечеринке танцевать с девушкой, способной создавать волны, вобравшие в себя всю красоту, радость и гармонию мира, кружиться в этих волнах, переваливаясь из стороны в сторону, широко размахивая руками, до самого рассвета, а на следующий день сидеть под дикой грушей в том месте, где Вярд-эрк сливается с Аргуном… Потом… Сколько всего еще!..
Как-то, говорят, одна старуха сторожила ночь предопределения.14 Водила палкой по воде. Когда вода загустела, она поняла, что время настало. Женщине казалось, что голова ее сына слишком мала, и она попросила сделать ее большой. Голова сына стала больше кукурузной сапетки. Испугавшись, мать попросила уменьшить ее. Голова стала с кулак. Тогда, пожалев о сделанном, она обратилась к Богу: «О Всевышний, пусть голова моего сына будет такой, как раньше».
Когда же для всех нас наступит ночь предопределения? И наступит ли? Или разлившаяся вода Сунжи унесет в безграничное море руины этого города, наши беды и нас самих?..
2006.
[1] Илли – эпическая песня.
2 В некоторых горных диалектах чеч. яз. встречается замена буквосочетаний «хк» на «рк» в отдельных словах. Фраза означает: Мышей своей земли в туман вы привязываете поясами?
3 Хьакха – свинья.
4Нал – дикий кабан.
5 Даймохк – родина, земля отцов.
6 Бехк – вина.
7 ДаьIахк – кость.
8 Ахк – горная река.
9 Зима, как ты холодна,
Как ты уныла.
Встала на порог,
Намела снежок.
10 Чеченцы обычно не произносят названий раковых заболеваний.
11«Кулх» – «Къулх» – название молитвы (сура «Ихлас»).
12 Бааш – баьIаш (мн. ч.) – репейники.
13 Воздушник – в начале 90-х гг. человек, осуществивший финансовую аферу с фальшивыми авизо.
14 Лайкъадаран буьйса – этой ночью в священный для мусульман месяц Рамадан наступает момент, когда вода густеет, сворачивается. По поверью, любое загаданное в это время желание исполняется.
Перевод Л. Довлеткиреевой.
И надпись о любви исчезла…
Памяти Ч. С.
Когда ты молод, жизнь видится необычайно светлой. Записав эту мысль, я остановился. До чего же знакомые слова, столько людей до меня их произнесло! Не знаю, как у них, а вот перед моими глазами предстали самые разные картины, зазвучали многие голоса, потянуло приятными запахами, в душе защемила сладость тех лет. Тогда, даже если ничего особенного не происходило, хватало того, что ты сам, все вокруг и весь мир были окрашены в сочно-зеленый цвет, полны солнечного света и над всей этой бескрайностью простирался ярко-голубой небосвод.
Умом ты понимал, что все исчезнет так же, как опадает белый цвет с дерев по весне. Поэтому надо успеть почувствовать вкус этой жизни, чтобы потом не терзать себя сожалениями о напрасно потраченном времени.
Однако, как ни старался, попытки сохранить в душе ощущение молодости оказались тщетными, как будто ты набирал воду в сито.
Проблемы, накапливаясь день ото дня, притупляют сознание, ослабляют внутреннюю зоркость, и постепенно видение мира становится мрачным, наконец, вся жизнь затягивается паутиной обязанностей.
Кто-то смиренно остается в ней; иные в стремлении разорвать ее спутавшиеся нити забывают картинки юности, которые, тускнея, в конце концов пропадают вовсе, словно их и не было.
Но не все поддаются этой паутине, не все расстаются с мироощущением, свойственным молодости, не все забывают о своих надеждах и ожиданиях. Они до конца борются с судьбой, хотя этот спор с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее.
С одним из таких несмиренных я познакомился три года назад.
Небеса разламывались и падали, земля, сотрясаясь, проваливалась в бездну, и, пытаясь найти приют для душ, за которые ответственен перед Всевышним (не в состоянии думать ни о чем другом, все свои силы в молодости тратишь на этот удивительно светлый мир, где же их взять, чтобы отложить на черный день?), кружась и не находя себе места, содрогаясь от жестоких ухмылок одних и искренней жалости других, ты, наконец, добрался до черкесской земли, где он и подошел к тебе.
– Приятель, как ты здесь оказался?
– Разве мы знакомы?
– Хоть мы и не знакомы лично, я знаю, кто ты. Как поживаешь?
Очередной болтун, думает, если его дела в порядке, у всех так (как в той пословице говорится: «Сытому – весь свет сыт, голодному – весь голоден»?), да, точно, из таких, видел, наверное, меня по телевизору или слышал по радио, может, был на моем спектакле, не верится, что он прочитал что-то из моих книг, мало кто сейчас читает на чеченском языке… Кто бы он ни был, мне некогда тратить время на пустые беседы… Надо найти жилье по карману и разместить семью, за эти два с половиной года, что мы бродим, покинув родной дом, это будет уже пятнадцатый адрес… Четырнадцать из них сменил на земле наших братьев, сюда приехал в надежде на лучшее – может, получится на одном месте прожить хотя бы год и никто не будет терзать, выгоняя посреди окрепших морозов из дому.
– Хорошо живу… Слава Аллаху, – стремление быстро избавиться от него переливается в моей душе через край.
Но он крепко держит мою руку, останавливая взглядом:
– Приятель, так не пойдет. В твоих глазах печаль. Я не прощу, если не поделишься со мной…
– Что ты, Сулейман (кажется, так ты себя назвал?), каким еще может быть взгляд беженца, лишившегося дома, родной земли, блуждающего по чужбине…
– Это общее горе… Оставь его и расскажи, что конкретно гложет тебя сейчас… Наверное, думаешь, чеченские парни, ослабнув под грузом проблем, исчезли… Это не так!.. Расскажи, какая твоя главная забота, я ее прогоню, как ветер разгоняет тучи на небесах… – похоже, он читал чеченские илли1.
Я делюсь с ним своей проблемой.
– Для тебя у меня найдется жилье. Купил две квартиры на одном этаже – вдруг понадобятся… В одной сам живу с новой семьей, созданной три года назад… Есть у меня и взрослые дети, кто-то из них дома, в селе… Другие устроились в разных городах…. В общем, вторая квартира пустует, вселяйся… Она твоя. И не на время, а навсегда… Я тебе ее продаю. Назови цену, говоришь… Вот моя цена… Мало, думаешь? Тем не менее это моя цена. Когда будут деньги, отдашь. Мне сопутствует удача в бизнесе… Не так уж это и важно: сегодня достаток есть, завтра – нет… Как вода, утекает порой… А важно то, что делаешь ты и такие, как ты… У написанного тобой благородного чеченского слова есть будущее, это слово нужно и нам, и последующим поколениям…
Уже около года, как мы расстались навсегда, но не проходит и дня, чтобы я не вспоминал его, особенно по дороге из Грозного в Нальчик. Часто на его машине проделывали мы этот путь туда и обратно.
И сейчас на этой дороге или, увидев дом, где мы жили; неспешно считая ногами ступеньки лестницы, поднимаясь на третий этаж; видя дверь их квартиры; заслышав за этой дверью голос дважды вдовы; заметив грустные глаза его сына (отец дал ему большое имя – Сайд-Хусейн, и двух лет мальчику не было, когда стал сиротой), и, наконец, зайдя к себе, принимая от бегущих навстречу и обнимающих меня детей приветствие: «Дада2, ты вернулся!» – к горлу подступает горько-сладкий ком, затем от переизбытка этот горький мед сгущается, застывает в воск, дыхание перехватывает и из глаз текут слезы. Стыдясь детей, быстро захожу в комнату, чтобы они не заметили моих слез. Нельзя, чтобы дети их видели, для них отец – гора, твердая, как камень, которая в силах защитить от любой непогоды: всех ветров и дождей. Не дай Всевышний пробить брешь в этой их уверенности днями сомнений!
Как сказал сам Сулейман, ему потворствовала удача в делах коммерции. Любые его начинания оборачивались в его пользу, а потому к нему тянулись разные люди, которые тоже хотели начать свой бизнес. Он их не отталкивал, помогал, чем мог, но мало кто из них становился ему товарищем. Некоторые, считая его помощь недостаточной, уходили сами, другие проявляли себя с неожиданно неприглядной стороны – пытались на мелочи или, если удастся, по-крупному обмануть – с такими он расставался сам. Тот, кто считает, что вся жизнь сложится счастливо, только поймай удачу за хвост, – глубоко заблуждается. Эта мысль зародилась в нем десять лет назад, когда он стал получать высокую прибыль. Правда, деньги доставались ему нелегко, приходилось трудиться день и ночь. И он трудился, не ленясь. Сегодня – в Грозном, завтра – в Москве, послезавтра – в Самаре, потом – опять дома, затем – снова в пути…
Когда чувствовал усталость, сердце не позволяло остановиться и отдохнуть надолго, его звали новые горизонты. Однако полноценной радости жизни деньги не приносили. Ни на минуту не забывая о том, что когда-нибудь придется предстать перед Всевышним, Сулейман старался исполнять своевременно свой долг перед ним, ему и в голову не приходило искать какие-то нечестные пути, он сторонился людей, которые стремились к этому.
Но душа была не на месте, когда вспоминал, каким было самоощущение в юности; мысль, что это не повторится никогда, что напрасны были ожидания, мечты, а время его тает, и он может так и уйти, не достигнув этой вершины, селила страх в его сердце… И все было против этих надежд, железным занавесом свалились на него каждодневно растущие заботы; две войны – последняя вдвое более жестокая – принесли с собой новые печали, слезы, кровь, несправедливость; они гасили огонь, горящий в душе, и, не желая с ним расстаться навсегда, он своими мыслями заключил его в тройное кольцо, защищая от жизненных бурь… Но оберегать огонь только своими мыслями долго он не мог – ему уже пятьдесят; правда, чем сложнее были жизненные обстоятельства, тем сильнее было желание осуществить свои надежды. Но для этого нужен был другой человек… Сейчас, сегодня. И Сулейман – слава Всевышнему! – нашел этого человека в разрушенном войной, разоренном, покрытом копотью так, что не разобрать, день на дворе или ночь, – Грозном.
Имя ее Лейла. Одно звучание этого имени какое-то светлое, приятное сердцу. И сама она излучала на окружающих этот живительный свет.
Он спросил, что она делает в этом искалеченном, черном от дыма пожарищ городе; если ищет прошлое – напрасный труд, только сожаления, боль здесь можно найти, следы жестокости; при виде Грозного воспоминания о прошлом не возникают, не то, что не возникают, но и сохранившиеся в памяти разрушаются, оставляя в душе только зияющую пустоту; прошедшее надо вспоминать в другом месте, где нет войны, где растут деревья, благоухают цветы, – там легко встанут перед тобой счастливые картины тех лет.
Она слабо улыбнулась. Раньше была такой, обманывалась воспоминаниями, сейчас я не ищу ушедшее. Самообман прошел в первую войну, когда погиб муж. Это случилось в самом начале войны, он попал под бомбежку (из сгоревших около парка тринадцати машин одна, светло-голубая «Лада», была его… после-то они все стали одного цвета)… да, мощной взрывной волной его выбросило из машины, поэтому тело не сгорело; увезла своих четверых детей-подростков далеко отсюда и старалась вырастить их вне ужасов этой земли, чтобы они не видели их… А в город приехала, чтобы проверить сохранность дома – когда-нибудь, когда прекратится эта напасть, он может понадобиться детям. Но на месте дома – глубокая воронка. Видимо, очень тяжелая бомба попала в него… Бомбы никак не прекратят преследовать ее семью. Завтра-послезавтра, проведав родственников, она уедет к семье, правда, там нет работы, оставив детей в безопасности – они взрослые, младшему – 10 лет, самостоятельные уже… – да, оставив их там, устроиться бы здесь на работу, если бы знать, что на этом все закончится…
Сулейман слушал ее тихо льющийся голос, похожий на дождь из его детства – до того, как увидеть, сначала слышался стук по крыше маленького дома; мальчуган, десяти-одиннадцати лет, он побежал под этим дождем на край села, и, когда после засияло солнышко, лежал, повесив мокрую одежду, на берегу горного ручья до тех пор, пока его мутные потоки не светлели; так сидел, пока последние лучи заходящего солнца не падали сначала на ручей, потом на окраину села и, наконец, на вершину горы; затем пошел домой, вслушиваясь в гомон завершающих свои дела сельчан, под черно-синим покрывалом неба, усеянным сверкающими звездами… Таким же бывает весной зеленый луг, усыпанный яркими цветами.
Как этот солнечный дождь, лились на него слова Лейлы, он не задумывался над их смыслом, лишь их мелодия слышалась ему, они вызывали в сердце ощущения, испытанные когда-то, рождали в сознании разнообразные картины.
Сулейман не хотел, чтобы эта музыка слов исчезла, она заставила его забыть о нависшей над ним паутине проблем, обязанностей, печалей, как будто ее и нет вовсе, его мысль витала высоко, поднявшись над тучами.
Лейла была посреди этой несправедливости, обезумевших, уничтожающих друг друга людей чистым цветком, который взрос, чтобы показать, что есть другая жизнь; в ней есть силы, чтобы излечить эту истерзанную, испепеленную природу, изрыгающую черный яд, потому что она – прозрачная, чистая вода родника, пробившегося из самой сердцевины земли навстречу солнцу.
И разве была вина Сулеймана в том, что он хотел как можно дольше задержаться под этим дождем, в водах этого родника?..
Это же то, что он искал столько лет! Всевышний помог ему, но, если он, как бывало не раз, смалодушничает или будет в нерешительности стоять в стороне, удача тут же улетучится, и неизвестно, представит ли судьба еще один шанс.
Сулейман опять вступил в разговор, все надежды, чаяния, мечты, скопившиеся в нем за последние тридцать лет, светлые мысли, томления души ниспадали сейчас водопадом.
Лейла удивленно смотрела на него, где-то далеко, в глубине ее потускневших пять лет назад глаз, зажглись маленькие огоньки.
Когда Сулейман замолк, чтобы собраться с мыслями, Лейла сказала: странный ты человек, вряд ли ты житель планеты Земля, никогда не встречала людей, ведущих такие разговоры, особенно в таком возрасте.
Время… эх, время! А вот желания человеческие с ним не считаются. И время медленно, бесшумно уходит, и дом твоей души ветшает, изнашивается… но сама душа остается прежней… Сердце тоже… Неужели я так опоздал?
Лейла почувствовала, что сказанное ею задело его. Я-то свой возраст имела в виду, подобные слова и мысли давно жили во мне, а душа познала счастье с другим, и все это было уничтожено пять лет назад; так много красивых девушек вокруг, с какой бы из них ты ни поделился своими переживаниями, ее сердце, даже если оно каменное, не может не растаять…
В тот день Лейла попрощалась с ним, сказав, что опаздывает по своим делам. Но спустя два дня они снова встретились.
Сулейману казалось, что они не расставались, потому что мысли о Лейле ни на секунду не прервались ни на яву, ни во сне – эти мысли, став ночными видениями, не покидали его.
Было ощущение, что время повернулось вспять, на тридцать лет назад; как тогда, был светел его взгляд на жизнь, несмотря на послевоенную разруху вокруг и обездоленных людей. Он знал, что это восприятие мира исчезнет, оно не имеет будущего, поэтому нужно успеть получить блага для своей души, которыми наделил его Всевышний, ведь они тоже быстротечны. Встречаясь, он снова и снова рассказывал о своих надеждах, раздумьях, мечтах и, хотя говорил всегда об одном и том же, каждый раз Сулейман находил все новые и новые краски – как отличен рассвет сегодняшний от вчерашнего, так и его разговоры не были похожи один на другой.
Лейла всегда слушала, улыбаясь, воспринимая его слова как песню, удивительным образом прорвавшуюся к ней из ушедшей навсегда-навсегда мирной жизни.
То, о чем он говорил, – их соединение – она считала невозможным, но все же было приятно слушать эту мелодию, льющуюся из небесных глубин.
Однако он, этот гость из других миров, и не думал оставлять все, как есть. Когда она просила – подождем, вот закончится война, разрешатся все проблемы, вызванные ею, тогда и посмотрим, Сулейман отвечал: живи долго, родная, но мы не знаем, сколько нам отпущено Всевышним, поэтому нельзя хорошие дела отодвигать до завтра; у меня взрослые дети, у тебя – взрослые дети – мы не знаем, как они отнесутся к этому; если они настоящие люди, станут друг другу братьями и сестрами; у тебя есть жена, я не хочу разбивать ее сердце, зная вкус разбитого сердца; почему ее сердце должно разбиться, если я буду счастлив, не она первая, многих женщин постигла ее участь; неужели обязательно жениться на вдове с детьми, когда вокруг так много красивых девушек; я не ищу развлечений с молоденькими красавицами, мне нужно иное; люди нас осудят; что людская молва, если Бог дозволяет?..
Не было довода, чтобы противопоставить его Сулейману, он легко крушил самый, казалось бы, неопровержимый аргумент.
Потом Лейла назвала самую вескую, как она считала, причину: любовь спустя год или два гаснет, так страстно любившие друг друга, пресытившись, становятся врагами и расстаются; к чему увеличивать зло и вражду на истерзанной и без того земле, лучше остаться хорошими знакомыми, которые, встретившись, спрашивают друг друга о здоровье, делах…
Нет, ни в коем случае, во-первых, не всякая любовь исчезает, сгорев дотла, я видел людей, которые до самой смерти были нужны друг другу; во-вторых, то, что я обрел сейчас, – итог моих тридцатилетних исканий и ожиданий; не думаю, что осталось время, забросив найденное, искать что-то другое; огонь, загоревшийся в моем сердце, никогда не погаснет, сколько бы мне ни было отведено, – я себя хорошо знаю.
Тогда Лейла не обратила внимания на эти слова; спустя пять лет, которые прожили вместе (точнее, кипели энергией жизни или горели, как яркий огонь), в начале шестого, когда внезапная тяжелая болезнь уничтожила его, она часто вспоминала их – видимо, душа что-то подсказывала ему.
А сейчас они шли по бывшему скверу Дружбы народов мимо памятника трем героям Гражданской войны (некоторые говорят «трем дуракам»), от которого осталось лишь мощное тело, рядом с ним примостился российский блокпост, окружив большую часть площади колючей проволокой. Сзади, на постаменте, огромными буквами чумазый солдат что-то писал белой краской. Думая, что же за дорогие письмена он выводит, стояли эти двое в ожидании, когда он закончит…
«Люба, я тебя люблю! Вова», – было написано им.
– Боже мой, несчастный, оттого что здесь сделал эту надпись, как об этом узнает Люба в затерянном в снегу российском хуторе? – сказала Лейла.
Сулейман поддержал солдата:
– Хоть она и не видит, своему-то сердцу он сделал подарок.
– Видимо, он очень любит эту девушку, – заметила Лейла.
– Не думаю, что его любовь больше, чем моя, – улыбнулся Сулейман.
– Кто знает, кто из вас больше ненормален?..
– Скоро ты это узнаешь, – что-то пришло ему на ум, Сулейман опять улыбнулся.
Что он имел в виду, Лейла узнала спустя два дня, проходя мимо памятника и бросив взгляд на надпись. Надпись изменилась: «Лейла, я тебя люблю. С.» Свое имя он не написал полностью. Лицо Лейлы запылало, словно весь мир узнал об их отношениях. Потом подумала, кто знает, что речь идет о ней, – Лейл много, кто подумает о ней, вдове с четырьмя детьми? Одновременно с этой мыслью к Лейле пришло осознание того, что больше нет сил, чтобы противиться Сулейману, и их союз предопределен свыше.
Когда они стали одной семьей, Лейла часто спрашивала:
– Сулейман, как тебе удалось сделать эту надпись, ведь на блокпосту столько вооруженных солдат, а вокруг – колючая проволока?..
– Как только я заглянул в глаза часовым, они упали мертвым сном, когда же пристально посмотрел на проволоку, она расплавилась… Так силен был огонь любви, горящий в моем взоре, – смеялся Сулейман.
Отшучиваясь таким образом, Сулейман оставил без ответа попытки Лейлы понять, как это произошло. Он был опытным следопытом в лесу людских взаимоотношений. Если рассказать все, как было, неизвестно, какие мысли зародятся в ее голове. Эту надпись солдат сам изменил да еще и спасибо сказал – за пятьсот рублей. Но если сказать правду, Лейла может усомниться во всем, что он делает ради нее. Например, возвращаясь домой из Москвы самолетом (поездом он никогда не ездил – не хватало терпения, и как можно тратить столько времени напрасно?), он привозил цветы. В большинстве случаев цветы держали в руках встречающие, он один спускался по трапу с огромным букетом разноцветных роз.
Лейла только раз приехала в аэропорт: тогда впервые Сулейман подарил ей букет роз. Лейле казалось, что весь мир смотрит на них, чувство радости затмило чувство стыда. Засмущавшись, она огляделась.
Нет-нет, никому не было до них никакого дела. Это же не Чечня, это было другое место, где люди несколько отличались от чеченцев: чужие отношения, жизнь их мало интересовали, каждый торопился по своим делам.
«Тот тоже был ко мне добр, как и Сулейман. Когда Бог дает мне что-то, он дает мне все, забирает – тоже все», – мелькнуло в голове. Лейла испугалась: неужели опять все потеряю? Глаза ее увлажнились. Через несколько лет она скажет себе: «Эта мысль была предупреждением высших сил, как бы подготовка к нашему расставанию».
– Что ты так растерялась? – смеялся Сулейман. – Что может быть лучшим подарком, чем цветы? Бог не запрещает делать друг другу приятное, напротив, любит это.
Хоть он и был прав, больше Лейла его не встречала, поэтому Сулейман привозил цветы из столицы России прямо домой.
Как-то я столкнулся с Сулейманом, стоящим с букетом цветов у своей двери.
– Приятель, как ты находишь мое ухаживание за хозяйкой очага – цветы привожу аж из самой Москвы? – широко улыбнулся он.
Открывшая в этот момент дверь Лейла стояла в растерянности.
– Сулейман, ты прекрасно ухаживаешь за своей женой, но, пожалуйста, не делай это достоянием «широкой общественности». А то и другим захочется, чтобы их так же уважили… – пошутил я.
– Надо уважить!
– Не у всех такие возможности, как у тебя…
– У любого есть возможность сделать приятное человеку, – не отступал Сулейман.
Да, сердце ему как будто что-то подсказывало – он спешил творить добро, познать радость жизни. Работал днем и ночью, но, как только выдавалось свободное время, отправлялся с женой в лес, в горы, к теплым источникам или к морю.
Как-то я повстречался с ними перед нашим домом, когда они в очередной раз возвращались с моря. Увидев их загорелую кожу, сразу можно было понять, где они были.
После взаимных приветствий Лейла зашла, а Сулейман задержался со мной.
– Почему бы и тебе не отправиться к морю… с семьей… море лечебно… Если дело в деньгах, я помогу… Чеченцы не умеют ни отдыхать, ни беречь свое здоровье. Неужели кусочек всех земных благ не должен достаться и нам? У нас обязательно – проблемы, войны, переживания, а море, радости жизни – другим… я с этим не согласен, – делился Сулейман.
Через год Сулейман и Лейла получили помощника, чтобы вместе познавать земные блага. Этому маленькому человечку с таким большим именем не было и года, как он отправился со своими родителями в путешествия. Видевшие его удивлялись сходству с отцом и недетскому, глубокому, осмысленному взгляду черных глаз.
В один из жарких летних дней, после заката солнца, все трое бежали к машине.
– Вы куда?
– Недалеко от города, на окраине одного балкарского села, есть поросшая лесом местность. Прорезая ее, там течет прозрачная речка… ночью она особенно красива, в ней играют тени деревьев и, мерцая, переливаются звездочки… А сегодня вода будет еще краше в сиянии полной луны… Хочу, чтобы босиком по этой светлой воде прошелся молодой джигит. Знаешь, какой она будет прозрачной и светлой, посреди ночи можно увидеть плавающих в ней рыб! Поехали с нами, зови детей… Не поедешь? Почему? Ну, живи… – он побежал дальше. Он всегда был таким – на бегу, на бегу… Я понимал его: он пытался выбраться из-под сети забот, печалей. С появлением новой семьи радостное восприятие жизни возросло, но одновременно разрослись и накрывшие его сети печалей, и самая тяжелая из них сплетена из паутины людской зависти и ненависти. И все же у меня не было сомнений, что он выйдет победителем благодаря своему добросердечию, щедрости и любви к жизни.
Эх, мир! Сколько неожиданностей преподносишь ты! Так случилось и с Сулейманом: его старшего сына забрали… Почему?! Когда солдаты накинулись на односельчанина, которого он подвозил на машине, парень не остался в стороне. Эх, чеченская честь! Разве кто-нибудь поставил бы ему в вину, если бы он не вмешался в заведомо проигранный спор? Тому не смог помочь и сам оказался в плену. Но в такие тяжелые моменты, опережая, не позволяют все обдумать и взвесить мужество и удаль, которые с кровью достались от далеких предков.
Я повстречал Сулеймана, занятого поисками бесследно исчезнувшего сына, спустя месяц. Он был словно камень, брошенный в воду, хоть и старался улыбаться, казаться неунывающим, стиснув все свое горе комком в душе.
И сейчас, когда его уже нет в живых, вспоминая, каким был Сулейман в то время, я представляю морскую волну, неистово бьющуюся о берег. Это была волна, которая билась о многочисленные сердца начальников, но их сердца оставались равнодушными льдинками. Просьбы, ссылки на законы, деньги, невиновность юноши… – ничто не смягчило эти холодные камни. Он ощущал себя соломинкой перед этой несправедливостью, которая была огромней, чем мир. И собственное бессилие, невозможность помочь ребенку, попавшему в беду, были для сердца его гнетом большим, чем этот мир. Терпя это, сглотнув горький ком, вечером нужно было возвращаться домой, без сна маяться ночью в беспокойстве за сына. Бесследное исчезновение человека – это же большое несчастье. Хоть бы тело отдали, чтобы похоронить. Мысль уже до этого дошла. И висевшие до сих пор над ним сети печали, зависти, свернувшись в один сгусток боли, сжавшись, проникли в его тело; потом, когда Сулейман, терпя тяжесть сказанных кем-то в его адрес слов: «Если бы это был сын, рожденный новой женой, нашел бы», – еле переносил долгую зимнюю ночь, в его утробе лопнул этот сгусток, зацепив когтями тяжелой неизлечимой болезни внутренности. И сети зависти, ненависти, переживаний раскинулись по его чреву. Раньше они все сжимали ему, теперь же собственное тело стало для него тесным. Терпеть это было очень тяжело.
Эх! Как это несправедливо! Ох! Как же это жестоко! Неужели люди не знают, что каждый ребенок отцу одинаково дорог?! Тем, у кого есть семьи, это ведь должно быть известно… Все равно говорят… Есть, оказывается, в мире люди, которым приятно заставлять других страдать!
Пять месяцев спорил он с болезнью. Несколько раз ездил на лечение в самый крупный кавказский город.
– Все во власти Бога, сделанное им – к лучшему… Как много чеченцев больны этой страшной болезнью. Это, оказывается, болезнь чеченцев, она, говорят, от переживаний. А знаешь сколько людей не могут себе позволить лечение из-за денег. А у меня они есть – это для меня как кость в горле, – глаза его увлажнились.
Идущего тяжелой дорогой навстречу своей смерти Всевышний щедро одарил милосердием и стойкостью настолько, что он мог думать о других.
Человек не знает, где обитала его душа до того, как он появился на свет… С леденящим криком приходит он в незнакомый мир, не в силах противостоять чему-либо, нуждаясь в заботе всех. Он и находит ее, обретает любовь. Потакая всем его желаниям, мать и отец растят дитя.
Точно так же никто не знает, что его ожидает за чертой смерти. Значит, жизнь – это середина двух неизвестностей. Сколько бы ни было человеку отпущено, как же все-таки коротка эта середина! Что же находится за границей небытия? Живущий не вправе знать это. Как мало знают живые о смерти! «Любая душа должна пережить смерть», – вспоминаю слова одного алима. Когда кто-то умирает (особенно молодой), мы страдаем, сердца и глаза плачут; как будто он ушел, оставив нас навсегда на этой земле, остается скорбь, мы жалеем его. Но если подумать, жалеть надо себя и плакать о себе. Он ушел не вместо тебя, а в свою очередь. Он перенес отпущенное ему испытание. А тебе это только предстоит и никто тебя от этого не избавит, пока сам не испытаешь.
Что же говорится в чеченской народной поэзии об этом? Листаю ее страницы. В назмах3 в основном описывается, как тяжела смерть или звучат жалобы («как быть, как быть, о смерть, с тобою?»). В илли упоминается, что молодец всегда встречает смерть достойно, не тушуется перед ней. А в чем же смысл смерти, чем она является по своей сути – об этом ничего не говорится. В переведенном на русский язык узаме4 я прочитал такие строки:
Холодна ты, смерть, даже смерть храбреца,
Но я был властелином твоим до конца…
Как ни пытался, не удалось найти оригинальный текст этой песни на чеченском языке. Если он все же есть, кажется, илланча5 пытался себя обмануть, желая хотя бы на время забыть о смерти (ведь на самом деле считать себя властелином смерти – большая глупость). Эта же жажда самообмана звучит и в строках одного чеченского поэта: «Не стоит смерти бояться: пока ты есть – ее нет; когда она приходит – нет тебя». Хотя он и говорит так, я вижу большой страх, маскирующийся под этими словами; вводя себя таким образом в осознанное заблуждение, он хочет хоть на время, на миг забыть о гложущем его страхе. Человеческий ум не в состоянии осмыслить смерть. Единственное, что мы можем, – искать утешения в вере, смириться.
За неделю до смерти Сулейман подозвал жену:
– Лейла, опять ты остаешься одна. Еще одного сироту добавил я тебе. Прости. Как бы там ни было, наш союз не напрасен. Я действительно был счастлив эти шесть лет.
Потом…
Потом, ударившись о гребень стальной волны, морская волна, собрав новые силы, разбежавшись, чтобы броситься вперед, внезапно ослабнув, разлилась без сил…
По прозрачной горной воде, в которой отражаются звезды, идет ребенок, делающий первые шаги в жизни; мужчина, которого он держит за руку, внезапно исчез, и мальчик остался один в темной ночи…
Надпись на сером камне в Грозном стерлась…
Рассыпавшись по небу, разлетелся разноцветный букет…
Это случилось в один из дней, когда от несусветной жары у людей плавились мозги, в середине июля.
2007.
1Илли – эпическая песня.
2Дада – так чеченские дети называют отца.
3Назма – песня духовного содержания.
4Узам – лиро-эпический жанр чеченской народной поэзии.
5Илланча – исполнитель народных песен.
Перевод Л. Довлеткиреевой.
Украденное время
На какое-то время я обосновался в Ингушетии и, благодаря воле Всевышнего, получил любимую работу – возглавил Центр чеченского языка, культуры и этики, обучавший учителей родной речи преподаванию этих дисциплин. К нашему очагу тянулись, чтобы согреться, люди, жестоко изгнанные из своих домов, чьи сердца остыли на чужбине; и когда они находили здесь столь долгожданное утешение, слыша живую, теплую чеченскую речь, роняли слезы, облегчая тем самым свою печаль, произносили слова благодарности мне и моим товарищам, – снова и снова меня посещала радостная мысль: «В это трудное время я сделал все от меня зависящее, чтобы помочь сохранить духовность своего народа, согреть сердца людей, не дать им потерять надежду». Как-то, пребывая именно в таком приподнятом состоянии от подобной мысли, мне остро захотелось побывать на родине.
Даже истерзанная оружием, почерневшая от бед, переполненная печалями, земля, взрастившая тебя, перешедшая к тебе от отцов твоих, целебна для души. Эта идея принесла успокоение.
Я поделился с друзьями, что хочу отдохнуть, они меня поняли. Кто-то предположил: «Наверное, поедешь в Нальчик или Кисловодск». Другой посоветовал: «Если умеешь кататься на лыжах, отправляйся в Приэльбрусье». Третий сказал: «Некогда тебе разъезжать на лыжах, отдохни два-три дня и возвращайся – нельзя останавливать нашу работу».
Я ответил, что завтра вечером уже вернусь, – все трое удивились. А когда я наконец признался, что собираюсь отдохнуть в Грозном, они рассмеялись. О чем ты говоришь? Собрался на отдых в Грозный, откуда бежал всяк, кто может, а кто не может – мечтает об этом?
Оставив их иронизировать, я отправился в дорогу.
Центр города утопал в жидкой грязи, там находились редакции трех журналов. Они расположились, кое-как отремонтировав первый этаж полуразрушенного трехэтажного дома. Помещению придали весьма приличный вид, но в дождь или снег потолок протекал, и, стараясь защититься, сотрудники натягивали на него синий брезент – помощь международных гуманитарных организаций. Но это был слабый заслон.
Шел второй месяц зимы, когда я приехал туда. С собой я привез небольшую пьесу для журнала «Орга», несколько стихотворений для «Стелаада» и был готов ответить на вопросы журнала «Вайнах» или любой газеты (их было чуть больше десяти), если кто-то изъявит желание меня проинтервьюировать.
От этих творческих планов я находился в благодушном настроении, улыбался, шутил, но коллеги в редакциях почему-то не разделяли со мной высокую патетику радостных чувств. У всех было одинаково понурое выражение, в котором читалась какая-то усталость и обреченность, никто не улыбался. Я пытался своим поведением, юмором, оживленным разговором изменить этот удручающий настрой, но ни один мускул на их лицах не шевельнулся.
Я даже слегка обиделся: что им довелось пережить, чего не испытал я? Что они видели, чему свидетелем не стал я? Горечь войны, потери, насилие перенесли все: кто-то – дома, другие – за пределами, в холодных палатках, в хлевах и свинарниках, в лагерях, устроенных на всемирные пожертвования… Мы ведь все равны, нас одинаково топчет одна беда. Прошло так много времени с момента расставания – можно ведь и порадоваться долгожданной встрече, тем более что унылый вид не изменит ситуацию к лучшему.
Лишь мой тезка пытался поддержать меня. Он повторял с улыбкой: «Все хороши, все хорошо».
Другой, улыбнувшись, сказал:
– Видимо, твои дела идут в гору – уж очень ты весел.
– Слава Аллаху, не жалуюсь. У всех нас они не так уж плохи: мы живы, находимся на своей земле. За ночью приходит день. Беды отойдут, и все будет как нельзя лучше!
– Было бы хорошо, если б так, – улыбнувшийся сосредоточился на бумаге, которую писал.
Правда, один раз в редакции все-таки раздался смех. Я примостился у стола, чтобы дописать заключительные строки своей пьесы. Два дня я обдумывал финал и не находил подходящих слов. Внезапно они пришли на ум, и я, не обращая внимания на шум вокруг, погрузился в работу.
Кто-то, тронув меня за плечо, спросил:
– Что ты делаешь?
– Я? Заканчиваю пьесу…
Одновременно все, кто там был, засмеялись, словно я сказал что-то очень забавное.
– Творить нужно, как ты… Тебе не мешают ни разговоры, ни война, ни бомбы… – сквозь продолжавшийся смех сказал один седой писатель.
Я не стал расстраивать их неожиданное веселье: те слова я искал около недели – что бы ни происходило рядом с тобой, твоя мысль в поиске, и ей безразлично, где и в какой обстановке, при каких условиях будет записано то, что она нашла, главное – ее качество (а я верю, что она очень оригинальна – дурных вещей я не пишу); конечно, война, разрушенный дом – все это довлеет надо мной, не позволяя без остатка раствориться в творчестве, хотя я и не жалуюсь никогда… – и о многом, многом другом я не рассказал им.
Я был обескуражен тем, что столь невинный повод рассмешил их… «Похоже, пережитое на войне несколько исказило их восприятие реальности, волки-то, видно, на грани душевной болезни, поэтому то хмуры, то смеются без причины, им следует заняться релаксацией, рисовать, петь, танцевать», – в последние годы я работал психологом, поэтому быстро нашел и объяснение их поведению, и средство профилактики от наступающего недуга. «Нет-нет, это не поможет. Им, как можно быстрее, нужно заняться религиозным песнопением», – возникла новая мысль.
Не успели мы пообщаться, как наступил вечер. Члены редакции засуетились: забросив начатые бумаги, все стали расходиться.
Я и тезка пошли на базар за продуктами. Его семья была еще в Адыгее. Их дом, как и мой, разрушен, но друг все же кое-как обустроился в нем. Он самозабвенно отдавал себя искусству, почти ежедневно писал рассказ или миниатюру (последние он называл «Знаками»). Его творческая энергия меня радовала, дарила надежду, что когда-нибудь и я заражусь ею.
Тезка купил курицу-гриль, салаты: морковный, свекольный, капустный и многое другое.
– Чем старше, тем больше овощей надо употреблять… Целебные травы… крапиву… – говорил он на бегу.
Мы быстро поужинали, совершили вечернюю молитву, выпили чай с лимоном. Затем тезка зажег еще две свечи, осветив комнату… Положил подушку в изголовье старого дивана.
– Ну-ка, друг, приляг сюда.
Он устроился напротив, положив на стол перед собой несколько школьных тетрадей. Да, двадцать лет назад он так же писал на тетради в клеточку из второсортной бумаги.
– «И кто постучится в дверь твою в ночи»1 … – начал читать он.
Словно боясь спугнуть тишину, он читал на одной ноте; правда, иногда язык цеплялся, сбивая размеренный ритм (это случалось от душевного волнения, когда зачитывал фрагменты, описывающие жестокость). Слушая рассказ, я наблюдал эту ночь: окно напротив ничем не занавешено, поэтому улица и двор отчетливо различимы, освещенные огнем, который прорывается из отверстия лопнувшей газовой трубы.
Через полчаса чтения пошел снег. Снежинки, выделяясь на фоне горящего факела, падали на землю в такт мелодии звучащего рассказа. Хотя на слух я и воспринимал содержание текста, в душе моей возникали картины молодости.
В начале каждой весны тезка устремлялся в небольшие города и деревни России в поисках хлеба насущного, возвращался лишь осенью, когда начинало холодать.
Сразу же находил меня. Однажды ярким осенним днем, пообедав, я прикорнул на диване с книжкой в руках в маленькой комнатушке во дворе. (Я любил прилечь после обеда, как, впрочем, и сейчас). Меня разбудил шум, раздавшийся в прихожей.
– Друг, если ты спишь средь бела дня, когда собираешься жить? – с грохотом вошел он.
– Что судьбой уготовано, получу и так… Пусть будет твой приход мирным.
– Не получишь, лежа на диване, – смеялся тезка. – В следующем году вместе поедем на заработки…
Пару раз он и на самом деле попытался взять меня с собой, но по разным обстоятельствам я избежал этой счастливой участи.
Спросив о делах и здоровье, не дожидаясь, пока допьет пиалу чая, он приступал к расспросам, желая быстрее узнать обо всем, что произошло в культурной жизни и литературе за время его отсутствия. Какая новая книга вышла? Кто что написал? Что в театре? Как живут писатели? Какие достижения у наших ровесников? Вопросов было много. Я отвечал воодушевленно, разрисовывая картину яркими красками.
Потом мы ехали в Грозный, заходили в редакции, Союз писателей, издательство, ходили в гости к известным писателям. Вечером шли к тезке – дом располагался напротив кинотеатра «Родина», за общежитием нефтяников, или отправлялись в Алхазурово.
Как и сегодня, тезка клал подушку на диван, готовя для меня место, садился передо мной и читал на одной ноте свои рассказы с ученической тетради в клетку, трепетно заботясь о сохранении мелодии, лившейся из самой глубины его души, иногда от нахлынувшего волнения все же сбиваясь с ритма…
И сейчас сидит он напротив меня, как и двадцать лет назад, читая рассказ, а за окном летят снежинки. Значит, ничто не изменилось. Хоть и носились последние десять лет в огне и дыме войны, все осталось без перемен. Тезка будет читать рассказы; мы будем часто встречаться, искренне радоваться успехам других чеченских писателей; будем спрашивать друг у друга: «Ты это читал?»; ездить в гости в Чанты или Мескеты, а вечерами, когда летнее солнце гаснет за верхушками деревьев в лесах, будем петь: «Дороги, дороги, синие дали»; получим Нобелевскую премию – сначала я, потом, через семь лет, Бексултанов – тезка сам установил эту последовательность, я тут ни при чем.
Радость от общения, рассказы, повести, иногда романы, родство душ, восторг от взлетов друг друга, вода из целебного источника в Хильдехарое, яблоки из сада поэта в Котар-Юрте, сенокос в Варандах, посиделки у костра в Эшал-Хатое, рыбалка на Тереке… И постоянные беседы о творчестве, чтение стихов… Все будет, как раньше, главное – мы живы, здоровы.
Выйдя утром на улицу, я увидел белый снег, скрывший все вокруг, обувь проваливалась в нем. На рассвете небо прояснилось, стало ярко-синим, без единого облачка.
Такими же светлыми были мои мысли, когда я возвращался на автобусе в Ингушетию. Хотелось быстрее вернуться домой, чтобы снова дышать воздухом наших былых взаимоотношений.
Тогда я еще не задумывался над тем, что было украдено у меня и всех моих современников. Нет-нет, речь не идет об уничтоженных жилищах, утерянном имуществе, канувших в лета рукописях, книгах, картинах, письмах… Самое драгоценное, что у нас похитили, – это время.
О Всевышний! Как же это немыслимо – украсть у человека время! Из отпущенного тебе небесами короткого отрезка жизни, без всякой твоей вины, совершенно для тебя неожиданно какие-то люди, забыв, что и им предстоит умереть и предстать перед Судом Божьим, ради достижения своей призрачной цели украли у тебя время, а ты бессилен что-либо изменить. Как же это жестоко! Бросая в кострище и твое время, и время таких, как ты, чтобы согреться самим, чтобы вечно наше время горело в их очагах, в их домах, принося только им пользу. Но у Огня свой путь, свой характер, как и у других чудес Бога: Воды, Ветра. Думали, смогут приручить огонь, но просчитались: большинство зачинщиков смуты он же и поглотил, оставшиеся, таясь, бродят по сырым, покрытым плесенью, пещерам. Но это не утешает: время, украденное у тебя и брошенное в огонь, не возвратить.
Эх, время! Ты вбираешь в себя все: летний рассвет, когда гаснут звезды и мрак сначала сгущается, а потом постепенно рассеивается; фруктовые сады, умытые утренним воздухом; голоса просыпающейся природы; солнце, скрывающееся за горами; мысль: «Вот и еще один день канул»; крики журавлей осенней порой и желто-багровый листопад; брошенный на тебя взгляд больших глаз стройной девушки, идущей навстречу по парку; рожденные засветло в сладостных муках песни, тут же записанные за столом, а после прочитанные друзьям; гости, близкие тебе по духу, в твоем родовом гнезде; светлые цели, которых стремишься достигнуть своим мучительно-радостным трудом; вечера, когда звуки дня постепенно тают; шелест листвы в сумерках; крупные хлопья снега, покрывающие черную землю. Время, как же жестоко с тобой обошлись те, кто не знают жалости.
Сердце защемило.
– Не печалься, сердце! – говорю я ему. – Верующему человеку не пристало унывать. А потому, как сказал поэт:
Прожитый день прими за счастье,
Наступающий вечер – за изобилие.
Утром поспей завершить начатое –
Так познаешь любовь и признание2.
Мысли об украденном времени зародились в моем сердце не так давно. Ну а тогда, семь лет назад, когда война, выйдя из Грозного, перешла к границам республики, и я приехал в город, об этом я вовсе не задумывался.
Сейчас уже все понимают, что их попросту обокрали. Казалось бы, общая беда должна объединить людей, укрепить их согласие. Этого почему-то не произошло. Некоторые, как сумасшедшие, носятся, стремясь за остаток дней переделать все, что не успели совершить за всю свою жизнь. Они не хотят смириться с украденным безвозвратно временем. Не могут поверить, осознать, что лучшее в их жизни произошло до того момента, как было похищено их время, и уже развеялось, словно сладостный сон, без остатка… (Потому и говорят: «Мир без будущего». Только молодость поражает тебя своей красотой – после ничего нет, кроме подведения итогов, сожалений). Другие пытаются осуществить то, что и Гарри Поттеру не под силу в его сказке: вернуть утраченное время и изменить свою и чужие судьбы. Один из них намекнул мне, что двадцать лет назад я занимал не свое место: например, руководить «Прометеем»3 должен был по заслугам не я, а он…
Как с ними быть? В психологии подобное поведение рассматривается как болезнь. Как было сказано ранее, эту науку я изучал. Название психоза – неадекватное восприятие действительности. Специально для них я написал несколько строк:
Бросив все игры, ребенком играл ты во взрослого…
Время умчалось, а ты его хочешь догнать:
В прятки резвишься и бьешь по мячу – не по возрасту,
Рукоплесканиям зрителя искренне рад.
Неужто неясно, что прошлого не поменять?
Может быть, ищешь способ забыть настоящее?..
Но времени нет в эти игры играть – время коротко,
Постарайся пройти, не разрушив симпатий ряд4.
– Да, если бы все следовали твоему совету… – присоединился к моим словам тезка, медленно отпивая глоток чая.
За чашечкой чая в тишине мы долго сидим в его кабинете. Многие работники Дома печати уже разошлись.
– Нет ничего, что бы сравнилось с верностью юношеской дружбы, – говорю я.
– Это правда, – соглашается он.
Я знаю, у людей, у которых похищено время, каждый миг на счету, им многое нужно успеть. Нам, уносимым бурным потоком времени, о многом надо поведать потомкам… Но вместе с тем понимаю: вот такие тихие мгновения, с другом юности за чашечкой чая, с общением без слов гаснущим вечером (за двадцать лет мы стали настолько близки духовно, что, кажется, читаем мысли друг друга) бесценны, необходимы…
Перевод Л. Довлеткиреевой.
Пьесы
Волки
Драма в 2 частях
Действующие лица:
Эниса
Товсолта
Арзу
Офицер НКВД
Берд
Сотрудник НКВД
Човка
Люди
Основное событие в пьесе происходит зимой 1945 года в горах Чечни.
Первая часть.
Площадь перед зданием отдела НКВД в одном горном районе.
В строю стоят рядовые солдаты НКВД, лицом к ним – офицер.
ОФИЦЕР. Товарищи! В это трудное время, когда весь советский народ делает все возможное и невозможное для победы над фашистской Германией, когда героические советские войска идут в мощное наступление на Берлин, чтобы разгромить логово фашизма, здесь, за нашей спиной, бесчинствуют отъявленные бандиты, остатки врагов народа – так называемых чеченцев.
От человека с чеченской кровью не будет верной опоры ни для партии, ни для великого вождя Сталина. Это – бесспорная правда, о которой и не нужно говорить. Поэтому для этих самых яростных врагов народа расплата должна быть жестокой и беспощадной.
Товарищи! Нам выпало счастье и на нас возложена великая историческая миссия – очистить эти кавказские горы от врагов народа. Для этого вы, храбрые львы революции, должны сделать все, чтобы выполнить свой священный долг!
СОЛДАТЫ. Ура! Ура!
Смолкает речь офицера. Виден Берд, совершающий намаз. Слышна песня.
Мой верный брат, в свирепую вьюгу
Не расслабляйся дома, в тепле,
Выйди, послушай внимательно –
Это не волк, смерть презирая свою,
Воет на горной вершине враждебно.
Это твой брат, ослепленный печалью,
Волком несчастным свой век проклинает.
С окончанием песни начинает звучать молитва Берда.
БЕРД. Всемогущий Аллах! И без моего напоминания Ты знаешь, в каком мы отчаянии. Каким должен был быть наш грех перед Тобой, чтобы изгнали нас с родной земли. Ведь нет же вины стариков и малых детей. Ради них, ради наших отцов, живших честно и праведно, с чистой душой, не знавших коварства, дороживших свободой, прошу Тебя – возврати наш народ обратно на родную землю. Каково им приходится в чужом, холодном краю?!
Всевышний, помоги им избежать гибели от этого горя, остаться людьми, не дай окаменеть их сердцам от холода в чужом краю. Великий Аллах, я во всем покоряюсь Тебе. В этом мире, почитаемом Тобой лишь крылом комара, Ты испытываешь многими страданиями. Всемогущий, не дай тех страданий, которых не выдержат наши души. Ты видишь, что творят здесь над людьми эти дьяволы, эти собаки. Они погубили единственную дочь своей матери, девушку, принесшую в этот мир добро и красоту, Альбику… Бедная Альбика… Всевышний, предоставь покой ее душе. Не познав радости жизни, она ушла в мир иной. Эти дьяволы истерзали весь народ. Всемогущий Аллах, помоги мне воздать им достойное возмездие…
Проведя руками по лицу, затихает. Проходит время.
Снег идет. В этом году много снега… Урожай будет хорошим…
ТОВСОЛТА. Урожай… Не для урожая идет этот снег, а чтобы стать саваном для этой земли.
Некоторое время стоит тишина.
Через неделю исполнится год с тех пор.
БЕРД. Я считаю дни. Я считаю собак, которых уничтожил. И дни, и ночи для меня одинаковы. И зима, и весна, и лето, и осень – одно и то же, одинаково темное время. В этой мгле я вижу только одну цель для себя – собак. Теперь ничего больше и не нужно видеть.
Осматривается по сторонам, что-то ищет. Находит старый глиняный кувшин.
ТОВСОЛТА. Что ты собираешься делать?
БЕРД. Принести снег в этом кувшине и вскипятить воду. Согреть нутро…
Выходит.
ТОВСОЛТА. Мертвый край хоронят, завернув в снежный саван …
Заходит Берд.
Не зажигай большого огня. Если обнаружат этот дом, его из пушки разнесут.
БЕРД. Неужели эти собаки так щедры, чтобы в этот дом палить из пушки?
ТОВСОЛТА. Если стреляли в никому не мешавшую, доступную только птицам, стоявшую на горной вершине башню, то на этот дом они не пожалеют снарядов.
БЕРД. Она-то им мешала.
ТОВСОЛТА. Чем?
БЕРД. Тем, что была высокой. Будь их воля, они сровняли бы эти горы, свалили бы небо. Но Аллах не дал им сил для этого.
ТОВСОЛТА. Тебе не хватает того, что они сделали?
Через некоторое время.
БЕРД. Почему ты не совершаешь намаз?
ТОВСОЛТА. Оставь это…
БЕРД. Остопирруллах!
Смотрит в глаза Товсолты.
ТОВСОЛТА. Чему ты удивляешься, на кого ты надеешься? Кто тебе поможет? Ты находишься в яме. Ты видишь? Побежишь – стена, вернешься обратно – стена. Каменная стена! Хоть ногтями царапай, зубами грызи, она не сдвинется…
БЕРД. Чего ты от меня хочешь?
ТОВСОЛТА. Ничего. Зачем зря утруждаешь себя? Говорят, что не надо начинать войну, которую проиграешь…
БЕРД. Уже поздно говорить об этом.
ТОВСОЛТА. За горами грузинская земля. Там никогда не бывает зимы.
БЕРД. Почему я должен жить в Грузии? Я у себя дома!
ТОВСОЛТА. Ты не знаешь…
БЕРД. Знаю! Я видел то, что ты даже не можешь представить себе – я видел Судный день. Страшный ураган сотрясал эти высокие горы, обрушивая их, раскачал весь мир, разровнял его, как ладонь, уничтожая все на земле: людей, зверей, птиц, деревья, травы. Я стоял против этого шквала. Я – Волк. Потом, выстояв, лишенный шкуры этим ветром, я подумал: «О Великий Аллах, если у меня хватило сил выстоять против этого страшного ветра, всесокрушающего, разровнявшего весь мир, то неужели мне не хватит сил и для того, чтобы отомстить за свой народ, рассеянный по холодной чужбине?»
ТОВСОЛТА. Так что же вышло у тебя с местью? Не так-то легко мстить, как ты это представляешь…
БЕРД. Тогда я вцепился зубами в этот мир, однако наткнувшись на что-то твердое – не камень ли это был? – я чуть не задохнулся, но в последний миг, когда мои глаза окутались желтым туманом, я все-таки смог сомкнуть свои челюсти. Вырвав все же кусок из этого мира, я откинулся далеко назад. Три дня и три ночи приходя в себя на том месте, где упал, я понял: невозможно схватиться сразу со всем миром, нужно понемногу, не спеша, вершить свою месть. Мое зрение и слух обострились во сто крат. Я слышал деяния этих собак издалека: когда насытившись, напившись в наших комнатах для гостей, они начали предаваться утехам плоти с женщинами, привезенными из Грозного, тогда я напал. Ощутив вкус крови этих собак, до моего сердца дошло осознание свершающейся мести…
В это время, в глубине сцены появляются офицеры НКВД, солдаты, они поют марш:
Вставай! Смирно! Вперед!
Оглушая мир,
Протруби в трубу.
Во весь голос
мы всем скажем:
Кто был никем,
Тот станет всем.
Кто кем-то был,
Того мы уничтожим!
Звуки выстрелов, лай собак, грохот поездов, крики людей, мычание животных. С исчезновением картин начинает звучать песня.
Берд поет, некоторое время спустя ему подпевает Товсолта, в конце эта песня напоминает вой.
Какой же сильный булат стальной,
Но его сжигает жаркое пламя.
Из чего же сделано ты, сердце в груди?
О, как же ты твердо, сердце в груди!
Когда скорбная весть, что пришла
На землю чеченцев и ингушей,
Льдом сковала ручьи,
Деревья покрыв инеем,
Не растаяло, не сгорело ты, сердце в груди.
Из чего же сделано ты?
Каким же твердым сделано ты!
Старых родителей грубо поднимая,
Ангелов от материнской груди отнимая,
В день, когда вывели нас для изгнанья,
Не сгорело, не растаяло ты, сердце в груди.
Из чего же сделано ты?
Каким же твердым сделано ты!
Из пасти булатной огонь изрыгая,
По крутой дороге тонким телом извиваясь,
Когда двинулись в путь те машины стальные,
Не сгорело, не растаяло ты, сердце в груди.
Из чего же сделано ты?
Каким же твердым сделано ты!
Тишина, слышен шум метели.
БЕРД. Ты не знаешь, что это такое. Это не просто Судный день. Мы потеряли то, что оберегалось тысячелетиями жившими здесь – эту землю. Мы утратили гены наших людей. Какое наследство будет у выросшего в чужом краю? И будет ли оно вообще? Нас всех дали уничтожить этим дьяволам во плоти…
Во дворе поднимается шум.
ТОВСОЛТА. Сотрясаясь, показывает пальцем в окно. Она… Она… Опять пришла.
БЕРД. Кто? Подожди-ка. Взяв ружье, выходит. Заходит, ведя впереди Човку. Вот эту видел?
ТОВСОЛТА. Да… Кто такая?
ЧОВКА. Не обращая внимания на обоих. Хорошо, что вы разожгли этот огонь. Эх, тепло! Какое хорошее тепло! Устала я. Утром узнала, что вы вдвоем приедете. Поэтому ходила за яблоками и грушами, которые спрятала… Идите, кушайте… Я… Высыпает камни.
БЕРД. Отходя. Дух ты или кровь?
ЧОВКА. Духов здесь много. Вон, на паднаре, в удобном месте, сидит дух Кюри…
БЕРД. Какого Кюри?
ЧОВКА. Бо-бов! Убитого из ружья. В день, когда всех забирали…
Товсолта, выходя вперед, робко присаживается на краю паднара.
Не садись там. Там ребенок.
Подбежав, берет с паднара какую-то вещь, завернутую в тряпки.
Не плачь, не плачь,
Малыш, не плачь.
Мушмула наша уже поспела,
Ягода на снегу созрела.
Барашек пошел пастись,
С ним и коза пошла,
С ним собачка пошла,
Не плачь, не плачь,
Малыш, не плачь.
БЕРД. Неожиданно, узнав ее. Човка! Ты ли это? Что ты делаешь? Откуда ты взялась? Как ты изменилась! Что с тобой случилось?
ЧОВКА. Я умерла…
БЕРД. Это же ты, да поможет тебе Аллах. Не ты ли предсказала по звездам, что грянет большая беда?
ЧОВКА. Это не я. Я – птица.
БЕРД. Как не ты?
ЧОВКА. Дождь… Полил дождь… Потом ее увели.
БЕРД. Да. Да… В тот засушливый год, когда ты, поднявшись на Красную гору, прочитала молитву, то на второй же день пошел дождь. Люди ничего не делали, не спросив тебя, не пахали и не сеяли…
ЧОВКА. Посидев, подавленно, резко. Муца! Говда! Как вы задержались! Вы же в лес ходили. Дремучий был лес? Глубокие были чащи? Да умри у вас мать! Вы никогда больше не пойдете в лес. Никогда не пойдете… Что вы делаете? Куда вы идете? Ушли… Ушли… Опять ушли в эти лесные чащи. Да умри мать у Муцы! Да умри мать у Говды! Плачет.
БЕРД. Говорит о своих двух сыновьях, арестованных и уведенных из дома. Добрые, как буйволы, были парни, положи в рот палец – и то не разжуют.
ТОВСОЛТА. Помню я их обоих, помню.
ЧОВКА. Малыш, Малыш, не плачь,
Коза-козочка домой идет.
Она молочко с собой принесет.
Тебя молочком она напоит.
Малыш, Малыш, не плачь.
Увидев подошедшего Товсолту, съеживается. Не бей! Не бей! Я больше не буду читать молитву.
ТОВСОЛТА. Ухмыляясь. Куда делась мать этого малыша?
ЧОВКА. Пошла на прополку.
ТОВСОЛТА. На прополку? Посреди зимы! Ха-ха-ха! Смеется, как сумасшедший.
БЕРД. Терпения! Терпения себе попроси у Аллаха.
ТОВСОЛТА. Аллах… Где он? Он не видит это?!
БЕРД. Не старайся свалить нашу вину на Всевышнего.
Проходит некоторое время в тишине. Берд выглядывает в окно, Човка, положив своего «ребенка», занимается какими-то хлопотами.
БЕРД. Метель кончилась, проясняется. Раньше, до этого «судного дня», думал муллой стать, каждое утро, взойдя на минарет, призывать людей к намазу.
Слышен голос муллы, призывающего к молитве, затем слышна обрядовая песня. Слабея, она подходит к концу.
ЧОВКА. Малыш, малыш, не плачь.
Мама к дому идет,
С собой ягоды несет,
Тебе все ягоды отдаст.
ТОВСОЛТА. Кричит. Перестань!…
ЧОВКА. Не надо, не надо! Не рви мой ноготь, не рви!
БЕРД. Не кричи на нее.
ЧОВКА. «Нужно разрушить власть, сказала ты» – А-а, не сказала! «Как не сказала? Скажи – сказала!» – А-а, не рвите мои ногти! «Ты посылала проклятия? Скажи – посылала!» – Посылала! «Почему проклинала?» – А-а-а, не бейте! «Скажи – нет Аллаха!» – Есть! «Я разрежу тебя пилой!» – Ты Дажал? «Да, я Дажал. Ты моя или Божья?!» – Божья! «Если так, то получай!» – А-а-а!
Падает, корчится на полу.
ТОВСОЛТА. С криком. Хватит! Хватит! Отойди от меня!
БЕРД. С подозрением. Что это она вытворяет?
ТОВСОЛТА. Не знаю.
БЕРД. Знаешь! Не зная, не растерялся бы!
ТОВСОЛТА. Если так, то знаю. Она вытворяет то, что происходило на самом деле.
БЕРД. Как происходило? Где происходило?
ТОВСОЛТА. Прямо передо мной ее пытали так, как она показала.
БЕРД. Перед тобой били?
ТОВСОЛТА. Били… Сказали, что она прокляла власть после ареста двух сыновей. Когда она сошла с ума, ее отпустили.
БЕРД. Откуда ты это знаешь? Вообще, кто ты такой?
ТОВСОЛТА. Много их было… Глубоко задумывается. Но одна девушка не выходит из сердца. Высокая была, как молодой кипарис, белоснежной была ее кожа. Свет исходил от нее… Тогда начальник НКВД Малцаг с моей помощью погасил этот свет. Теперь я думаю: из-за нее опустилась тьма над этой землей. Имя красивое у нее было – Альбика…
БЕРД. Ошеломленный. Как? Что ты сказал?
ТОВСОЛТА. Ее звали Альбика.
БЕРД. Альбика – а-а… Прикладывает руку к сердцу.
ТОВСОЛТА. Что с тобой случилось? Ты тоже ее знал?
В это время, ожив в сознании Берда, появляется Альбика. Она идет, напевая мелодию. Ее окружают работники НКВД. Их жестокий танец топчет ее.
БЕРД. Немного приходя в себя. Нет-нет, это не ты. Он был светлым…
ТОВСОЛТА. От моей работы моя душа и облик потемнели …
БЕРД. Грязная тварь! Не стыдно тебе находиться рядом со мной?
ТОВСОЛТА. Меня послали убить тебя … Мне дали бы медаль за это, двести рублей денег… Ты считаешь себя волком, но тебя я, как барана…
БЕРД. Убить-то я тебя убью, грязная собака! Зарядив ружье, наводит на него. Но в этот момент, хватаясь за сердце, оседает. Принеся снег, Човка накладывает на его лоб.
ТОВСОЛТА. Да, грязная собака, произошедшая от волков… Почему ты не нажал на курок ружья?..
Взяв ружье, подает его Човке.
На, возьми! Убей меня, убей! Нажми на курок! Что тут трудного?
ЧОВКА. Я птица, свободная орлица!
ТОВСОЛТА. Кем бы ты ни была, нажми на курок!
ЧОВКА. Почему ты сам себя не застрелишь?
ТОВСОЛТА. Почему ты говоришь мне это? Тебе не хватает моих грехов? Не заставляй принять еще один…
Схватив Човку, плачет. В конце плач переходит в смех. В глубине сцены появляется много людей. Они стоят скорбно, как на похоронах. Через некоторое время они удаляются. Остаются стоять Арзу и Эниса.
БЕРД. Спустя некоторое время. Дух ты или кровь?
АРЗУ. И то, и другое. Нас двое.
БЕРД. Какой вы путь держите?
АРЗУ. Несчастный путь.
БЕРД. Тогда мы одни и те же. Проходите.
АРЗУ. Пусть будет добро в этом доме!
ТОВСОЛТА. Что здесь доброго?
АРЗУ. До сих пор так говорили.
БЕРД. Да возлюбит Аллах вас обоих.
ТОВСОЛТА. Это кто такая?
АРЗУ. Чеченка. Ее зовут Эниса, мое имя – Арзу.
ТОВСОЛТА. Удивленно. Эниса-а? Как?! Откуда?
БЕРД. Присаживайтесь.
ЧОВКА. Малыш, малыш, твоя мать домой пришла. На, мать, возьми своего малыша.
ЭНИСА. Беря «ребенка». Это… Что такое?
ЧОВКА. Твой малыш. Накорми его. Сегодня он сильно плакал.
ЭНИСА. Как плакал?
ЧОВКА. Плакал… Тебе не нужно уходить обратно?
ЭНИСА. Куда обратно?
ЧОВКА. Закончилась прополка?
ЭНИСА. Какая прополка?
Тишина.
АРЗУ. Возвратившись домой и обнаружив эти места пустыми, я подумал: «Я умер, поэтому мне кажется, что кругом все пусто. Оказывается, так бывает после смерти». Вот так, бродя, будто в преисподней, я дошел до аула Сурота и понял, что умер не я, а умерла моя родина. Войлочные ковры лежали на улице, во дворе, на дороге, ведущей к дому. Сотканные чеченскими женщинами долгими зимними вечерами, не жалея душевной теплоты, разноцветные войлочные ковры лежали на земле, вокруг всего дома. Войлочные ковры…
ТОВСОЛТА. Войлочные ковры… Ковры… Я тоже видел эти ковры там! Оставим их, лучше скажи, где ты встретил эту девушку?
АРЗУ. Они расселись на этих коврах, ели вареное мясо, запивая его горячим бульоном, капающим из углов рта на ковры, смеялись… Заметив ее, стоявшую в углу, я сразу понял, что эта девушка из наших.
ЭНИСА. Он, словно волк, круживший вокруг отары, согнал их всех в кучу. А они с криками, топча мясо, разбивая глиняные блюда, сбились посреди застолья.
АРЗУ. Тогда я обратился к этой девушке с вопросом: по своей ли воле выходишь замуж?
ЭНИСА. Попросив перед ними ни о чем не говорить, я вышла вслед за этим парнем.
БЕРД. Она жила бы, имея какой-никакой, но свой кров. Сможет ли она вынести такую жизнь, как наша?
ЭНИСА. Смогу, вынесу. В поезде, когда меня увозили в Сибирь…
БЕРД. Ты доехала туда? Как живут там наши люди?
ЭНИСА. Умирают, опадают, как листья, от холода, голода, от тоски. После смерти матери – а я отца в глаза не видела с тех пор, как его забрали в НКВД, – убегая железнодорожными путями, цепляясь за поезда, я вернулась.
БЕРД. Кончается род чеченцев… О мир под солнцем, как ты будешь стоять, если на земле не будут жить чеченцы?!
ТОВСОЛТА. Так и будет стоять, разгребаемый куриными когтями.
В это время раздается шум кипящей воды. На миг все замирают, не зная, что это такое.
БЕРД. Закипела-таки вода.
ЧОВКА. Жижиг-галнаш готовы! Жижиг-галнаш готовы!
Вскочив, крутится вокруг печи.
ЭНИСА. Посиди, я положу еду.
Отдав Човке «ребенка», разлив воду в посуду, найденную в комнате, раздает. Все сидят, делая глотки воды.
АРЗУ. Терпение. Здесь у меня то, что можно есть. Достает из сумки консервную банку.
ТОВСОЛТА. Где ты ее взял?
АРЗУ. Там, на поляне, нашел.
ТОВСОЛТА. А-а, вот в чем дело. Берет банку, выбрасывает в окно. Все удивленно смотрят на Товсолту. Это нельзя есть, такие консервы мы, отравив ядом, разбрасывали, чтобы их ели такие, как вы.
Берд Энисе. Если все так, то каким образом ты оказалась за занавеской этих людей-дьяволов?
ЭНИСА. Измученная голодом и холодом я шла по чащобам, и вдруг среди кустов увидела глаза, глядящие на меня, побежала в другую сторону – и там – глаза, кругом глаза. Гоняясь, они загнали меня во двор, поставили мне еду. Я не хотела есть еду этих людей, танцующих на наших могилах, однако голодное тело не выдержало. Позже, когда пришла в себя, я согласилась делать то, что они скажут…
БЕРД. Размахнувшись и разбив о стену свою посуду. Шалава! Все затихают.
ЭНИСА. Почему? Кто? Зачем?
БЕРД. Шалава, разжиревшая на похлебке этих собак! Если бы не этот парень, то ты, как дикая свинья, нарожала бы им поросят.
ЭНИСА. С криком. Это неправда! О Аллах, какой стыд…
АРЗУ. Разъяренно, вскочив. Парень, ты должен объяснить свои слова. Если нет, я Аллахом клянусь, один из нас живым отсюда не выйдет!
ЧОВКА. Подбегая то к Берду, то к Арзу. Не шумите, не шумите, ребенок спит. Никто не обращает на нее внимания.
БЕРД. Какое еще объяснение тебе нужно? Если она села делить трапезу с теми, кто изгнал наш народ и разоряет его жилища?!
АРЗУ. Из-за таких, как ты, не дававших прохода идущим на базар и обратно, все это зло.
БЕРД. Что ты несешь?!
АРЗУ. А что ты несешь?! Хочешь на девушку, которую видишь впервые, навесить грязный ярлык? Разве это храбрость?
БЕРД. Мы найдем место, чтобы разобраться, кто храбрый, кто нет.
АРЗУ. Это еще тогда стало ясно… Когда ты ушел не на войну, а в лес…
БЕРД. Грязная скотина!
АРЗУ. Нападая на Берда. Я уничтожил на фронте много таких, как ты…
Товсолта, схватив за шею, бросает его в угол комнаты.
ТОВСОЛТА. Нет, не таких, как он, ты там уничтожал.
ЧОВКА. Подскочив, среди них. А-а, не бей меня, не бей!… А-а, моя рука! Не рви мой ноготь!
ТОВСОЛТА. Не кричи!
ЭНИСА. Плача. Перестаньте! Я вернулась из далекого края, цепляясь за поезда, воя тоскливым волчьим воем не для того, чтобы вы убивали друг друга! Не перестанете, то – клянусь Всевышним! – брошусь в пропасть…
ЧОВКА. Дети мои… Подходит к Берду. Мой Муца… Подходит к Арзу. Мой Говда… О чем вы спорите? Вы оба забыли, что вы два брата… Младший должен слушаться старшего …
На время все затихают.
АРЗУ. Я-то перестану. Однако мне хотелось бы знать, с каких это пор на нашей земле разрешено издеваться над одинокой женщиной?
ТОВСОЛТА. Ты чересчур заинтересован судьбой этой девушки. Кем ты ей приходишься?
АРЗУ. Никем, кроме того, что я – чеченец.
ТОВСОЛТА. Если так, то помалкивай! Никто в этой комнате не несет больше ответственности за эту девушку, чем я.
АРЗУ. Кто ты такой? Откуда ты ее знаешь?
ТОВСОЛТА. Она знает, кто я такой.
Тишина.
ЭНИСА. Я не припомню тебя.
Ее голос дрожит. Похоже, она что-то скрывает.
ТОВСОЛТА. Два года назад ты знала меня.
ЭНИСА. Нет-нет, и теперь не знаю.
ТОВСОЛТА. А ты вспомни… Ну, а ты, молодой человек, если ты такой смелый, должен был оставаться дома и оберегать свой народ, а не уходить на край земли, чтобы драться с немцами.
АРЗУ. Удивленно, рассердившись. Я уходил, чтобы защищать свою родину от жестоких врагов, всем бедным людям земли принести счастье, свободу…
ТОВСОЛТА. Ха-ха-ха! Видно, на политзанятиях ты внимательно слушал лекторов… Пролетарии всех стран объединяйтесь!
БЕРД. Так защитил ты родину? Где она, твоя родина, где твои люди?
АРЗУ. Сталин не знает об этом, я поеду в Москву и расскажу!
ТОВСОЛТА. Ха-ха! Сталин не знает! Мне тоже так казалось…
АРЗУ. Я не верю, когда говорят, что он знает всю правду об этом… Он занят проблемами всего мира, у него не хватает сил и времени обратить внимание на наш народ.
ТОВСОЛТА. Ха-ха!
БЕРД. Удивительное дело, питать такую сильную любовь к демону, снесшему голову своему народу.
АРЗУ. Берд!
БЕРД. Что ты сказал? Откуда ты знаешь мое имя?
АРЗУ. Ты не удивляйся, что я назвал твое имя. Я сейчас узнал тебя. В селении Шатой на скачках твой серый жеребец пришел вторым. Девушки слагали песни о тебе. Такой же прославленной была и твоя невеста – Альбика, дочь Элболта.
ЭНИСА. Альбика была красивой, славной девушкой. Мы все завидовали ей.
В их памяти вновь, оживая, появляется Альбика. Слышна песня, которую она поет:
Не танцуй так красиво,
Не танцуй слишком лихо –
Я боюсь, что умрешь ты
От людского дурного сглаза.
Папаху высокую не надевай,
У родника ты не стой –
Тебя потерять я боюсь
От сглаза ровесниц моих …
БЕРД. Когда ты появляешься, то уходишь вот так, напевая. Ты не видишь меня или тебе некогда видеть? Когда ты туда ушла, услышав крик своей матери, я вышел на дорогу, чтобы бросить голову твоего палача Малцага хищникам… Однако с каждым днем его окружение увеличивалось, тогда как и мои друзья, мои силы с каждым днем таяли. И все-таки я еще хожу, как волк, рыская в этих горах. Воспоминания о тебе дают мне силы; вот так, приходя иногда, ты освещаешь мою мрачную жизнь. Каким бы я ни был несчастным теперь, я считаю себя счастливым от того, что видел тебя, знал тебя, любил тебя, был рядом когда-то, Альбика…
Показываются сотрудники НКВД. Они окружают Альбику. Она кричит, кричит и Берд. Картины исчезают.
АРЗУ. Что с тобой, Берд?
БЕРД. Через некоторое время. Ничего. Не называйте больше ее имени.
АРЗУ. Не это я хотел сказать… Твоим отцом, Сосланбеком, ценой большой крови, ценой уничтоженных многих храбрых парней в Чахкири, Гойтах, Алхан-Юрте и других местах завоевана эта власть. На защиту этой власти уходил и я!
ТОВСОЛТА. Я тоже защищал ее до сих пор.
БЕРД. Не это искал мой отец. Он искал землю, отобранную у нашего народа, свободную жизнь. Однако к чему мы пришли сегодня? Где наша свобода, где наша земля?
ТОВСОЛТА. Улетели в космос.
БЕРД. Где те люди, которые устанавливали эту власть? Где мой отец, его товарищи? Уничтожены. Всех мужчин размололи, рассеяв по всему миру их прах, чтобы не выросло достойное потомство на земле…
Некоторое время стоит тишина.
ЧОВКА. Энисе. Мать, ты накормила малыша? Если накормила, почему он плачет? Я уложу его спать.
Малыш, малыш, ложись спать,
Малыш, малыш, не плачь…
АРЗУ. Выходит, мы воевали зря? Нет, неправда это. Сталин не знает про эту несправедливость.
ТОВСОЛТА. Ха-ха! Мне тоже казалось, молодой человек, что это так, пока не увидел в один день опустошенным этот край.
АРЗУ. Это какая-то чудовищная ошибка. Когда дойдут мои письма…
ТОВСОЛТА. Что это за письма?
АРЗУ. Хочу послать Сталину, Берии, Ворошилову… Ворошилов же бывал у нас, в Урус-Мартане…
ТОВСОЛТА. Ха-ха! Почитай-ка одно.
АРЗУ. Читает письмо. «Вождь всех бедных народов мира, наш отец Сталин…».
БЕРД. Вскочив. Тьфу, «отец»! Что это ты, парень, несешь? Для тебя отец тот, кто уничтожил твой народ? Ты думаешь, он будет читать твое письмо? Только война остановит войну. Убивать надо, убивать, не оставляя ни одной собаки!
АРЗУ. Их очень много. Я видел армию, принадлежащую этой власти, – она необъятна, как мир. Многочисленны ее войска, их невозможно одолеть. Из твоих намерений ничего не получится. Письма нужно писать… Все находится в руках московских начальников… Если это письмо дойдет, они возвратят наш народ домой. Надо им напомнить о пролитой крови, перенесенных вайнахами лишениях в борьбе за советскую власть…
ТОВСОЛТА. Ха-ха-ха!
БЕРД. Над кем ты смеешься?
ТОВСОЛТА. Над вами обоими. У вас ничего не выйдет. И то, и другое напрасно. Вы не знаете эту мельницу, называемую властью. Берду. Выстрел из твоего ружья – это даже не укус комара для этого механизма.
БЕРД. Как бы то ни было, я не вижу другого пути, кроме их беспощадного уничтожения. Аллах тоже говорит: прикладывайте старание. Я и стараюсь.
АРЗУ. Нет, я не верю, что вождь на самом деле знает обо всем этом.
ТОВСОЛТА. «Вождь»… Ха-ха! Я сам видел его подпись под документом о выселении нашего народа.
БЕРД. Я понял это еще раньше… Когда крестьяне оставили свои поля, пастухи бросили свои отары; когда оставив намаз, уразу, молитвы, люди начали доносить, убивать друг друга, я понял, что на нас обрушится великая беда… Люди решили, что и без хлеба, не кормя животных, будут сытыми, что, уничтожив все чистое и прекрасное, устроят на земле рай. Они и Аллаха отвергли, поверив, что пришли в этот мир, чтобы никогда не умирать. Удивительное дело, хотя вокруг умирали, погибали, никто не верил, что он и сам смертен… Во всем вина наших хранителей…
АРЗУ. Это какие хранители? О ком ты говоришь?
БЕРД. Вся вина хранителей нашего народа, которые обязаны были быть всегда начеку. Они должны были знать о катастрофе, надвигающейся на нас; обладая мудростью и умом, они должны были защищать нас…
ТОВСОЛТА. Ты знаешь, что этих хранителей давно уже нет? Нет, они исчезли не десять, не двадцать лет назад, они исчезли гораздо раньше – еще во времена Шамиля, а возможно, еще раньше…
БЕРД. Народ без хранителей – как человек без опоры, без совести и чести. Это стадо. Как стадо и выдворили…
ТОВСОЛТА. Я был еще несмышленышем, когда убили моего отца. Он был еще в утробе матери, когда убили моего деда. Я иногда думаю: мой дед не успел сказать что-то важное, ценное для нашего народа моему отцу, также не успел этого сказать мне и мой отец… То же случилось и с другими. Вот так и потеряна тайна народа, вот так потерян талисман, оберегающий нас от больших бед. Поэтому мы и живем, не зная, кто мы и откуда, позволяя любому обманывать нас, как детей. Ты думаешь, твоему отцу и ему подобным было известно о том, что вытворяют, когда носились с криками «Ура!» в Гойтах?
БЕРД. Расхаживая по комнате. Так теперь, теперь, что нужно делать? Знаешь, обо всем этом должен знать и Сталин. Скажи!
ТОВСОЛТА. Большая гора обрушилась на нашу пещеру, закрыв нас внутри. Землю-то мы копать будем, но очень далеко нам до выхода к солнцу. Ох, как далеко!…
ЧОВКА. Подбирает с пола что-то в ладонь. Соль. Наступали на соль ногами… Соль не почтили… Поэтому все и случилось. Если бы не боялись наступить на соль, ангелы спустились бы на землю, чтобы все уладить. Соль рассыпана по земле, много соли…
АРЗУ. Значит, люди, погибавшие, бросаясь на пушки со словами «За Сталина!», обманулись?
ТОВСОЛТА. Зачем ты говоришь о них? Обманут весь мир. Весь. Люди на улице видят одну жизнь, а там, внизу, в подвалах, – другая. Там внизу, несправедливость вершит над людьми свой жестокий суд. Над самыми лучшими вершит. Каким бы сильным ни был человек, его ломают, растаптывают, превращают в тряпку, вытирают об него ноги и выбрасывают…
Човка пугается.
БЕРД. Поэтому нужно взорвать их землю с самого дна, надо уничтожить собак…
ТОВСОЛТА. Это невозможно сделать. А если и возможно, то есть другие, готовые занять их места. Весь народ готов работать на человеческой молотилке, не подозревая, что завтра другие и их превратят в муку. Это самое страшное. Люди и душой, и умом изменились, стали жестокими, отдалились друг от друга, с азартом носятся, чтобы убивать, доносить… Если бы один из вас был свидетелем превращения человека в тряпку, то вы увидели бы этот мир по-другому. С ума, как она (кивает на Човку), сходят не только подвергнутые наказанию, но и палачи, свидетели.
Обращаясь к Арзу. Твое письмо ничего не изменит, иначе давно все изменилось бы. Много таких писем ушло туда – в Москву, много призывов ушло к Всевышнему. Есть какие-нибудь изменения? Нет. Это зашло слишком далеко, все сорвалось и летит в пропасть и, пока не ударится о дно, не остановится…
АРЗУ. Ты что-то очень подробно знаешь о деяниях этой власти.
ТОВСОЛТА. Когда мне исполнилось семнадцать лет, мне дали в руки пистолет, и я носился, убивая людей, «ради народа, ради свободы». Меня укладывали, как собаку, в теплую будку, наливали жирную кашу. Свобода, говорили мне, которую по-своему добывал твой отец, пришла – ура! – ты должен охранять ее, не зная ночью сна, постоянно искать врагов народа, загонять их в засаду…
АРЗУ. Кто ты такой вообще?
ТОВСОЛТА. Я сын абрека Эдилсултана – Товсолта.
АРЗУ. Удивленно. Это ты? Ты, проклятый народом, землей?
ТОВСОЛТА. Да!
АРЗУ. Тот, который по доносу собаки Берсанаки из нашего села, уничтожил моего отца Алхазура?
ТОВСОЛТА. Много их было, я всех не помню.
АРЗУ. Отправивший меня на войну, хотя мне не было и семнадцати лет, за взятку освободив от службы сына этого Берсанаки, тоже ты?
ТОВСОЛТА. Да, это я.
АРЗУ. Я там выжил, вернулся домой. На тебе моя кровь.
ТОВСОЛТА. Возьми, если так.
Распоясавшись, кладет кинжал и ремень на паднар. Арзу берет ружье и заряжает его.
БЕРД. Подожди пока. Я клянусь тебе Аллахом, если это сын Эдилсултана – Товсолта, то раньше меня никто не может взять с него кровь.
АРЗУ. Так он же говорит, что это он.
БЕРД. Ну и что, что говорит? Я слышал, что сын Эдилсултана светловолосый, рыжий.
ТОВСОЛТА. Моя душа и облик почернели из-за зла, которое я вершил!
БЕРД. Не верь ему, он пытается оговорить себя.
АРЗУ. Зачем ему оговаривать себя? Зачем?
БЕРД. Почем я знаю… Надоел, наверное, этот мир.
ТОВСОЛТА. На, вот вам мое удостоверение. Читайте!
АРЗУ. Действительно, он. Читает. «Эдилсултанов Товсолта Эдилсултанович, уполномоченный НКВД»… Берду. Не мешай мне взять с него кровь за своего отца, за других людей, уничтоженных им.
БЕРД. Ты веришь этой бумаге? Ее можно подделать. А что, если она где-то найдена?
ЭНИСА. Он говорит правду. Он, действительно, сын Эдилсултана – Товсолта.
БЕРД. До этого момента ты его не знала.
ЭНИСА. Теперь вспомнила.
ТОВСОЛТА. Хорошо, что ты меня вспомнила, теперь мне легче.
БЕРД. Его убийством ничего не исправить. Я прощаю свою кровь.
АРЗУ. Поступай, как хочешь, а я отомщу.
БЕРД. То, что нас погубило – это наша взаимная жестокость… Все же, в моем доме проливать кровь права тебе не даю.
АРЗУ. Почему этот дом твой? Он твой, как и мой.
БЕРД. Нет, не твой. Ты сюда пришел только сегодня вечером. А с тех пор, как я хожу, оказавшись хозяином этих селений, исполнился год. Поэтому вы все сегодняшней ночью мои гости. Положи ружье, не думаю, что ты настолько недостойный человек, чтобы, придя в чужой дом, вершить свою месть…
АРЗУ. Ставит ружье в угол. Когда-нибудь мы выйдем отсюда.
БЕРД. Через продолжительное время. Кто ты, откуда, Арзу?
АРЗУ. Я из Сурота, сын Тарами Алхазура… Мои предки не из тех людей, которые прощают свою кровь.
БЕРД. Разве свершается кровная месть, если убить человека, который сам хочет умереть? Если он, действительно, Товсолта, как он себя называет, для него нет большего наказания, чем оставить его живым.
ТОВСОЛТА. Ты оказался беспощаднее, чем НКВД, Берд.
ЧОВКА. Разговаривает сама с собой. Одна семья в одну снежную ночь потеряла согласие. Утром из их двора ушло счастье. По следу за ним пошел старый человек: «Возвратилось бы ты». – «Нет, не пойду. Согласия нет в вашем доме»… Согласие разладилось здесь сегодняшней ночью – здесь не будет семьи. Стоит тишина.
ТОВСОЛТА. В такой же холодный, снежный день, вернувшись после участия в операции в горах, в своем селе я не нашел ни одного человека. На месте, где стоял колхозный сарай, были лишь пепел и много человеческих костей…
В этот момент, услышав какой-то шум, все затихают.
ЭНИСА. Кто-то ходит вокруг дома.
АРЗУ. Кому здесь ходить?
ТОВСОЛТА. Это не человек. От ходьбы человека шум был бы сильнее.
БЕРД. Взяв ружье. Вы оставайтесь на месте, а я посмотрю и вернусь.
Он выходит. Все сидят, прислушиваясь к шагам Берда, который ходит вокруг дома. Через некоторое время он возвращается.
ЧОВКА. Это джинны.
ЭНИСА. Какие джинны?
ЧОВКА. Теперь они ушли.
Эниса и Арзу сидят удивленные. Стоявший у окна Товсолта с криком отскакивает.
БЕРД. Что с тобой? Что с тобой?
Сотрудники НКВД, танцуя, окружают дом.
Это сатанинские танцы. Что ты увидел теперь?
ЧОВКА. Я знаю, что он увидел… Увидел дух хозяина этого дома, Кюри.
ЭНИСА. Удивленно. Как можно увидеть дух?
АРЗУ. Да он просто устраивает клоунаду.
БЕРД. Арзу, тебе было бы стыдно перед твоими славными отцами, не выполнить просьбу народа…
АРЗУ. А где народ? Из тебя одного состоит народ?
БЕРД. Я хожу, нося в своем сердце образы и мысли живших здесь людей, стараясь оберегать эти опустевшие места. Чтобы эти ручьи не замерзли от холода одиночества, согреваю их своей душой; и если здесь нет народа, то я имею право сказать слово от его имени. Поэтому выслушай просьбу, обращенную к тебе таким большим народом. Тем более, не зная точно, виновен ли этот человек. Если окажется, что это не он, то, убив невинного человека, ты совершишь огромный грех.
Арзу, склонив голову, стоит молча.
Ты не видишь его, лежащего перед собой, завернутого в белый саван?
АРЗУ. О каком саване ты говоришь?
БЕРД. О саване, который и на нем, и на нас, на всей этой земле… Падающий снег для нашей земли, для нас всех стал саваном. Посмотри вокруг! Мы не в том положении, чтобы уничтожать друг друга. Ты слышал, о чем он говорил? Мы находимся в пещере, на которую обрушилась гора. Так что, копать эту гору ни для кого не будет лишним, чем бы он раньше ни занимался. Тем более, он хорошо знает эту власть… Мы с тобой не знаем.
АРЗУ. Нет пользы от его знаний! Они отнимают оставшийся вкус к жизни! Кто знает, может, его те собаки специально подослали, приказав вот так разбить наши сердца? Может быть так? Поэтому от Всевышнего будет благодарность только за то, что я его убью.
БЕРД. Остановись! Ты ничего не знаешь…
Эниса запевает песню. Все затихают:
ЭНИСА. Вместо меня сотворил бы Создатель
Зеленый лужок на бесплодной земле.
Зная, что девушка в луг превратилась,
Парни б тогда приходили ко мне.
Вместо меня сотворил бы Создатель,
Камень холодный в песчаной земле.
Зная, что девушка окаменела,
Старцы б седые приходили ко мне.
Вместо меня сотворил бы Создатель
В безводной пустыне студеный ручей,
В журчанье ручья узнавая мой голос,
Ровесницы в гости ходили б ко мне…
Тишина.
АРЗУ. Был бы я орлом[1], соответственно моему имени, я жил бы, не принимая участия в этой земной несправедливости, свив себе гнездо на вершине какого-нибудь крутого обрыва …
БЕРД. Продолжительно молчит. Создавший нас знал лучше, что из нас сотворить. Мы люди…
Эниса, встав, бросает со своей головы платок перед АРЗУ.
ЭНИСА. Никто не может сейчас следовать своим желаниям. Какое ты имеешь право делать то, что захотел? Нет человека, который раньше меня должен был отомстить ему…
ТОВСОЛТА. Ногой отшвыривает платок. Не такое это важное дело, чтобы ты так просила.
Тишина.
БЕРД. Так тихо, как будто ничего не произошло…
АРЗУ. Я много мечтал о тишине. Оказывается, и тишина бывает гнетущей.
БЕРД. Ничего… Поднимите пламя в этом светильнике! Осветите это помещение!
Эниса выполняет его указания. Ставит лампу к окну.
С этой ночи мы все одна семья. Если будем опорой друг другу, мы сделаем невозможное.
ТОВСОЛТА. Каждому. Я много о чем-то мечтал… Убери эту лампу с окна… Пряча слезы, отворачивается к стене. Вот так, поставив ее к окну, мать рассказывала мне об отце, когда я был маленьким…
Тишина.
Я не буду вам товарищем.
БЕРД. Что ты говоришь? Ты же мне эти две недели был товарищем! Когда дрались с этими собаками, ты и глазом не моргнул…
ТОВСОЛТА. Что бы я ни делал, вы будете смотреть на меня, как на бешеную собаку. Если даже неявно, то про себя… Когда собака взбесится, то хозяин обязан ее пристрелить. Поэтому и мне, и вам было бы легче, если б один из вас…
БЕРД. О чем ты опять говоришь?!
ТОВСОЛТА. Берд, ты не знаешь, что у меня на душе…
БЕРД. Что бы ни было на душе, время ли сейчас разбираться в этом? Когда, изгнав наш народ, за нами, оставшимися несчастными, погнался весь мир, превратившись в собаку…
ТОВСОЛТА. Для меня все – тьма. Я не вижу света нигде, чтобы моя душа вышла из мрака.
Тишина.
ЧОВКА. Дождя просите, дождя, не враждуя друг с другом… От драки не будет дождя, будет кровь… Дождя просите. Если Аллах пошлет дождь, сгоняя потоки с гор, их всех вместе с их джиннами выбросит в море. В бездонное море…
Тишина.
ЭНИСА. Я знаю, что нужно делать. Мне мать рассказывала, что где-то здесь, между пятью горами, есть одно озеро. Когда к нему подходит плохой человек, оно исчезает, а подходит хороший – оно увеличивается. Если встать на его берегу, когда на него падают лучи восходящего солнца, Аллах дает ответ на любую просьбу. Умирая, мать сказала, чтобы я сходила к озеру и, найдя его, прочитала молитву Всевышнему с просьбой, чтобы вайнахи вернулись на родину.
Тишина.
Никто из вас не видел то озеро?
БЕРД. Нет, озера посреди пяти гор я не видел. Наверное, не такой уж я хороший человек, чтобы увидеть его.
ЧОВКА. Существует такое озеро. Его нужно хорошо искать после полуночи до рассвета…
В это время во дворе поднимается шум, будто дерутся какие-то люди. Крики, плач, рыдания…
БЕРД. Подождите-ка…
Он выходит. Шум понемногу стихает. Там ничего не видно.
ЧОВКА. Это были джинны. С оставшимися здесь нашими джиннами дрались джинны пришедших сюда. Наших побили – их было мало.
ЭНИСА. Кто-нибудь прочтите молитву, чтобы они ушли.
Берд читает молитву. Опять раздается шум, на этот раз веселый.
ЧОВКА. Джинны наших врагов празднуют свою победу. Мы должны устроить праздник, тогда они убегут…
Тишину нарушает далекий глухой взрыв.
ТОВСОЛТА. Еще одну башню взорвали.
Ему никто не отвечает. Вдали раздаются выстрелы. Слышен лай собак.
АРЗУ. Они идут по нашему следу.
БЕРД. Сюда они не дойдут. Если и дойдут, им не поздоровится…
Шум усиливается.
ЧОВКА. Это джинны. Если мы устроим праздник, они убегут. Взобравшись на паднар, останавливается. Я – генерал этого праздника. Гаранность, шийся ская, чество, убивайт!
БЕРД. Генерал говорит: у его матери, кроме него и сучки в конуре, никого не было.
ЧОВКА. Шийся ская чаран варан чество, винвайт.
АРЗУ. Говорит, что макушки двух кустов боярышника, растущих у ворот, поредели от частого хождения молодых людей к его матери через них.
ТОВСОЛТА. Хватит! Мне надоели ваши издевки. Если убиваете, убейте. Если не убьете, я вас всех до одного уничтожу.
ЧОВКА. Испугавшись. Не бей! Не бей меня, я же птица, залетевшая, чтобы согреться!
БЕРД. Зачем ты всех убиваешь, хочешь прервать наш род?
ТОВСОЛТА. Я десять жен, нет, двадцать, нет, пятьдесят жен приведу. Они родят по десять детей…
БЕРД. Это будет плохое потомство.
Проходит время. Эниса и Арзу, не понимая, сидят удивленные.
ТОВСОЛТА. Такое потомство лучше, чем вы! Что вы за мужчины? Кому нужно ваше добродушие? Быть такими безвольными, как я… У-у-у…
Тяжело вздыхая, скорчившись, сникает в углу. Проходит некоторое время в тишине.
ЧОВКА. Разговаривает сама с собой. Человека, арестовав, бросили в яму одного. Кто-то, подойдя к яме, спросил: «Утолил бы ты голод?». Принес еду, спустил ему в яму. «Выпил бы ты воду?» – принес и воду, подал в яму. «Ты хочешь уйти? Выходи, дорога свободна». Опустив лестницу, поднял его наверх. Говорит: «Уходи». Однако тот столкнул спасителя в яму. «Зачем?» – «Ты был слишком добр, тяжело было тебя терпеть», – сказал он и ушел. Проходит некоторое время, все молчат.
ТОВСОЛТА. Когда прощают кровника, не устраивают праздников, а раздают милостыню…
БЕРД. Ничего, а мы устроим праздник. Иди сюда, Човка, будь генералом.
ЧОВКА. Не буду генералом, я – птица.
БЕРД. Ну, тогда я начну этот праздник…
…. Стадо животных на пастбищах горных,
Пусть не обманет тебя, куропатка.
Выгнанный в степи табун лошадей
Пусть не обманет тебя, куропатка.
Замок, стоящий на горном хребте,
Пусть не обманет тебя, куропатка.
Резко останавливается.
АРЗУ. Почему ты остановился?
Берду трудно петь песню. Он жалеет, что затеял это. Все же старается, чтобы присутствующие этого не заметили.
БЕРД. Выгнанный в степи этот пестрый табун
Вдруг будет угнан чужим седоком?
В крепости-замке на черном хребте
Курицу-наседку не застанешь ли ты?
Вместо подвешенного к очагу курдюка
Вдруг ты застанешь старый чувяк?..
Ничего из этого не получится!..
Резко прекращает песню.
Ничего из этого не выйдет…
ЭНИСА. Почему не выйдет? Для чего я вернулась домой из такой дали, если из нашего праздника не получится праздник, если из нашей жизни не получится жизнь? В чем моя вина, если я появилась на свет в этот страшный день? Я хочу жить, как человек, как женщина. Мне надоели смерти, войны, голод, холод! Я не хочу умереть, хоть раз от души не посидев на празднике. Мне нужны свет, тепло, жизнь. Мне хочется здесь, на своей земле, где жили семь поколений моих предков, жить, растить детей, быть счастливой…
БЕРД. Если ты так этого хочешь, то зря ты сюда пришла. Надо было тебе оставаться с этими псами, жирея от их каши, поправляя цвет своей кожи!
ЭНИСА. Не говори так… Ты думаешь, добираясь сюда из того далекого края, я не нашла места, где поесть можно было, не нашла мужчин? Много нашла – узкоглазых, синеглазых, черноглазых… Однако, не приближаясь к ним, избегая, пришла домой… Я знала, что нужна, чтобы сострадать этой опустевшей земле, чтобы плакать по душам уничтоженных здесь, тем, кто ходит по этим холодным ущельям, по-волчьи воя от большого горя, помочь словом, пищей, песней – всем, чем могу. Я знала, что нужна… Я не знаю, почему разрушился этот мир для вайнахов, почему люди сошли с ума?! Я не могу этого понять. Но как бы то ни было, я не хочу так умереть. Я много видела умерших по пути из Чечни в Сибирь, а скольких потеряли там… Но никто из них не вернулся обратно, не ожил. Поэтому, оттолкнув все невзгоды, страдания, я хочу жить здесь вместе с вами… Если Всевышний сотворил меня, то лишь для того, чтобы я узнала этот мир, эту жизнь! Поэтому я буду жить, не принимая на себя тяжесть, которую не вынесу. Когда захочется плакать, буду смеяться, вот так – ха-ха-ха! Я буду петь, я буду танцевать – вот так, вот так!
Поет песню, кружится в танце, все стоят ошеломленные ее танцем.
Пары обуви нам хватит на двоих,
Одной черкески нам хватит на двоих,
С вершины холма оглядываясь на аул,
Из страха, что нас молодые догонят,
На равнину спускаясь, слушая землю,
Из страха, что старшие в погоню пустились…
Кружится в танце, не прерывая песню. Долго танцует. Все вошли в азарт от танца. На некоторое время все забыли о Беде.
… Вдвоем убежим мы, вдвоем убежим мы,
Родителей наших мудрые старцы
Речами искусными с нами примирят.
Эниса неожиданно прекращает и танец, и песню. Присев в углу, громко плачет, изливая всю боль и страдания. Так проходит долгое время.
АРЗУ. Сжав кулаки, скрипит зубами. Как страшно, когда плачут наши девушки, а мы, мужчины, стоим беспомощные!
ТОВСОЛТА. Какая помощь? Что в наших силах? Вы и теперь не понимаете? Наш мир разрушился! Нет здесь больше чеченской нации, нет мужчины, нет девушек! Нас уничтожили!
БЕРД. Не говори так. Чеченская нация была и будет здесь.
ТОВСОЛТА. Где? Где она теперь?!
БЕРД. Вот здесь я, ты, она, он.
ТОВСОЛТА. Какая из нас нация? Из меня, превратившегося в собаку, из тебя, гонимого, как лань, из калеки-солдата, из одинокой девушки?!
БЕРД. Мы покончим с этими собаками, убивая по одной тысяче каждый день. Потом…
ТОВСОЛТА. Вы не слушайте его! Если хотите жить, уходите в Грузию, там есть чеченцы. Поменяйте свои фамилии, заводите семьи, начните новую жизнь.
АРЗУ. Я никуда не пойду.
ЭНИСА. Я тоже не пойду.
ТОВСОЛТА. Если не уйдете, то вы оба погибнете или от голода, или от выстрела из-за какого-нибудь камня.
В это время кто-то стучит в дверь. Мужчины хватаются за оружие. Все, напрягшись, смотрят на дверь. Спустя продолжительное время дверь открывается.
АРЗУ. Дверь открылась.
ТОВСОЛТА. Ничего не видно.
БЕРД. Эй, кто там? Заходи, не робей, если ты такой же обездоленный, как и мы.
Тишина, затем лают собаки.
ТОВСОЛТА. Это собаки нас окружают.
Проходит много времени.
БЕРД. Не джинны ли это?
ЧОВКА. Коза-козочка домой пришла,
Малышу молока принесла.
БЕРД. Я посмотрю и приду.
Выходит за дверь. Слышно, как во дворе блеют баран и коза.
Берд, не задерживаясь, заскакивает обратно. Его глаза сияют от радости.
БЕРД. К нам пришли гости!
ТОВСОЛТА. Какие гости?
АРЗУ. Почему они не заходят?
БЕРД. Это не простые гости.
ТОВСОЛТА. Кто? Кто там?
БЕРД. Те, кто целый год оставались и душой, и хозяевами этого села…
АРЗУ. Кто такие? Заходите в дом!
БЕРД. Они не люди. Човка правду говорила.
Все удивленно затихают.
ЧОВКА. Они – это коза и баран.
Коза-козочка домой пришла.
Мамин малыш, не плачь.
Все с недоверием смотрят на нее.
БЕРД. Дверь сарая осталась незапертой, оказывается, они там проводили ночи. Интересно, что они не испугались меня: и коза, и баран подошли ко мне, ласкались, терлись об меня.
ТОВСОЛТА. Значит, у нас есть еда на целых две недели, которая сама пришла и стоит у нашей двери.
ЭНИСА. Я приготовлю жижиг-галнаш.
АРЗУ. А кукурузная мука есть?
ЭНИСА. В моей сумке есть одна горсть.
АРЗУ. Там, на войне, когда я лежал раненый, в госпитале – это место, где проходят лечение раненные на войне, – я всегда представлял, как во сне: вечером собирается вся семья, сваренное мясо в большой чаше, мать, достающую кукурузные галушки, на дворе темнеет, в доме распространяется запах чеснока… Со слезами на глазах отворачивается.
ТОВСОЛТА. Берд, если зарежешь их ты, наверняка, мясо будет вкуснее. Ты же учился мусульманскому учению, знаешь, на какой стороне Кааба.
ЧОВКА. Нет-нет, не убивайте их! Этот баран принадлежит Элмарзе, жившему вон за этой пашней. Он умер в далеком краю от холода. Его душа, вернувшись домой, ходит с этим бараном …
Коза принадлежит Кюри – хозяину этого дома. В этом солнечном мире у него ничего не осталось, кроме этой козы. Не ешьте их. Их души сильно огорчатся …
Все стоят, затихнув.
ТОВСОЛТА. Она ведет свои дурацкие разговоры.
БЕРД. Медленно, но предупредительно. Мне кажется, что Човка правильно говорит. Это не наша еда.
АРЗУ. Если мы их не съедим, то они сами умрут от голода.
БЕРД. Они жили целый год, не погибнув от голода…
ТОВСОЛТА. Какие-нибудь звери съедят их!
БЕРД. Они целый год ходили, спасаясь от зверей…
АРЗУ. С тех пор, как сотворен мир, человек ест животных.
БЕРД. Как сотворен мир… Люди ушли из этого села, они жили целый год, став хозяевами и душой этого села и не попадали в лапы зверей и людей. Мы лучше умрем с голода, не набивая животы мясом этих божьих тварей!
В доме устанавливается тишина.
Вы подумали, а каково им было, смотреть вслед, когда из села уводили всех людей? Они теперь не только животные! Эти животные сами, как люди, они, подобно человеку, думали о живших здесь, тосковали по ним.
ТОВСОЛТА. Сказки! Слушайте, сказки этого сумасшедшего нас не насытят! Более того, какое ты имеешь право решать, не спросив мнения других?
БЕРД. Спроси тогда…
Берд и Товсолта поворачиваются к двум другим. Некоторое время стоит тишина.
АРЗУ. Мы устали и голодны… Резать животных Всевышний человеку разрешил и за грех это не считается…
ТОВСОЛТА. Да, да. За грех не считается…
АРЗУ. Но все-таки, то, о чем говорила Човка, мне кажется, имеет какую-то тайну, оно задело мое сердце. Я согласен сидеть голодным…
Устанавливается тишина.
ТОВСОЛТА. Тогда вы умирайте с голода, а я нет! У меня есть некоторые дела на этом свете, которые нужно завершить!
ЧОВКА. Не убивай козу-козочку, жалко ведь этого малыша. Она малышу дает молоко. Ты не видишь, Малыш плачет? Малыш, малыш, не плачь…
ТОВСОЛТА. Убирайся с моей дороги, ведьма, вместе со своей тряпичной куклой!
Вырвав у Човки и ударив о землю, выбрасывает «ребенка». Переворачиваясь, откатывается камень, который был завернут в тряпку…
Все, кроме Товсолты, стоят в ужасе.
ЧОВКА. О Аллах! Убил-таки он малыша… Убил-таки…
Плачет. Затем, встав, медленно выходит. Проходит довольно много времени, пока один из них заговорил.
БЕРД. Човка! Ты что делаешь, Човка?!
Берд выходит, вслед за ним и Арзу. Со двора слышны голоса Берда и Арзу, зовущие «Човка!
В-о-о, Човка!» Они удаляются. Обернувшись, Товсолта видит Энису, сидящую в углу.
ЭНИСА. И вправду, ты хочешь насытиться ими?
ТОВСОЛТА. Хочу! Хочу! Ты не веришь? Я же такой. И не нужно мне сострадания ни одного из вас! Я не буду в этом холоде умирать еще и от голода. Если захочу, сейчас же уйду к «своим»: и еда есть, и питье есть, и власть есть…
ЭНИСА. Иди тогда, почему же не уходишь?
ТОВСОЛТА. Резко меняя голос. Ты затем возвратилась из далекой Сибири домой, чтобы мою отравленную жизнь отравить еще больше?
ЭНИСА. Я возвратилась не тебя увидеть …
ТОВСОЛТА. Зачем? Зачем? Еще не достаточно твоему сердцу моих страданий? Был ли на земле, человек несчастнее меня?!
Тот платок, что дала ты мне в знак верности, я всегда носил рядом со своим сердцем…
ЭНИСА. Да, в то время ты был желанным для меня, я любила тебя… Очень красиво смотрелись на тебе эта фуражка с козырьком, эти ботинки, эта форма. Ты ни на кого не был похож…
Эниса в воспоминаниях уходит в прошлое. Слышны песни, голоса молодых…
Вторая часть
Декорации те же, что и в первой части. Из воспоминаний Эниса возвращается в действительность. Картины прошлого отходят.
ЭНИСА. Люди недолюбливали тебя. Потому что ты был лучше их, так мне казалось. Однако тому была другая причина. Я не знала… Ты ни на кого не был похож, не было причин быть недовольной тобой. Я не только платок – сердце свое отдала тебе…
ТОВСОЛТА. Ну так что? Я клянусь тебе самым святым, что, кроме мыслей о тебе, я ничем не дорожил на этой земле…
ЭНИСА. Потом арестовали моего отца. Мне казалось, что это какая-то ошибка, что ты через несколько дней отпустишь его домой…
ТОВСОЛТА. Это было не в моей власти.
ЭНИСА. А приходить ко мне было в твоей власти? Тебя с тех пор я и не видела. А раньше ты появлялся каждый день. Я же знаю, почему ты не приходил. Боялся, что скажут: ухаживает за дочерью «врага народа». Трус!
ТОВСОЛТА. Не поэтому я не приходил. Неудобно было. В ту ночь с пришедшими за твоим отцом был и я. Поэтому сердце не позволяло…
ЭНИСА. Как?! Как у тебя язык поворачивается говорить мне об этом?
ТОВСОЛТА. Приказ! Я не мог не выполнить приказа.
ЭНИСА. Выполняя приказ, ты погубил дочь Хазбики – Альбику?!
ТОВСОЛТА. Не говори об этом, Эниса… Сколько всего, чего ты не знаешь? Нет места в нашем краю, где я не совершил греха. Ходил обманутый… Раньше думал, что занимаюсь каким-то делом, позже понял. Отступать уже было невозможно, я был как щепка, которую несет поток. Когда опустел весь этот край, я понял…
ЭНИСА. Поздно ты понял.
ТОВСОЛТА. Я знаю. Но все-таки я понял! Я понял, что нахожусь в глубоком колодце, который сам себе вырыл. Так нет ли возможности мне выбраться оттуда? Если бы я каждый день раздавал милостыню, совершал намаз, каждый день стоял на коленях перед тобой, ты простила бы меня?
ЭНИСА. У меня нет сил тебя простить. Попроси прощения у Аллаха.
ТОВСОЛТА. Прости меня ты! Без твоей помощи у меня не хватит сил выкарабкаться из этого колодца.
ЭНИСА. На мою помощь не надейся…
ТОВСОЛТА. Я сделаю все, чтобы сделать тебя счастливой. Я насыплю на камни землю, буду растить сады для тебя. Я все сделаю ради тебя… Если ты хочешь, вместо каждого совершенного мной зла буду убивать по одной собаке из тех, что гоняются за нами…
ЭНИСА. Ради меня никого не убивай. От моего прощения ничего не изменится: слишком велико зло, совершенное тобой. Аллах да простит тебя…
ТОВСОЛТА. Чтобы ты говорила «Аллах да простит», я еще не умер. Не говори так Эниса… Если останешься с этими дураками, ты умрешь от голода, не узнав, что такое жизнь. Не всюду голод и холод, не всюду и война. Вон, через эти горы Грузия – рай, где никогда не наступает зима; там живут и вайнахи. Мы вдвоем уйдем туда, изменив фамилии, будем жить, как люди, не спасаясь в этих замерзших болотах, бегая от собак. Ты согласна? Этот калека-солдат не тот орел, за которого ты его принимаешь, хотя ты ему и смотришь в рот. Он никогда не наладит твою жизнь, сделав из тебя хозяйку дома. А я устрою все. Пошли, уйдем отсюда сейчас же. Оставь этих двоих заботиться о загубленном крае.
ЭНИСА. О чем ты говоришь?
ТОВСОЛТА. Я знаю, почему не соглашаешься. Из-за этого Арзу… Если бы он не повстречался тебе, ты от меня не отстала бы. Да, да, не старайся остановить меня – это так. Я хорошо изучил людей. Я видел приходившего с доносом на своего брата. Видел людей, из-за денег, должностей продававших своих отцов и матерей. Продавших свой народ из-за жирной каши, руководящих постов, тоже видел… Ты, Берд, и этот глупый солдат, не прикидывайтесь ангелами. Вы тоже ничем не лучше тех. Вы поступили бы так же. Кто вы такие, чтобы прощать меня или не прощать, или устраивать надо мной суд? Никто. По-хорошему люди не понимают. Закрывает дверь. Ты по нашим законам с тех пор, как дала мне платок в залог, являешься моей женой. Поэтому я сейчас закреплю свои супружеские права…
ЭНИСА. Ты – бесчестный!
ТОВСОЛТА. Да, кому нужно мое благородство?
ЭНИСА. Даже если никому, человек должен иметь его.
ТОВСОЛТА. Не такое это время, чтобы разбираться, благородный я или нет. Хоть ты и не согласна, но будешь моей женой. Я знаю, что тебе нужно. Ты сама этого не знаешь. Потом поймешь, что я был прав. Тебе нужно…
ЭНИСА. Что мне нужно?! Я сама лучше знаю!..
Увидев, что Товсолта приближается, испугавшись, вжимается в угол.
ТОВСОЛТА. Тебе нужен кров, хозяин дома… Сейчас я… Тогда, смирившись, тебя отдадут мне… Им больше ничего не останется. Берд оформит этот брак по нашим обычаям.
ЭНИСА. Не приближайся! Стоит в углу, взяв ружье.
ТОВСОЛТА. Потом мы с тобой уйдем, перейдя горы…
ЭНИСА. Не подходи ко мне, я застрелю тебя!
ТОВСОЛТА. Ты думаешь, что я испугаюсь ружья? Нет, не знаешь ты меня. Много раз смотрело мне в глаза это дуло.
ЭНИСА. Ради Всевышнего, не делай больше шага в мою сторону!
ТОВСОЛТА. Один шаг сделаю, два шага сделаю…
Усмехаясь, приближается.
ЭНИСА. Да будь проклята твоя могила, если ты сделаешь еще один шаг!
ТОВСОЛТА. Без могилы я не останусь – земля большая.
ЭНИСА. Постыдись своего отца Эдилсултана, которого уважали во всем крае.
ТОВСОЛТА. Это все давно прошло.
ЭНИСА. Я снимаю платок, умоляя тебя!
Снимает платок с головы.
ТОВСОЛТА. Эти волосы…
Приближается. Слышна песня, в глубине сцены появляются бойцы НКВД.
ЭНИСА. Отпрянув назад. Не надо… Не надо…
Раздается выстрел. Товсолта опускается на землю.
ТОВСОЛТА. Убила все-таки ты меня..
ЭНИСА. Ты?.. А-а-а, на помощь!
ТОВСОЛТА. Не нужно… Теперь помощь не нужна.
ЭНИСА. Я убила тебя…
ТОВСОЛТА. Нет, нет, это я сам… Давно я этого искал… Ты прости мою душу. Свою кровь тебе я прощаю…
ЭНИСА. Я не хотела! Я не так хотела!
Падая на колени, плачет. В этот момент забегают Берд и Арзу. Песня усиливается.
БЕРД. Что случилось? Ты?!
ЭНИСА. Плача. Я… Нечаянно! Он не оставлял меня…
АРЗУ. Как? Почему?
БЕРД. К АРЗУ. Иди сюда, повернем его к Каабе. Они вдвоем выполняют ритуал.
Бисмилах1иррохьманиррохьийм. Ясийн валкъур1анил хьакийм…
Берд читает Ясин. Товсолта умирает. Закрыв ему глаза, Берд встает.
Аллах да простит тебя!
АРЗУ. Амин.
Некоторое время стоит тишина. В углу, жалобно плача, сидит Эниса.
БЕРД. Давно он ее искал…
АРЗУ. Что? Кто?
БЕРД. Он, Товсолта, эту свою смерть…Тишина. Я-то оберегал его, что бы он ни говорил. А эта… В момент, пока мы отлучились, не удержалась…
ЭНИСА. Он пытался обесчестить меня…
БЕРД. Надо было отговорить.
ЭНИСА. Я умоляла, упоминала его отца, падала на колени, сняла платок с головы…
БЕРД. Надо было убежать!
ЭНИСА. Он затворил дверь..
БЕРД. Должна была лезть вверх по стене! Выскочить из окна! Потом, кто тебе дал право убивать человека?
АРЗУ. Эниса, как ты могла?
ЭНИСА. Мне ничего не оставалось..
БЕРД. В этом опустевшем краю нас было всего пятеро чеченцев… Каким бы он ни был, он происходил из нашего народа. Что улучшится, если мы уничтожим друг друга? Наоборот, мы должны были заботиться друг о друге, не обращая внимания на плохое, замечая только хорошее. Нет, все это напрасно… Из этого ничего не получится… Великий Аллах! Что произошло с нами, чеченцами? Существуем в этом обезумевшем мире, в этот страшный день, не очищаясь, уничтожая друг друга! Почему между нами нет согласия, любви? Кто научил нас предавать, уничтожать друг друга?!
Наклонившись над Товсолтой, плачет.
АРЗУ. Страшное дело. Что бы сделать такого, чтобы исправить это все… Письмо! Надо написать письмо… Достав бумагу и карандаш, садится. Его нужно немедленно отправить в Москву. Самая великая и самая умная партия – это ВКПб. И лидером, и вождем всех народов является наш отец Сталин!
БЕРД. Что ты сказал? Великая партия?! Проклятая Аллахом партия!
АРЗУ. Надо так написать. Если так не напишем, они ничего не предпримут. Ленин установил эту власть для бедных …
БЕРД. О чем ты говоришь? Кому какое дело до бедных? Ты не слышал, что он говорил? Показывает пальцем на Товсолту. Взяв у него письмо, порвав, выбрасывает. Возьми чистую бумагу. Пиши то, что я скажу. Арзу берет бумагу. «Сталин», вернее, «сукин сын»!
АРЗУ. Ты, ты что говоришь? Нельзя так писать!
БЕРД. Можно! Я знаю, на каком языке надо разговаривать с собаками! Пиши…. «Если ты мужчина, то определи место, там мы с тобой разберемся, кто мужчина, а кто нет. Ты почему издеваешься над женщинами, детьми, стариками? Если ты горец, если ты человек, то возврати их обратно домой. Если у тебя есть причина разобраться с чеченцами, то разбирайся с нами, мужчинами. Если кто-то из нас у тебя или у твоего отца, или у твоих родственников угнал стадо, похитил невесту, тоже скажи. Мы возвратим и стадо, и невесту… Но не стремись уничтожить наш род. В случае, если ты не выполнишь то, о чем я говорю, то я клянусь именем Всевышнего, что тебя, подонка, сына ублюдка…»
АРЗУ. Нет-нет, не говори так, так писать нельзя, неудобно…
БЕРД. Пиши, я знаю, что говорю: «подонка убью выстрелом в лоб… Верны ли мы, чеченцы, своему слову или нет, ты, наверное, знаешь. О свершенном Зелимханом из Харачоя суде над собаками твоего типа, наверное, ты тоже слышал… Написал тебе это письмо – я, Берд, сын Сосланбека …»
АРЗУ. Добавь еще…
В это время на улице поднимается шум: «Не останавливайся, иди быстрее» – голос офицера. Лай собак.
АРЗУ. Берд! Берд! Они пришли! Быстрее!
Берд, вскочив, хватает ружье, выходит вперед.
БЕРД. Идемте. Пойдем в эту сторону.
Они уходят. Через короткое время туда приходят офицер НКВД, солдаты, ведут впереди Човку.
ОФИЦЕР. Рассказывай. Что ты делала, когда крутилась вокруг этого дома?
Бьет.
ЧОВКА. Ничего.
ОФИЦЕР. Тогда зачем ты пряталась?
ЧОВКА. Я птица, ищу крышу, чтобы спрятаться от вьюги.
ОФИЦЕР. Это что у тебя на голове?
Берет фуражку.
ЧОВКА. Не знаю.
ОФИЦЕР. Не знаешь? Солдатам. Это фуражка от нашей формы, снятая с убитого. Видите: здесь есть отверстие от пули. Кого ты убила?
ЧОВКА. Никого не убила, моего малыша убили…
ОФИЦЕР. Это что за малыш?
Солдат. Она ведь женщина! Старая, немощная. Как она убьет человека?
ОФИЦЕР. Молчать! Не женщина, а ведьма, ведьма! Ведьма хоть что сделает.
Пройдясь по комнате, цепляется ногой за лежащего на полу Товсолту. Что это такое? Направьте фонарь.
Солдаты наводят фонарь.
Один из солдат, удивившись. Этот? Эдилсултанов?
ОФИЦЕР. Тьфу, предатель! Бьет ногой. Кто его убил?
ЧОВКА. Он убил моего малыша…
ОФИЦЕР. Возьмите, выкиньте его, чтоб была еда воронам. Собаке – собачья смерть.
Содаты выбрасывают Товсолту за дверь.
ОФИЦЕР. Так, откуда ты взялась? Почему ты не в Средней Азии?
ЧОВКА. Я божья птица – вольна лететь хоть куда.
ОФИЦЕР. Говоришь, птица ты? Ну, тогда взлетай!
Наводит пистолет.
ЧОВКА. Мне сломали крылья, моего малыша убили… Я стала камнем…
ОФИЦЕР. Камень ты, говоришь? Хочешь стать еще более твердым камнем? Гранитным камнем? Човка, не понимая, о чем речь, издает звук «А-а-а». Хочешь? Хочешь? По твоим глазам вижу, что хочешь этого…
Човка внезапно пускается в зикр. Спустя некоторое время так же внезапно прекращает, начинает молитву.
ЧОВКА. Тобой сотворенный мир – Вселенная.
Тобой сотворенные животные, люди,
Тобой сотворенные растения, травы, деревья,
Тобой сотворенные звери, птицы,
Тобой сотворенное все горем охвачено…
ОФИЦЕР. Хватит! Молчать! Теперь я вспомнил ее: шаманка, которая просила дождя… Бойцы! Слушайте мой приказ! Оперативно покончить с этой ведьмой и строиться в колонну. У подножия этой горы я заметил еще один свет. Спешите его уничтожить.
Човку быстро ставят у стены. Однако солдаты не успевают ее расстрелять. Берд и Арзу начинают стрелять. Човка исчезает.
ОФИЦЕР. Это засада! Измена! Быстро отходите!
Офицер и солдаты удаляются.
БЕРД. ЧОВКА. Я же слышал голос Човки… Човка!
АРЗУ. Човка! Човка!
БЕРД. Неужели они убили ее?
АРЗУ. Я не слышал выстрела.
БЕРД. Не отсюда ли они сбросили ее в обрыв? Подойдя к краю обрыва, смотрит вниз. Човка!
ЭНИСА. Човка! Где ты, Човка?
БЕРД. Разозлившись. И ее они убили… Великий Аллах, если они и ее убили, невинную, как рыба в воде, зачем ты позволяешь им ходить по этой земле? Всевышний, помоги мне их уничтожить! Я укорочу их жизнь в этом мире. Арзу, забота об этой девушке и об этом крае с этих пор лежит на тебе. Да поможет тебе Аллах!
АРЗУ. Я тоже иду с тобой…
БЕРД. Нет-нет, позаботься о ней… А ты, девушка, прости меня. Эниса не отвечает. Берд выходит.
ЭНИСА. Шепотом. Пусть Аллах тебе поможет!
АРЗУ. Мечась по комнате. Опять мы остались с тобой вдвоем! Все ушли, как будто их и не было. Или это был сон? О-о, как ты долго длишься, сон! Когда ты закончишься? Когда? Синим пламенем гори ты, земной шар, синим огнем! Нога задевает сумку, он, достав из нее письма, разбрасывает их. Да пропади вы пропадом! Вы тоже были напрасны… Вот вам – улетайте, став птицами, голубями в метели, прося по всему миру помощи нам, рассказывая всем людям об этом страшном дне. Улетайте!
Открыв дверь, выбрасывает письма на воздух. Затем, устав, приседает. Проходит некоторое время.
АРЗУ. Извини меня, Эниса.
Тишина. Затем поднимается громкий шум, лай собак, топот окружающих дом людей.
Ложись на землю…
Тут раздаются выстрелы: в окно, еще один, другой. Затем слышен топот ног, удаляющихся от дома солдат. Гаснет свет. Они вносят труп Товсолты. Потом долго стоит тишина.
АРЗУ. Эниса, ты жива? Тишина. Отзовись!
ЭНИСА. Да, жива.
АРЗУ. Куда делся этот светильник?
Эниса зажигает лампу.
ЭНИСА. Что мы с тобой будем делать?
АРЗУ. Я в этом полу вырою могилу кинжалом. Похороним его. Потом уйдем туда, где нас не достанут эти собаки.
ЭНИСА. Есть ли такое место?
АРЗУ. Конечно, есть. Должно быть…
ЭНИСА. Мы с тобой уйдем в Грузию?
АРЗУ. Нет, будем жить здесь… Поднявшись вон на те горы, где ходят только горные туры…
ЭНИСА. Я завидую умершим.
АРЗУ. Если все умрут, то кто тогда будет жить?..
ЭНИСА. Я помогу тебе.
АРЗУ. Нет, женщинам нельзя копать могилы.
Тишина.
ЭНИСА. Кажется, прояснилось на дворе…
АРЗУ. Похоже, что показалась луна. Начинает копать.
ЭНИСА. Если пойдем по этому лунному свету, они будут стрелять в нас.
АРЗУ. Мы с тобой уйдем на рассвете. В это время все живое засыпает… Теперь иди сюда, помоги поднять его.
ЭНИСА. Произнеси священные слова, прежде чем поднять его.
Они вдвоем, подняв Товсолту, укладывают в яму.
АРЗУ. Великий Аллах, не сочти за грех… И могила не получилась, как положено. Сделали, что в наших силах.
ЭНИСА. Да простит тебя Аллах.
Тишина. Арзу засыпает могилу. Затем читает молитву.
ЭНИСА. На дворе проясняется.
АРЗУ. Светает.
В этот момент рассветную тишину нарушает голос Берда, призывающего к намазу.
ЭНИСА. Что это, Арзу?
АРЗУ. Берд… Оказывается, он пошел в мечеть.
Берд еще призывает.
ЭНИСА. Что он делает? Они же убьют его!
Берд по-прежнему призывает.
ЭНИСА. Посмотри, все кажется, как раньше, будто ничего не случилось. Плачет.
АРЗУ. О Всемогущий, зачем ты дал нам это горе?..
Затем оба, затихнув, сидят, слушая призывы Берда. Раздается выстрел, второй… Голос Берда прерывается.
ЭНИСА. Они убили его, Арзу!
АРЗУ. Убили… Да простит его Аллах!
Читает молитву. Слышна песня в мужском исполнении.
Мы с тобой должны уйти отсюда. Попробуем похоронить Берда, вернувшись завтра ночью.
ЭНИСА. А что будем делать с животными?
АРЗУ. С ними? Козу и барана зарежем… За упокой души Берда, Товсолты и той женщины. Их троих нельзя оставить без жертвоприношения. Это будет жертвоприношение и по изгнанным с родной земли в чужие края…
Выходит.
АРЗУ. Подойди, помоги мне.
ЭНИСА. Сейчас, сейчас…
Плача, выходит.
АРЗУ. Держи голову… Сильнее… Вот так. Бисмиллах1иррохманиррохьийм… По этим двум погибшим, по тем, которые умирают от голода, холода в чужом краю, да будешь ты жертвоприношением. Всевышний, не посчитай за грех! Сейчас мы с тобой принесем в жертву барана. Куда он делся?
Оба ищут его вокруг дома. Куда он делся?
ЭНИСА. Не образ ли его мы видели?
АРЗУ. Какой образ? Это же был баран.
ЭНИСА. Човка говорила, что это дух. Этот дух, наверное, ушел, превратившись в видение…
АРЗУ. Это какие-то тайны Аллаха. Разделаем эту козу и уйдем.
Проходит некоторое время. Слышно, как Арзу разделывает тушу.
ЭНИСА. Некому даже раздать жертвенное мясо.
АРЗУ. Мы его съедим, и оно станет милостыней по этой земле… Идем, уходим отсюда. Уходят.
Спустя некоторое время приходят работники НКВД. Их семеро, один из них – офицер. Они тщательно обыскивают дом. Натыкаются на похороненного в полу. Разбросав землю, обнаруживают его. Все уставились на него.
ОФИЦЕР. Теперь все ясно: похоронив этого, другой пошел в мечеть. Значит, он был последним. Вдруг обращает внимание на письма. Что такое? Развернув одно, читает. Письмо. Смотри-ка, и писать научились эти звери. Да-а, дрессировкой и обезьян можно чему-то научить.
Читает письмо. «Вождь всех бедных людей планеты, наш отец Сталин…» Ха-ха, не для вас он отец. Бандиты! Письмо аккуратно прячет в папку. Берет второе письмо. Так-так, что же в этом письме?… «Не Сталин, а сукин сын» Что-о? Грязные твари! Испуганно оглядывается вокруг, зажав рот рукой, чиркнув спичкой, сжигает письмо. Солдаты, взорвать этот дом! Он больше не нужен. Для этих зверей он был хорошим капканом! Отходя в сторону, закурив сигарету, садится. Раздается грохот взорванного дома. Затем некоторое время стоит тишина. Все! Наконец мы добили волков! Пишет, читая, рапорт.
Высшему начальнику НКВД
Рапорт
Я с большой радостью сообщаю вам:
Сегодня, 21 февраля 1945 года, горы Северного Кавказа полностью очищены от врагов народа, так называемых чеченцев. С этих пор дорога к светлому будущему – коммунизму – открыта без всяких препятствий, и свободно пролегает по этим диким, но удивительным горам…
Слышится вой волков. Офицер и его товарищи стоят ошеломленные. Вой превращается в напев. Это напев Арзу.
Да будь ты неладен,
О солнечный мир,
Как много тобой ожиданий обмануто,
Как много надежд тобою погублено…
ОФИЦЕР. Тьфу, проклятье! Вперед!
Бегом скрываются.
Через несколько дней. Площадь перед районным отделением НКВД.
Выстроившись, стоят солдаты НКВД. Перед ними произносит речь офицер.
Офицер Солдаты! Львы революции! Я от всего сердца поздравляю вас с великим днем Красной Армии! Наши славные войска, сломив сопротивление фашистских захватчиков, идут на Берлин. А мы здесь выполняем свой священный долг, уничтожая врагов, которые находятся за нашими спинами. Этим самым мы вкладываем и свою долю в уничтожение фашизма. В этом мы достигли больших успехов.
Теперь, выйдя ночью, можно наслаждаться тишиной вокруг горных вершин, которые тысячелетиями содрогались от диких голосов. Нет ни одного огонька, зажженного врагами народа, стоит такой приятный сердцу мрак в Аргунском ущелье. Это результат нашей революции, неустанной борьбы, храбрые львы.
Сегодня, в этот великий день, я вручаю вам за погашение всех огней врагов народа в этих диких горах, за установление тишины и тьмы высокие правительственные награды: ордена и медали…
Играют марш. Офицер нескольким солдатам прикрепляет к груди ордена и медали. Радость солдат. Слышно: «Ура! Ура!» После награждения солдаты поют песню:
Вставай! Смирно! Вперед!
Оглушая мир, труби в трубу!
Во весь голос мы скажем:
Кто был никем,
Тот станет всем,
Кто кем-то был,
Того мы уничтожим!…
Шагая в ногу, они удаляются.
* * *
Наступила весна. Место, где взорван дом. Расцветающий сад. Появляются Арзу и Эниса.
АРЗУ. Весна наступила, будто ничего не случилось.
ЭНИСА. Будто ничего не случилось… Не продолжая этого разговора, останавливается.
АРЗУ. Эниса, ты согласна, если буду жить в пещере – стать хозяйкой моей пещеры, если буду жить в доме – стать хозяйкой моего дома, если разожгу огонь – стать хозяйкой моего огня?
ЭНИСА. Я согласна стать хозяйкой и твоей пещере, и твоему дому, и твоему огню. Я всегда буду поддерживать огонь в твоем жилище, не давая ему погаснуть.
АРЗУ. Я буду крышей, сделанной на этом жилище, чтобы ни дождь, ни метель, ни ветер не смогли погасить в нем огонь.
ЭНИСА. Если ты будешь крышей, то я буду ее опорой.
АРЗУ. Ты – моя добрая земля.
ЭНИСА. Ты – мой высокий свод небес.
АРЗУ. Я со своего неба пошлю на тебя благодатный дождь.
ЭНИСА. Я на своей земле выращу добрый урожай.
АРЗУ. Я соберу этот урожай и, намолов зерно, заготовлю много муки.
ЭНИСА. Тогда я из нее буду готовить священную пищу.
АРЗУ. Мы с тобой создадим прекрасный дом.
ЭНИСА. В нем – прекрасную семью…
АРЗУ. Как когда-то Адам и Ева положили начало человеческому роду, мы с тобой в нашем краю положим начало достойному наследству нашего народа.
Собираясь что-то сказать, Эниса задумывается. Проходит немного времени.
ЭНИСА. Потом наш народ вернется домой. Вернется?
АРЗУ. Да, вернется. Невозможно, чтоб не вернулся. Пусть Аллах сделает тебя счастливой!
ЭНИСА. Пусть Аллах сделает счастливыми нас обоих!
В это время раздается усиленный через репродуктор голос офицера НКВД.
Голос офицера. Волки, произошедшие от людей, сдавайтесь! Даю слово офицера, что вас оставят в живых. Вас будут содержать в лучшем зоопарке страны, не разлучая друг с другом, с четырехразовым питанием, один раз – баранина. Будете жить в железной клетке, люди будут приходить, чтобы посмотреть на вас. Сдавайтесь! Для вас же лучше, чем жить без теплого жилья на ночь, без еды, убегая от нас. Сдавайтесь! Если не сдадитесь, мы беспощадно уничтожим вас обоих!
Арзу и Эниса уходят. Проходит несколько дней.
ЭНИСА. Гнездо курицы на крыше разорил ты,
Дорогу детей к гнезду разбил ты,
Сталин, нашу жизнь поломал ты,
О Боже, да положат тебя в гроб…
АРЗУ. Что это за песня?
ЭНИСА. За то, что спела эту песню, одну девушку там, в Сибири, посадили на пятнадцать лет. А того, кто ее слушал и пролил слезу, отправили на десять лет в холодный край, где вообще нет солнца…
АРЗУ. Так… А мужчин не было?
ЭНИСА. Мужчины старались помогать обессиленным людям. Были и те, что перестали быть мужчинами. Люди сильно тосковали по нашей земле. Как сильно они тосковали…
АРЗУ. А что если мы с тобой сделаем одно дело? Съев, сколько можем, этой земли, набив ею желудки, уедем туда. От этой земли наши люди могли бы исцелиться. Ест землю. Вот так, съев землю, мы уедем туда. Какая сладкая.
Вдруг, закашлявшись, Арзу выплевывает землю. Проходит некоторое время.
ЭНИСА. Люди должны вернуться на свою землю, домой… Землю невозможно увезти туда.
Голос офицера. Волки, произошедшие из людей! Сдавайтесь! Я даю вам слово: мы будем вас держать в зоопарке…
АРЗУ. Пойдем! Будем воевать с этими собаками, встав за тем камнем.
Зайдя за холм, начинает стрелять.
Спустя несколько дней. Появляется Арзу, который ведет впереди офицера НКВД. Руки того связаны.
АРЗУ. Не останавливайся! Быстрее! Доходят. Из пещеры выходит Эниса. Вот тот, который ходил по нашим следам, он убил Берда, из-за него пропала Човка. Дальше не будет ходить по этой земле!
ЭНИСА. Как ты его взял?
Арзу Они веселились, выйдя на окраину села…
ОФИЦЕР. Падает на колени. Не убивай меня, я ни в чем не виноват. Я только выполняю приказ! Я подневолен, у меня дома жена и дети…
АРЗУ. И жена, и дети есть? А сколько женщин и детей вы здесь уничтожили? Вы весь наш народ погубили.
ОФИЦЕР. Я этого не знаю. Я над этим не задумывался.
АРЗУ. А зачем Бог тебе дал голову, тоже не знаешь?
ОФИЦЕР. Бога нет, он ничего не может!
АРЗУ. Откуда ты знаешь, есть он или нет?
ОФИЦЕР. Знаю, что нет его. Религия – это опиум для народа.
АРЗУ. Если нет Бога, откуда ты появился?
ОФИЦЕР. Сам по себе произошел… Природа.
АРЗУ.Так зачем тебе эта голова?
ОФИЦЕР. Чтобы носить фуражку.
АРЗУ. Дулом ружья выкидывая фуражку. А теперь зачем?
ОФИЦЕР. Не убивай меня, не убивай… Я выполнял то, что мне приказывали. Я всего лишь один винтик большого механизма…
АРЗУ. Что? Что?
ОФИЦЕР. Как бы это выразить, чтобы ты понял… А-а, ты же видел большую отару овец… Я всего лишь один баран из этой большой отары. В моих руках ничего нет. Козел идет во главе этой отары. Он знает дорогу.
АРЗУ. А если этот козел бросит вас в пропасть?
ОФИЦЕР. Он нас к коммунизму, в земной рай ведет!
АРЗУ. Убийства людей приведут в рай? Или вам ад показался раем? Офицер не отвечает. Ты не только баран, а баран, у которого в мозгу завелся червь. Курчак ты…
ОФИЦЕР. Неожиданно. Не насмехайся надо мной, если убиваешь – убей. Убивай! Звери! Если и отпустишь меня, я всегда буду ходить по вашим следам, я вас всех уничтожу. Если и убьешь, то же самое будет с вами. Идущие за мной вырубят здешние леса, не оставляя ни одной палки. Взрывая горы, замуруют все пещеры, все дыры. Куда тогда собираешься идти?
АРЗУ. Ты не переживай за меня. Я найду место, куда пойти. Скажи одно: почему вы гоняетесь за нами? Кому и что плохого мы сделали?
ОФИЦЕР. Плохо то, что вы существуете на этой земле. Вы всем надоели. Вы вот здесь – подносит руку к горлу – у нас стоите, у всего мира. Вы почитали только самих себя. Поэтому получайте! Вы слишком с большим уважением относились друг к другу. Чересчур «благородной» была ваша жизнь, движения, шаги, разговор. Вы не считали никого на земле достойными вас. Поэтому случилось то, что должно было случиться. Кто не хочет слушаться, того мы заставим быть послушным! Мы вас всех уничтожим, ради куска хлеба вынудим доносить друг на друга. Кто вы такие, чтобы не считаться с нами? Вы кто такие, чтобы своих стариков почитать, как богов? При каждой встрече обниматься, как братья? Вы что, с других звезд прилетели? Теперь все это прошло! Вы тоже будете выбрасывать из дома своих старых отцов-матерей. Не разбирая, своя или чужая, жены тоже будут общими… Вы будете пить водку, есть свинину…
Арзу передергивает затвор ружья. Испугавшись, офицер снова падает на колени.
ОФИЦЕР. Не убивай меня, ты думаешь, я по своей воле хожу? Если бы моя воля, я жил бы где-нибудь далеко, куда не ступает нога человека, жил бы в лесу. Если ты меня оставишь в живых, я буду тебя слушаться. Выполню все, что скажешь. Не убивай меня!
АРЗУ. Что ты собираешься делать с жизнью, выпрошенной так, опустившись и унизившись?
ОФИЦЕР. Э-э, ты оставь мою жизнь! Это моя жизнь. Мне свою жизнь, хоть как выпрошенную, хочется сохранить. Я не герой, чтобы за слова умереть. Я больше всех слов ценю свою жизнь. Я хоть что сделаю, чтобы еще раз закурить сигарету, выпить вино… Хоть что сделаю!
Тишина. Арзу долго сидит, думая. Эниса стоит, словно превратившись в камень.
АРЗУ. Хорошо. Я оставлю тебе твою жизнь, которую ты так сильно любишь. Собачью жизнь.
ОФИЦЕР. Ты знаешь, как сладка собаке ее жизнь? Ты это у собаки спроси. Или у меня спроси.
Вновь стоит тишина.
АРЗУ. Я не убью тебя. И против твоих бывших товарищей с оружием тебя не поведу. Если и поведу, то какой из тебя будет товарищ?
ОФИЦЕР. Через некоторое время. Нет, ты отпускаешь меня, чтобы застрелить в спину.
Падает на колени.
АРЗУ. Ты думаешь, я собака из НКВД, чтобы стрелять в спину? Я без всяких хитростей отпущу тебя. Но ты должен выполнить одно мое условие.
ОФИЦЕР. Я сделаю все, что ты скажешь.
АРЗУ. У меня два письма, написанные Сталину и Ворошилову. Эти два письма ты должен доставить в Москву.
ОФИЦЕР. Два письма? Где они? Конечно, доставлю… Сразу же поеду в Москву.
Достав из своего кармана два письма, Арзу протягивает их ему.
АРЗУ. На, вот они. Но если ты мне устроишь подлость, то истинная правда, что мое верное оружие найдет тебя.
А теперь иди. Ты свободен.
Офицер уходит.
ЭНИСА. Через некоторое время. Зря ты его отпустил. Он не выполнит твое поручение.
АРЗУ. Посмотрим, что он сделает. Его убийство ничего не исправит. Уходит.
* * *
Утро. Время восхода солнца. Эниса и Арзу на берегу какого-то озера. От полученной раны Арзу очень ослаб.
ЭНИСА. Как тяжело и поздно мы с тобой нашли это озеро. Ты слышишь, это оно, мы с тобой искали его двенадцать лет!
АРЗУ. С усилием. И вправду, это оно?
ЭНИСА. Да, да, оно. Видишь пять вершин? Обрадовавшись нашему приходу, оно раздвигается.
АРЗУ. Значит, мы с тобой оказались хорошими людьми…
ЭНИСА. Оказались. Иначе это озеро исчезло бы… Я сейчас промою твою рану водой из него. Невозможно от этого не исцелиться…
АРЗУ. Не нужно. Не нужно… Ты лучше прочитай молитву…
ЭНИСА. Сейчас… Сейчас… Сначала позволь мне промыть…
Промывает рану АРЗУ. Тишина. Лучи восходящего солнца падают на озеро.
Сейчас же, с лучами солнца надо прочитать молитву… Всемогущий Аллах, во имя Твоего величия, Твоего могущества, дай возможность нашим людям вернуться на родину, возврати в наши жилища огонь, в наши дворы – детей, на наши пастбища – животных, в наши амбары – зерно, в наши сердца – доброту, в наши села – мир, любовь, благоденствие… Великий Аллах…
Не в силах продолжать молитву, Эниса садится на камни. В это самое время слышится стук колес поезда, затем голоса чеченцев.
Арзу! Арзу! Возвращаются нохчи[2]! Аллах ответил на нашу молитву! Не зря мы с тобой мучались! Слышишь, Арзу? Почему ты молчишь?…
Арзу умирает.
Арзу! Арзу-у!!!
Окаменев, Эниса неподвижно сидит возле него. В это время появляются офицер НКВД и его солдаты. Подойдя, они становятся над ними. Долго стоят. Офицер проверяет пульс у АРЗУ. Затем, достав из кармана два письма, рвет их.
ОФИЦЕР. Вот и дошли твои письма до Москвы.
Тишина.
Все! Конец этому!
Вместе с солдатами офицер уходит. Через небольшой промежуток времени появляется ЧОВКА. Она долго стоит над Энисой и АРЗУ. Затем начинает что-то шептать. В конце слышно, о чем она говорит.
ЧОВКА. Не успела я на помощь, не успела…
Тобой сотворенный мир – Вселенная,
Тобой сотворенные люди, животные,
Тобой сотворенные растения, травы, деревья,
Тобой сотворенные звери, птицы,
Тобой сотворенное все на земле –
Горем охвачено.
Мучимые жаждой, с надеждой на дождь,
Близкие к потере веры,
Теряя терпение, лишаясь ума,
Ослепнув, носятся они.
Ты, чьему великодушию нет конца,
Ты, равенство, свободу возвышающий надо всем,
Вы, для кого этот мир
Есть лишь крыло комара,
Терпения, мужества, совести дайте
Им, носящимся, ослепнув.
Ради солнца, приносящего свет на землю,
Ради гор, которые всегда принимают
На себя ветры, холода, метели,
Чтобы люди, растения, животные
Не могли озябнуть от холода,
Которые Земле не дают перевернуться,
Сохраняя ее равновесие;
Ради чистоты детских душ;
Ради очей стариков, взирающих на небо
С надеждой на Твою милость;
Ради людей, сотворенных Тобой,
Чтобы любить этот мир,
Но, не успев познать его радости,
Ушедших из этой жизни рано;
Ради подаяния обездоленным во имя Твое –
Ради всего этого
Пошли нам дождь,
Чтобы он утолил жажду всей земли,
Чтобы понеслись с гор потоки,
Очищая эти горы, равнины,
Унося этих дьяволов в самое глубокое море…
С окончанием молитвы Човки начинается дождь. Как и появилась, Човка так же незаметно исчезает. Звучит песня.
Небеса, вы прощайте,
И просторы, вы прощайте,
Прощайте, могилы родных,
Мы уезжаем на родину.
Восходы ваши мы оставляем,
Закаты ваши мы оставляем,
Мы оставляем синюю Сибирь,
Чтобы не возвратиться сюда.
С достатком, взвешенным лишь на весах,
Куда из тысячи только сто доходили
И исчезали без могил,
От отцов, матерей оторвавшись,
С надеждой, тоскою по родине,
С плачем стариков, по Жамаату тоскуя,
С плачем сестры от разлуки с братом,
Мы выживали в этой синей Сибири…
В глубине сцены появляются вагоны поезда, в их окнах – лица людей. На вершине холма стоит Эниса.
О Всемилостивый, осиротевшие семьи едут,
О Всемилостивый, от разлуки с братом обессиленная сестра едет,
Прояснись, Мать-родина, улыбаясь, ласкаясь,
Встречай возвращающихся детей твоих…
Песня становится тише. Люди в вагонах замечают Энису.
ГОЛОС 1 МУЖЧИНЫ. Смотрите, волк!
ГОЛОС 2 МУЖЧИНЫ. Он пришел нам навстречу… Ха-ха!
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ. Вай, да не умри у тебя мать, наверное, тосковал по нам…
ГОЛОС 1 МУЖЧИНЫ. Красивая будет шкура. Принеси-ка, жена, мою двустволку.
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ. Перестань, как можно в него стрелять. Грех тебе будет…
ГОЛОС 1 МУЖЧИНЫ. О чем ты говоришь, жена? Какой может быть грех, если застрелить волка?
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ. Он же пришел встретить нас, радуясь нашему возвращению.
ГОЛОС 2 МУЖЧИНЫ. По-твоему, они все понимают. Интересно! Они же звери!
ГОЛОС 1 МУЖЧИНЫ. Давай, поторапливайся, жена… Да разгневается на тебя Аллах, она дала убежать этому волку!
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ. Очень хорошо, что он убежал!
Звуки поезда, песня, дождь и плач Энисы усиливаются. Поезд останавливается, выходящие из него люди заполняют сцену.
Занавес.
1990.
Перевод с чеченского В. Вазаралиева, Т. Сергановой.
Башня, построенная на льду
Трагикомедия в 2 действиях
Действующие лица:
Исрапил
Санет – его жена
Вазраил – дядя Исрапила
Маха
Бекехат
Багор – милиционер
Завалу
Жарман
Молодой человек
Два парня
Мубарик
Незнакомец
Действие происходит в горном селе и городе Грозном в 90-х годах XX века.
Действие первое
I картина
Утро. Рассвело, но солнце еще не взошло. Исрапил с ружьем в руках лежит на топчане под навесом. Ему снится сон: «Исрапил… Исрапил… Не строй так высоко… Упадешь!» В это время он просыпается и с криком «А-а-а!» сваливается с топчана. Над ним стоит Санет.
САНЕТ. Бог с тобой! Бог с тобой! Что же это с тобой происходит? Обратись к Богу.
ИСРАПИЛ. Что же со мной?
САНЕТ. Ты кричал во сне.
ИСРАПИЛ. Ох, моя голова… Какое странное сновидение…
САНЕТ. Какое?
ИСРАПИЛ. Какой-то странный сон я видел… Я строил высокую башню из белых плоских камней… При этом чей-то голос постоянно мешал мне, повторяя, чтобы я не возводил ее так высоко… Когда я уже достроил ее, какой-то зверь, появившийся на вершине башни, скинул меня… Этот зверь был похож на волка.
САНЕТ. Пусть твой сон будет к добру. Действительно, это очень странный сон.
ИСРАПИЛ. И не говори. Не только странный, но и страшный. Я весь в поту…
САНЕТ. Если не будешь допоздна засиживаться за картами, а, совершив намаз, произнесешь имя Бога и вовремя ляжешь спать, то и кошмары перестанут сниться.
ИСРАПИЛ. Не читай мне свои проповеди, как мулла. Я еще в раннем детстве слышал: когда женщины начнут читать проповеди, наступит конец света.
САНЕТ. Тогда я прекращаю этот разговор. Нельзя же допустить, чтобы наступил конца света.
ИСРАПИЛ. Вот и хорошо. Куда подевались мои сигареты? (Ищет сигареты. В это время раздается шум. остановившейся машины.)
САНЕТ. Это Ваши[3]! Добро пожаловать, Ваши!
ВАЗРАИЛ. Мир вашему дому!
ИСРАПИЛ. Доброе утро, Ваши! Что тебя привело так рано? Ничего не произошло?
ВАЗРАИЛ. Да нет. Я выехал сразу после утреннего намаза. Просто соскучился. То, о чем я слышал, – правда?
ИСРАПИЛ. Что?
ВАЗРАИЛ. Мне рассказали, что у тебя пропали овцы.
ИСРАПИЛ. Да, за эту неделю десять.
ВАЗРАИЛ. Удивительное дело, за одну неделю пропало десять овец! А ты что, умер что ли?..
ИСРАПИЛ. Так ведь они не в один день пропали, а в разные. Пока я понял, что происходит, десятерых не стало.
ВАЗРАИЛ. Десятерых не стало… Ей богу, ты не был бы так спокоен, если б знал, что творится на плоскости.
ИСРАПИЛ. Что же там такое происходит, о чем мне неизвестно?
ВАЗРАИЛ. Голод надвигается, как волк. Килограмм мяса стоит 1000, 1500 рублей. Посчитай, какой убыток ты понес, потеряв десять овец. Это же овцы крупной породы – не менее 20 килограммов мяса выйдет с каждой. Тридцать тысяч рублей за одну! За десять – 300 тысяч!
ИСРАПИЛ. Ей богу, я старался, как мог.
ВАЗРАИЛ. И что же ты сделал?
ИСРАПИЛ. Заставил принести клятву.
ВАЗРАИЛ. Какую клятву? Кого? Что, и тебя коснулась эта болезнь – заставлять приносить клятвы всуе, где это нужно и не нужно.
ИСРАПИЛ. Без причины я никого не заставлял. Только тех, кого подозреваю.
ВАЗРАИЛ. И кого же ты заставил поклясться?
ИСРАПИЛ. Керима…
ВАЗРАИЛ. Как, слепого Керима? Тебе не было стыдно перед Богом, когда требовал от него клятвы?
ИСРАПИЛ. Он, хоть и слепой, а овцу увидит… Да и необязательно ее видеть, руками можно нащупать. И Бахарчу заставил…
ВАЗРАИЛ. Что ты мелешь?! Как одноногий Бахарча может украсть овцу?
ИСРАПИЛ. Хотя он и безногий, но мясо, как волк, любит. Еще и Багаша заставил…
ВАЗРАИЛ. Что ты несешь?! Разве Багаш, дважды совершивший хадж, станет красть твою паршивую овцу?
ИСРАПИЛ. Я не верю! Я никому не верю! Я и в себе самом сомневаюсь! Поэтому все должны принести клятву! Все!
ВАЗРАИЛ. Не кричи! Не бес ли тебя попутал? Так сколько же всего человек ты заставил поклясться?
ИСРАПИЛ. Около двадцати.
ВАЗРАИЛ. Да во всем этом селе живет человек сорок!
ИСРАПИЛ. Значит, ровно половину села я и заставил поклясться.
ВАЗРАИЛ. Вот почему они сегодня сторонились меня и не отвечали на приветствие. Здорово ты выгадал, рассорив с нами все село из-за десяти овец!
ИСРАПИЛ. А что же мне оставалось делать: вечером загоняю 32 овцы, утром их всего 31. На второе утро – 30, потом – 29. Так каждую ночь пропадает по одной овце.
ВАЗРАИЛ. Хорошо, но с чего ты взял, что их похитили люди? Может быть, волк…
ИСРАПИЛ. Нет, волк на такое не способен. Волк – герой:
В ночь, когда щенилась волчица,
Я появился на свет…
ВАЗРАИЛ. Перестань! Ты родился не тогда, когда щенилась волчица, а в июле, в самый разгар лета, в обеденное время.
ИСРАПИЛ. А ведь говорят, что волк – посланец Бога, он не трогает тех, кто не заслужил какого-либо наказания.
ВАЗРАИЛ. Что за байки ты рассказываешь? Бог тебе говорит, чтобы ты охранял свой скот, а не спал.
ИСРАПИЛ: А разве я не охраняю?
ВАЗРАИЛ. Покарауль одну ночь… Ты же служил в армии. Хорошенько сторожи, не сводя глаз со своих овец.
(Входит Санет.)
Из оружия что-нибудь в доме есть?
ИСРАПИЛ. Есть. Одностволка, которая стреляет, если дважды нажать на курок.
ВАЗРАИЛ. Эх ты, недотепа! Нынче даже безусые юнцы ходят с автоматами.
ИСРАПИЛ. А я не могу даже на час отлучиться, оставить без присмотра хозяйство.
ВАЗРАИЛ. Если даже под таким присмотром каждую ночь овцы пропадают, то что бы с ними произошло, если бы ты отлучался… Ладно, иди, попроси у кого-нибудь автомат на одну ночь: я узнаю, что это за вор залезает к тебе во двор.
ИСРАПИЛ. У кого же я попрошу?
ВАЗРАИЛ. Разве в этом селе нет ни одного милиционера?
ИСРАПИЛ. Да, есть Багор, живет на окраине села. Ему в глаз срикошетило, им он видит всего на 25 процентов.
ВАЗРАИЛ. Его и попроси.
ИСРАПИЛ. Хорошо. Он не жадный, даст автомат.
(Выходит.)
ВАЗРАИЛ. Санет, ты мне что-то хочешь сказать?
САНЕТ. Хотела бы о многом. О многом…
ВАЗРАИЛ. Говори же, облегчи свою душу.
САНЕТ. Ей-богу, мне неудобно говорить об этом, но у него, кроме тебя, Ваши, никого ведь нет… Кому же я могу еще рассказать, если не тебе?..
ВАЗРАИЛ. Так рассказывай же. Рассказывай, как на духу.
САНЕТ. Ты правильно сказал, что он не думает о хозяйстве… Не может сосредоточиться. До вечера гуляет по селу, вечерами засиживается за картами.
ВАЗРАИЛ. Так ты заставь его задуматься о хозяйстве, доме, скоте…
САНЕТ. Ничего у меня не получается… Как ты смотришь на то, чтобы мы переехали в город, купили дом рядом с вами?..
ВАЗРАИЛ. Санет, дорогая, я не против того, чтобы вы жили рядом. Но ты знаешь, сколько теперь стоит дом? Как минимум – сто миллионов… У вас есть такие деньги? У меня – нет. Это я раньше был начальником, а теперь – никто. Даже пенсию не получаю последние полгода. Еле свожу концы с концами. Допустим, что мы купим дом. Чем вы собираетесь заняться, переехав туда? Есть у вас какие-нибудь профессии?
САНЕТ. Откроем малое предприятие, как и другие…
ВАЗРАИЛ. Чтобы открыть предприятие, тоже нужны деньги. Кроме того, надо иметь какие-то способности… Да и город теперь уже не такой, каким был раньше. Похитители людей, воры, попрошайки… Каждые сутки убивают или бесследно исчезают по несколько человек. Ни стыда, ни совести. Машины разъезжают, где хотят, не обращая никакого внимания на светофор. Вода не очищается, мусор не вывозится, канализация испорчена… Там скоро эпидемия начнется. Зачем вам перебираться в этот ад, покинув здешний рай? А какой здесь воздух! Что может сравниться с ним? Не надо покупать молоко, кефир, масло, творог… Есть куры, овцы, если захочется мяса. Что еще нужно человеку для жизни?!
САНЕТ. Это-то есть – поесть, попить, но ничего больше. Машину бы купить, одежду…
ВАЗРАИЛ. Перестань, о чем ты говоришь? Как можно в наше время покупать машину? С каждым днем дорожает бензин… Скоро его совсем не станет. Никуда отсюда не уезжайте.
САНЕТ. Хорошо, дядя. Пойду я.
(Уходит, бормоча под нос.)
Весь мир начал рушиться, когда мы задумали переехать в город. И воры расплодились, и эпидемия началась, и бензин иссяк… Сам-то ведь не переезжает в село из этого «ада». А нам говорит, чтобы остались здесь.
(Входит Исрапил.)
ИСРАПИЛ. Ваши, вот автомат.
ВАЗРАИЛ. Сегодня уж точно никто не утащит твою овцу.
ИСРАПИЛ. Стрелять умеешь?
ВАЗРАИЛ. Умею, и очень даже хорошо – я ведь еще во времена Сталина носил оружие. Сейчас прилягу, посплю, чтобы ночью быть начеку.
ИСРАПИЛ. Что-нибудь нужно?
ВАЗРАИЛ. Нет.
(Заходит в дом.)
2 картина
Ночь. Недалеко от загона для овец стоит в карауле Вазраил.
ВАЗРАИЛ (сам себе). Да, очень странно, если это зверь. Горит большая лампа, близко от дома. Если же это все-таки зверь, то надо признать, что он хитер и смел…
Так, овцы насторожились. Почувствовали опасность… Бедолаги, они испытывают этот страх каждую ночь… Смотри-ка, что это? Волк?! Как легко перепрыгнул через забор! А овцы с места не трогаются. Словно оцепенели. Вот так вот, не хилую выбрал! Клянусь Аллахом, не уйдешь ты с этой овцой!
(Стреляет из автомата один-два раза. Подбегает Исрапил.)
ИСРАПИЛ. Кто? Кто это?
ВАЗРАИЛ. Не кто, а волк. И больше он не будет приходить. Подойди, вон лежит тот самый ворюга, таскавший твоих овец.
ИСРАПИЛ. И в самом деле – волк. Волчица, к счастью. Я знаю, что сейчас нужно делать! Пока еще жива, надо отрезать ей хвост. Затем – две задние лапы, чтобы извлечь бабки.
ВАЗРАИЛ. Парень, что ты задумал делать с этим волком?
ИСРАПИЛ. Я знаю, Ваши, как с ним поступить. Удачно попало в него, собаку. Пуля прошла через лопатку, рядом с шейным позвонком. Поэтому он не успел откусить себе хвост.
ВАЗРАИЛ. Что ты все время мелешь про этот хвост?
ИСРАПИЛ. О, я знаю, что с ним делать! Кончились наши трудные времена!
ВАЗРАИЛ. Боюсь, парень, сказки все это, что говорят люди: будто от соприкосновения с волчьим хвостом происходит то, другое… Ничего не происходит, если не трудиться изо всех сил.
ИСРАПИЛ. Ваши, теперь я знаю, что делать.
ВАЗРАИЛ. Послушай, я хочу зайти в дом, ненадолго прилечь. Скажи, что это ты пристрелил волка. Неудобно, если люди будут говорить, что я на старости лет занялся отстрелом волков, а племяннику в это время позволяю спать.
(Заходит в дом.)
ИСРАПИЛ. Пусть говорят что угодно! Не только в этом селе – я во всем крае установлю порядок, который мне по душе. Ну и парень ты, однако, один Рапил, два Рапил… девять Рапил[4].
(Появляется, протирая глаза, Санет.)
САНЕТ. С кем это ты разговариваешь, муж?
ИСРАПИЛ. Я?! Я благодарю Бога за то, что он направил этого волка в наш двор.
САНЕТ. Ой, о чем ты говоришь? И пришла же тебе в голову такая несуразица!
ИСРАПИЛ. Ты лучше подойди сюда, тогда узнаешь, о чем я говорю.
САНЕТ. Ой, ой! Что это, волк? Еще живой! (В страхе отбегает.)
ИСРАПИЛ. Что ты? Если он даже и жив, то подняться уже не сможет. Принеси топор.
САНЕТ. Зачем?
ИСРАПИЛ. Узнаешь.
(Подходит Санет с топором.)
ИСРАПИЛ. Давай его мне. Смотри, это волчий хвост. На нем есть один волос… Если коснуться им любимой девушки, она без ума от тебя. Чтобы этого не делали, волк перед смертью откусывает себе хвост, вырывает этот волос. Этот не успел. Две пули прошли рядом с шейным позвонком, поэтому он не смог повернуть шею.
(Ударом топора отсекает хвост.)
САНЕТ. Ой, ты делаешь ему больно!
ИСРАПИЛ. Что кричишь? Разве мы не пытаемся убить его?
САНЕТ. Так-то оно так… Но все равно как-то не по душе, когда он еще жив…
ИСРАПИЛ. Лучше пожалей своих овец, которых он съел. Видишь эти две задние лапы? В них сухожилия. Если их сжечь, то человек, совершивший кражу, скручивается, как они.
(Двумя ударами топора отрезает волку две задние лапы.)
САНЕТ. Ой, Боже!
ИСРАПИЛ. Что ты кричишь? Или этот волк твой дядя по материнской линии? Эти две ноги пригодятся. Да, этот волк – Божий дар для нас. Нет ни одной части его тела, от которой не было бы пользы. Его нелегко добыть!..
(Вынимает из колен волка две бабки.)
Знаешь, для чего нужны бабки? Если их пронести между членами семьи, которая принесла нам вред, то эта семья, подобно кувшину, который ударили об камень, расколется вдребезги.
САНЕТ. В самом деле?
ИСРАПИЛ. Это так же верно, как и то, что уже наступает рассвет. Теперь иди, принеси нож. Надо снять с него шкуру.
САНЕТ. Хочешь снять с него шкуру, когда умрет?
ИСРАПИЛ: Он уже умер и не оживет, пока ангел Азраил не протрубит.
(Санет уходит за ножом.)
Говорят, что в судный день волк будет стоять лицом к ветру, который разрушит весь мир, и этот ветер сдерет с него шкуру. Говорят, что тогда он скажет: «Если бы знал, что я такой отважный, не оставил бы на земле ничего живого». Хорошо, что он этого не знал, а то давно утащил бы всех моих овец… Подай нож.
(Берет у Санет нож.)
Ветер судного дня вовсе не нужен, чтобы содрать с него шкуру. Я сам это сделаю в мгновенье ока…
(Принимается сдирать шкуру. Рассветает.)
(Утро. Вазраил, собравшийся вернуться в город, разговаривает с Санет.)
ВАЗРАИЛ. Удивительный человек этот парень! Никак не повзрослеет. Слыханное ли дело – позволять волку таскать овец прямо из-под носа! Свое хозяйство нужно постоянно охранять: и ночью и днем. Иначе – и волк забредет, и вор залезет, и все бродячие собаки забегут – дом превратится в проходной двор. А обвинять станут меня, скажут, что не опекал племянника, будь жив его отец, все было бы иначе… Клянусь Богом, я делаю все, что в моих силах. Вырастил, ни в чем не давал испытывать нужду, научил молиться и держать уразу, дал наставления о том, как жить, соблюдать традиции и обычаи, женил, обустроил… Так нет, не входит в нормальную колею, не становится хозяином своего дома, не живет, радуясь ему. Или я его чрезмерно избаловал?.. Или… Эх, Исраил! Как рано мы с тобой расстались! Лучше бы ты остался жить, опекая своего сына, а я ушел бы вместо тебя… Машина, сорвавшаяся в пропасть, унесла не только твою жизнь, но и всю мою земную радость.
(Увидев вышедшего из дома Исрапила.)
Я уезжаю, Исрапил, впредь будь начеку.
ИСРАПИЛ. Хорошо.
ВАЗРАИЛ. И не колдуй с этим волчьим хвостом и бабками. Люди отвернутся от тебя. Можно застрелить волка, пробравшегося к тебе во двор, но если туда войдет людская ненависть, уничтожить ее будет трудно. Ты понял?
ИСРАПИЛ. Да, понял.
ВАЗРАИЛ. Так я уезжаю.
ИСРАПИЛ. Счастливого пути!
ВАЗРАИЛ. Спасибо!
САНЕТ. Ваши, хотя это и мелочь, я бы хотела, чтобы ты отвез это Деце[5].
ВАЗРАИЛ. Что это?
САНЕТ. Немного масла и две головки творога.
ВАЗРАИЛ. Это вовсе не мелочь. Как только доеду, попрошу старушку приготовить чепалгаш. Спасибо. Пусть Бог отведет беду от вашего дома. Ну, до свидания, будьте здоровы.
ИСРАПИЛ. Пусть Бог сохранит и ваше здоровье.
САНЕТ. Передайте привет Деце.
ВАЗРАИЛ. Привет и вам.
(Уходит.)
ИСРАПИЛ (спустя некоторое время). Жена, налей мне быстро стакан чаю. Сегодня у меня очень много дел.
САНЕТ. И что же у тебя за дела?
ИСРАПИЛ. Скоро узнаешь. Делай то, что я тебе сказал.
(Увидев приближающегося Маху.)
Так, уже повалили. Не дадут чаю выпить.
САНЕТ. Что это он вышел ни свет ни заря… Что же ему понадобилось?
ИСРАПИЛ. Услышал, что волка убили, поэтому и идет.
МАХА. Ассалам алейкум! Доброе утро!
ИСРАПИЛ. Ва алейкум салам. Пусть Бог тебя полюбит. Ты по делу или просто так?
МАХА. Я услышал, что ты убил волка…
ИСРАПИЛ. Да, убил.
МАХА. Волчица?
ИСРАПИЛ. Да, волчица. И хвост отрубил….
МАХА. Правда? Пока еще была жива?
ИСРАПИЛ. С живой, как и нужно.
МАХА. Волчий хвост! О котором я так долго мечтал, просил в молитвах у Бога!
ИСРАПИЛ. Парень, кажется, тебе кто-то вскружил голову. Кто же она?
МАХА. Исрапил, не заставляй меня называть ее имя.
ИСРАПИЛ. Назови. Не стоит меня бояться. Я-то уже женат.
МАХА. Я не из-за этого. Говорят, если разболтаешь – не сбудется.
ИСРАПИЛ. А разве у тебя что-нибудь сбывается?
МАХА. Нет. Если бы сбывалось, зачем мне было приходить? Это Мубарик, дочь Абы.
ИСРАПИЛ. О-о, она красавица! А прикосновение хвоста может решить вопрос?
МАХА. Почему ты сомневаешься?
ИСРАПИЛ. Такой девушке «Мерседес» нужен, а не хвост…
МАХА. А что мне делать? Я так ее люблю!
ИСРАПИЛ. Как же ты ее любишь?
МАХА. Очень-очень. Больше жизни. Если бы вон та гора Бандук была золотой и принадлежала мне, я бы женился на Мубарик, отдав всю эту гору за нее.
ИСРАПИЛ. Вот это да! Ты рассказывай, рассказывай…
МАХА. Если бы Всевышний сказал, что без нее мне осталось жить 14 лет, а женившись – умру через год, я прожил бы этот год с ней и ушел бы в лоно земли!
ИСРАПИЛ. Боже мой! Плохи твои дела. Но у тебя все получится, если только немного поднапряжешься.
МАХА. Каким же образом?
ИСРАПИЛ. Простым. Женщина любит настоящего мужчину больше, чем «Мерседес». Будь немного активней.
МАХА. Я и стану, если ты дашь мне волчий хвост.
ИСРАПИЛ. Волчий хвост?! Конечно, я дам его тебе. Кому же еще, кроме тебя? Но, правда, времена настали трудные. В прежние времена – я имею в виду те, когда килограмм мяса можно было купить за 5 рублей – я и не говорил бы о цене, лишь бы у тебя все получилось. Мы же односельчане, должны помогать друг другу. Более того, по воле Всевышнего, мы еще и мусульмане… Но времена нынче трудные… Да, Брежнев был настоящим волком. Как легко жилось людям! А теперь, как видишь, базар-мазар, Шахрай-махрай, ваучер-баучер, Гайдар-майдар, бизнес-мизнес, то да се, короче – рыночная экономика. Поэтому без оплаты…
МАХА. Да я заплачу… Говори же скорее, сколько?
ИСРАПИЛ. Так, учитывая, что ты мой односельчанин, да и к тому же хороший парень – 200 тысяч.
МАХА. Вот 50 тысяч, которые я выручил, продав вчера 3 овцы. Остальные я донесу.
ИСРАПИЛ. Можно и так. Хвост дается только на один час. Как можно быстрее прикоснись им к девушке и неси обратно.
МАХА. Одного часа маловато… Добавь хоть немного времени…
ИСРАПИЛ. Нет, за час можно даже съездить в город. Чтобы прикоснуться хвостом к девушке, достаточно и двух минут.
МАХА. Нужно подготовиться. Дай хоть на два часа…
ИСРАПИЛ. Хорошо – два часа, и ни минуты больше! Если хоть немного задержишь, оплата удваивается.
МАХА. Я не задержу.
ИСРАПИЛ. Раз нет, то вот тебе волчий хвост.
МАХА. (взяв его в руки, с радостью). О, волчий хвост! Большое тебе спасибо! Я пойду.
(Отбежав, останавливается.)
Подожди, а почему у тебя нет к нему никакой инструкции?
ИСРАПИЛ. Ты что, парень, белены объелся? Какая еще инструкция тебе понадобилась?
МАХА Инструкция, в которой говорится, куда, какой рукой – левой или правой, утром или вечером прикасаться.
ИСРАПИЛ. Ну, ты даешь! Прикоснись куда хочешь. Хочешь – рукой, хочешь – ногой. А зачем вообще говорить об утре или вечере, если он тебе дан всего на два часа?
МАХА. И то верно.
(Исчезает.)
ИСРАПИЛ. Ну, началось.
(Смотрит на деньги, которые дал Маха)
Да поможет мне Бог в этом деле! Это кто еще? Что, и этой тоже нужен волчий хвост? В годах уже вдова-то. А-а, любовь. Так, как они, в мужчинах не нуждаются даже восемнадцатилетние девушки.
БЕКЕХАТ (входя во двор). Всего доброго этому дому!
ИСРАПИЛ. Живи с добром и ты. Здравствуй.
БЕКЕХАТ. Здравствуйте!
ИСРАПИЛ. Что-то я не узнаю тебя.
БЕКЕХАТ. Я Бекехат, дочь Баги, с соседнего аула Бекехой.
ИСРАПИЛ. Что же ты так рано? Какие-то проблемы, да?
БЕКЕХАТ. Я потому и вышла рано, что только в таком случае успеваешь что-либо сделать. Проблемы?.. И проблемы у меня есть. Поэтому и пустилась в путь ни свет ни заря. Как только услышала выстрелы, я поняла, что убили волка. Было какое-то предчувствие…
(Стоит призадумавшись.)
С чего бы начать?
ИСРАПИЛ. Начни с самого начала…
БЕКЕХАТ. Я так и сделаю. Мы очень любили друг друга – я и сын Товмирзы из Ламйиста. Как Ромео и Джульетта. Как только мне исполнилось шестнадцать лет, он сделал мне предложение.
ИСРАПИЛ. Видать, у девушки была сильная любовь!
БЕКЕХАТ. Что ты сказал?
ИСРАПИЛ. Да ничего, рассказывай.
БЕКЕХАТ. Потом, со временем, у нас появилось трое детей – две девочки и мальчик. Муж работал шофером в колхозе, я немного приторговывала. Жили хорошо, пока не вмешалась одна стерва…
ИСРАПИЛ. Кто же это?..
БЕКЕХАТ. Ты разве не знаешь эту женщину с отрезанным хвостом? Разве не знаешь этого огнедышащего дракона? Не знаешь эту ведьму? Эту рыжую стерву, которая не дает проходу ни одному мужчине?!
ИСРАПИЛ. Я не знаю, о ком ты говоришь.
БЕКЕХАТ. Наверняка, знаешь. Кроме тебя, наверное, нет мужчины, который не знал бы ее. Село, из которого она родом, находится по дороге отсюда в город. Она постоянно клянется то загробным миром, то могилой отца… Что ее отец в могиле – большей частью виновата она сама. Ведь он умер от разрыва сердца, когда та вышла замуж за армянина…
ИСРАПИЛ. А-а, ты говоришь о той самой, о Жарман. Да, она умеет хорошо говорить…
БЕКЕХАТ. Говорить-то она, может быть, и говорит хорошо, но поступает плохо. Пожила год с армянином, потом выходила за лакца, грузина, негра, узбека, киргиза… Наконец, уехала в Турцию… Когда ее спросили: «Что же это ты делаешь?» – ответила, что укрепляет дружбу народов. Сейчас она оседлала моего мужа.
ИСРАПИЛ. Да-а, это плохо, совсем плохо.
БЕКЕХАТ. Даже домой не отпускает взглянуть на детей. Крутит им, как хочет, в раба своего превратила. Однажды поехала я в Стамбул с «челноками», встретила их там. Впереди идет эта ведьма в темных очках. На шее, пальцах, в ушах – золото, бриллианты… В мини-юбке. Этот – весь иссохший, потемневший от жаркого турецкого солнца, плетется за ней с огромными баулами. Ей-богу, даже встретив на чужбине, он не осмелился заговорить со мной, прошел мимо. Сделал вид, что не узнал. Вот в такую тряпку она его превратила. Ахи-ахи-ахи… (Плачет).
ИСРАПИЛ. Не надо плакать. Если ты пришла за волчьим хвостом, то его пока нет, но через два часа будет…
БЕКЕХАТ. Хвост-то мне не нужен, пока. Нужна волчья бабка, чтобы посеять раздор между ними, сцепить их друг с другом… А потом мне понадобится и волчий хвост.
ИСРАПИЛ. Есть и волчья бабка. Правда, я не хотел ее никому давать… Потому что это грех – ссорить людей.
БЕКЕХАТ. А отрывать от семьи отца – не грех? (Плачет.)
ИСРАПИЛ. Ради бога, не плачь больше. Я дам тебе эту бабку, но, как тебе известно, теперь времена трудные, да и волка убить нелегко…
БЕКЕХАТ. А, деньги… Я знаю, что нынче бесплатно ничего не делается. Сколько ты хочешь, скажи! Сколько она стоит?
ИСРАПИЛ. 150 тысяч.
БЕКЕХАТ. Это совсем немного, если дело выгорит.
(Достает и отдает деньги.)
Пусть Бог обратит эти деньги тебе во благо!
ИСРАПИЛ. Спасибо. Возьми, вот волчья бабка.
(Вынимает из кармана и отдает бабку.)
Завтра надо вернуть.
БЕКЕХАТ. Завтра не получится. Верну послезавтра.
ИСРАПИЛ. В ней, как и ты, нуждаются многие, поэтому…
БЕКЕХАТ. Из этого ничего не выйдет. Верну послезавтра. Если у меня все получится, еще и доплачу. До свидания.
ИСРАПИЛ. До свидания. Да поможет тебе Бог!
4 картина
У родника стоят Маха и Мубарик
МАХА. Мубарик, люблю тебя, твоих родственников, еще больше – ваш дом, ваши ворота, два столба, на которых они держатся…
МУБАРИК. Ой, Маха, придумай что-нибудь по новее. Постоянно твердишь одно и то же…
МАХА. У меня в мыслях ничего другого нет, кроме одного… Кроме любви к тебе.
МУБАРИК. Ой, как вы все надоели. Что, я одна во всем этом крае?
МАХА. Такой, как ты, нет. Ты превосходишь всех, ты краше всех, лучше всех…
МУБАРИК. Скажи, Маха, ради бога, ты действительно уверен в том, что говоришь?
МАХА. Пусть я не вернусь домой живым и здоровым, если говорю неправду!
МУБАРИК. Спасибо… Но я-то на самом деле не так хороша, не так красива, как тебе кажется.
МАХА. Ты еще лучше. Ты – весна моего сердца, ты – жажда сердца, ты – страсть сердца…
(Приближается к ней, чтобы дотронуться волчьим хвостом.)
МУБАРИК. Что это ты? Чего подкрадываешься? Отойди! Расстояние должно быть 5 метров.
МАХА. Извини… Мубарик, мое сердце взывает к тебе, подобно вон тем улетающим журавлям. Подобно их голосам, печален его крик. Ты видишь этих журавлей, выстроившихся в ряд?
(Мубарик смотрит в небо. Маха хочет прикоснуться к ней волчьим хвостом, но в это время Мубарик поворачивается к нему. Он останавливается.)
МУБАРИК. Не вижу. Да и не улетают они в такое время… Тебе просто показалось. Не тронулся ли ты умом?..
МАХА. Пока не тронулся, но до этого недалеко. Любовь к тебе сушит мой мозг. Моя несчастная любовь, на которую ты не отвечаешь. Дай мне слово…
МУБАРИК. Что за слово?
МАХА. Слово, что ты выйдешь за меня замуж.
МУБАРИК. Мама мне сказала, чтобы я не выходила за того, у кого нет «Мерседеса» и большого дома с мебельной стенкой, хрусталем, коврами. Кроме того, она сказала, чтобы я не выходила за того, кто живет в селе.
МАХА. Не обманешься ли ты, Мубарик, слушая советы матери? Что вы будете делать, ты и твоя мать, если кто-то столкнется с этим «Мерседесом» и разобьет его? Если в этот большой дом проберутся воры и унесут оттуда стенку, хрусталь и ковры? Если в столь любимом вами городе начнется война или вспыхнет эпидемия?
МУБАРИК. Ой, как много вопросов! Я не смогу на них ответить.
МАХА. Я сам отвечу тебе на все эти вопросы. Не легче ли тебе выйти за меня, чем за хозяина такого состояния, с которым будет связано столько забот? А у меня есть что попить и поесть. И не надо беспокоиться, что придут воры. Выходи за меня…
МУБАРИК. Подожди же… Мать сказала, чтобы я не давала слова, не обдумав все основательно.
МАХА. Так думай скорее!
МУБАРИК. Не могу я думать, когда ты рядом.
МАХА. Тогда я отойду.
(Маха отходит.)
МУБАРИК. Ей-богу, с одной стороны, он прав. Индира, приехавшая вчера из города, рассказывала, что ее муж-бизнесмен дома бывает лишь два-три дня в месяц. Когда приходит домой, ей почти не достается – собираются друзья со всего света, пьют…
Говорит, что наняли двух охранников, чтобы смотреть за домом… И на них мало надежды. Постоянно живут в страхе, что вот-вот нагрянут грабители, даже ночью толком не засыпают. Кому нужны эти проблемы? Я не смогу жить в таком городе! Эти развязные женщины, эти воры, эти машины, эти базары, эта пыль. Лучше я останусь в своем селе. Правда, он беден… Нет, не совсем он и беден – тридцать овец, две коровы. В следующем году овец станет пятьдесят, коров – четыре. Так поднакопится имущество. Не хотелось бы пока выходить замуж, но мама не оставляет в покое. Постоянно твердит: «Замуж надо выходить, пока в цене». Тем более, он может свихнуться, если я не дам ему слова. У него уже галлюцинации. Не хочу, чтобы человек из-за меня сошел с ума. Грех тогда возьму на себя…
МАХА. Что толку от волчьего хвоста, если не могу притронуться им к ней?! Чуть не разрушил все с этой затеей. Не знаю, как это сделать, разве что пока она спит? Но где она спит, кроме своего дома? А если пробраться в окно? Не приведи господь! Не успею глазом моргнуть, как ее отец пристрелит меня. Решила ли она уже?
(Подходит.)
Ты подумала?
МУБАРИК. Да.
МАХА. И что же?
МУБАРИК. Ей-богу, не знаю, я пока не хотела выходить замуж, но…
МАХА. Вот-вот, расскажи об этом «но».
МУБАРИК. Как можно допустить, чтобы из-за меня чужой человек тронулся умом? Ему и теперь уже мерещатся журавли, которых нет…
МАХА. Ей-богу, это правильно.
МУБАРИК. Поэтому я должна согласиться с тем, что ты предлагаешь!
МАХА. Мубарик, да воздаст тебе Бог. Как прекрасны эти слова!
(Музыка.)
В доме у Исрапила. Исрапил, пересчитав деньги, кладет их в карман. Во двор входит Багор.
ИСРАПИЛ. Здравствуй, Багор.
БАГОР. Здравствуй… Мой автомат…
ИСРАПИЛ. Сейчас принесу. Он так выручил меня…
(Вбегает в дом, возвращается с автоматом.)
Вот, возьми. Израсходовал всего два патрона. Вот тебе тысяча рублей за них.
БАГОР. Тысячей рублей не отделаешься. Мне нужна доля от волка…
ИСРАПИЛ. Что ты мелешь, парень? Разве я обещал какую-то долю, когда брал у тебя автомат?
БАГОР. Такого условия не было, но волка-то ты убил из моего автомата!
ИСРАПИЛ. Клянусь, что ты бы не убил, если б даже проходил с этим автоматом тысячу лет, не только волка, но даже лисенка! Так что, парень, бери свой автомат и вон со двора, ногтя волчьего ты не получишь!
БАГОР. Я и сам знаю, что не получу. Но дай волчий хвост на денек, нужен очень.
ИСРАПИЛ. На что он тебе?
БАГОР. Надо прикоснуться к одной девушке…
ИСРАПИЛ. Разве у тебя есть девушка, за которой ты ухаживаешь?
БАГОР. Да, и во всех отношениях прекрасная девушка – Мубарик, дочь Абы.
ИСРАПИЛ. Ой, неужели на свете нет другой девушки, кроме этой Мубарик? Что вы все ходите за ней?
БАГОР. Кто еще за ней ходит?
ИСРАПИЛ. А-а… Я просто слышал, что за ней многие ухаживают.
БАГОР. Да, многие. Но замуж она выйдет за меня.
ИСРАПИЛ. Выстрели раз-два из автомата – она испугается и сама прибежит к тебе, без всяких прикосновений волчьим хвостом.
БАГОР. Я уже стрелял, но ничего не выходит.
ИСРАПИЛ. А ты сделал ей предложение?
БАГОР. Да.
ИСРАПИЛ. Наверное, неумело.
БАГОР. Нет, наоборот. Я сначала проконсультировался у Лаки, женившегося уже 15 раз.
ИСРАПИЛ. О, тогда это должно быть что-то из ряда вон выходящее. Расскажи-ка, как все было.
БАГОР. Как? Очень просто: «Если ты выйдешь за меня, ты никогда не будешь думать о других мужчинах. У тебя не будет недостатка в детях, если только будешь в состоянии их рожать… Выходи за меня».
ИСРАПИЛ. Ничего себе, вот это предложение! Что, не согласилась?
БАГОР. Куда там! Сказала: «Какой дурак!» – и убежала.
ИСРАПИЛ. Если не согласилась на такое предложение, то глупа она сама.
БАГОР. Ничего, мне сойдет. Дай волчий хвост…
ИСРАПИЛ. Волчий хвост унесли. У волка ведь только один хвост.
БАГОР. Кто его взял?
ИСРАПИЛ. Фирма гарантирует своим клиентам анонимность. Не могу сказать! Приходи завтра.
БАГОР. Завтра я не могу, служба! Я приду через два дня, Исрапил.
(Уходит.)
ИСРАПИЛ. Как хочешь – приходи хоть через неделю. Не пожар, чтобы спешить. И хвост будет у меня дома, и Мубарик будет у себя. Эй, ты слышишь?
САНЕТ (появляясь). Ты меня звал?
ИСРАПИЛ. Да, звал. Дай что-нибудь поесть, быстро…
САНЕТ. Ты не зайдешь в дом?
ИСРАПИЛ. Пока не могу, принеси сюда.
САНЕТ. Сейчас.
(Исрапил направляется к дому. В это время он замечает «Мерседес», проезжающий по улице.)
ИСРАПИЛ. О-о, «Мерседес»! Откуда он взялся? Такой машины еще никогда не было в этом селе. Надо записать этот день: «17 августа 1993 года в горное село под названием Варши въехал «Мерседес» (дутый). Ой, он остановился рядом с моим домом. Возможно, и эти приехали, услышав, что убили волка…
ЗАВАЛУ (входя во двор). Эй, вы дома?
ИСРАПИЛ. Да.
ЗАВАЛУ. Ты и есть тот самый, который убил волка?
ИСРАПИЛ. Да. А ты тот, который приехал на этом «Мерседесе»?
ЗАВАЛУ. Да, он наш. В нем моя жена.
ИСРАПИЛ. Да? Тогда приведи ее. Входите. На такой машине к нам гости еще не приезжали…
(Хочет выйти на улицу.)
ЗАВАЛУ. Нет, она не придет. Она со вчерашнего дня не выходит из машины – ноги отнялись.
ИСРАПИЛ. Может быть, люди распространили слухи, что я начал врачевание… Если ты и слышал об этом, то это не так. Правда, массаж я бы сделал.
ЗАВАЛУ. Нет, массаж пока не нужен. Нам нужно нечто другое.
ИСРАПИЛ. Подходи, садись. Что же вам нужно?
ЗАВАЛУ. Нас ограбили.
ИСРАПИЛ. Ограбили? Каким образом?
ЗАВАЛУ. Вчера мы с женой были приглашены к родственникам в гости. Ей захотелось посмотреть, что привезла Сюзанна из Гонконга. Да, моя жена одна у родителей, поэтому я очень забочусь о ней, шагу не позволяю делать пешком. Я прихватил с собой все наличные деньги, чтобы купить то, что ей приглянется. И хорошо, что сделал так… Не дай бог, чтобы мусульманин или христианин увидели то, что по возвращении застали мы! В нашей бронированной двери зияла огромная дыра, будто в нее выстрелили из пушки. Все, что было в доме, включая кафель в туалете и унитаз, – унесли. Бриллианты, золото, хрусталь, мебель, бельгийские ковры, «Сникерсы»… О-о-о! Всего украдено добра на три миллиарда рублей…
ИСРАПИЛ. Кто украл?
ЗАВАЛУ. Если бы я знал это, то не мчался бы из Грозного в эту Хучанчу?! Мне нужно волчье сухожилие, срочно, чтобы сжечь его – вор скрутится, его парализует!
ИСРАПИЛ. А, вот оно что. Имеется и волчье сухожилие. Есть даже целая волчья нога вместе с сухожилием.
ЗАВАЛУ. Если есть, то неси. Быстро!
ИСРАПИЛ. Нельзя принимать решение поспешно – то, что случилось, уже случилось. Как тебе известно, волка убить нелегко, нелегко также отрубить его ногу, пока он живой…
ЗАВАЛУ. Я знаю. Поэтому возьми эти 100 тысяч. Поторапливайся.
ИСРАПИЛ. Что такое 100 тысяч? За них даже тапочки не купишь! Если тебя обокрали на три миллиарда, то дай мне 0,5 процента от этой суммы. (Подсчитывает). Всего получается 15 миллионов.
ЗАВАЛУ. Ой, но мои вещи-то пока не найдены!
ИСРАПИЛ. Найдутся. Фирма гарантирует. Сожги сухожилие, выйди, походи по знакомым. Если узнаешь, что кого-то хватил паралич, знай, что это и есть вор. Отбирай у него свои вещи без стеснения.
ЗАВАЛУ. Когда верну вещи, тогда и дам тебе 15 миллионов.
ИСРАПИЛ. Из этого ничего не получится.
ЗАВАЛУ. Но у меня нет таких денег!
ИСРАПИЛ. Если нет, то отдай пока третью часть.
ЗАВАЛУ. Один миллион…
ИСРАПИЛ. Нет… Если тебе нужна волчья нога, выложи 5 миллионов. Ко мне сегодня рано утром уже приходил человек, чтобы передать просьбу одного мультимиллионера из Москвы не продавать пока ногу. Он за нее готов дать 100 миллионов.
ЗАВАЛУ. Бери, вот тебе миллион. Вот тебе золотые часы с бриллиантовым браслетом на остальные четыре миллиона…
ИСРАПИЛ. Вот так бы сразу. Возьми, вот тебе волчья нога. Не показывай людям, а то украдут…
(Завалу берет волчью ногу и молча уходит. Исрапил расхаживает, потом начинает петь.)
Эй, Эй! Горы наши прекрасны!
Горы наши прекрасны!
Собирайтесь, молодцы, собирайтесь,
Добрый молодец сзывает вас!
(Появляется Санет с обедом для мужа.)
САНЕТ. Чему ты так радуешься, муж?
ИСРАПИЛ. Сейчас и ты порадуешься. Подойди. Взгляни на эти деньги – I миллион 200 тысяч, а это золото и бриллианты – на 4 миллиона…
САНЕТ. Боже мой! Убери, а то кто-то увидит. Откуда у тебя столько денег? Упаси Бог от воровства! Ведь ты, надеюсь, никого не ограбил?
ИСРАПИЛ. Какой грабеж? Я их только что выручил.
САНЕТ. Что же мы могли продать, чтобы выручить такие деньги? Если даже продать весь наш участок, дом, всю утварь, живность, и то невозможно получить столько денег.
ИСРАПИЛ. Правду говоришь! Но волка-то ты забыла – волчий хвост, волчья бабка, волчья нога – за них мы и получили все это.
САНЕТ. Боже мой! Что же мы будем делать с такими деньгами и драгоценностями? Надо посоветоваться с Ваши…
ИСРАПИЛ. Никакого Ваши! Ваши уже сделал то, что должен был сделать. Мне сорок лет, я сам все могу сообразить. Закроем дом на замок – продавать его мы не будем, летом здесь можно хорошо отдохнуть – продадим коров и овец, подождем, пока вернут взятые напрокат хвост и бабку, и двинемся в город.
САНЕТ. Я-то согласна. Но праведные ли это деньги? Пойдут ли они нам во благо?
ИСРАПИЛ. Никто не убит, насильно никому ничего не продано, никаких махинаций с «воздухом» не совершено. Деньги выручены от продажи частей туши чистого, как золото, волка. Это самые честные деньги, заработанные в последнее время во всей нашей Чечне.
САНЕТ. Если дело обстоит именно так, то не знаю…
ИСРАПИЛ. Я знаю. Быстро собери в узел свои шмотки. В город! Нас ждет город!
6 картина
У родника стоит Багор, ожидая прихода Мубарик.
БАГОР. Что-то она задержалась. Но как только появится, не избежать ей прикосновения волчьим хвостом. Слышал, что она и Маха мило разговаривали друг с другом на этой неделе. Кто такой Маха по сравнению со мной? Пастух, занятый своими коровами и овцами! А я – единственный милиционер в селе, главный ефрейтор.
Ей-богу, в этом селе не нашлось ни одного человека, который стал бы рядом со мной, чтобы заняться настоящим делом. Ведь в других селах есть целые отряды – разъезжают себе, грабят проезжающие поезда, сколачивают состояние. А я так и не нашел товарища. Люди из этого села способны лишь кур воровать.
(Видит приближающуюся Мубарик.)
Так, идет. Какая нарядная! Для меня нарядилась… Влюбилась девушка в парня. Я-то знал, что в конце концов так и получится.
МУБАРИК. Здравствуй! Добрый день!
БАГОР. Здравствуй. Что же ты так задержалась?
МУБАРИК. Некогда. Я и сейчас пришла, хотя времени не было. Но мать сказала, что было бы хорошо принести воду до того, как уйду. Вот и пришла.
БАГОР. Как это – «до того, как уйду»? Ты идешь к кому-то в гости?
МУБАРИК. Да, «иду в гости».
БАГОР. Тогда не буду тебя долго задерживать. Что я хотел тебе сказать? Завтра я с двумя товарищами еду в Баку, хотим привезти десяток автоматов. За три автомата можно купить два трактора «МТЗ – 80». В Бачи–Юрте есть «Мерседес», который меняют на два автомата. Так что, Мубарик, будем мы с тобой кататься на «Мерседесе». Не дело это, когда все более или менее стоящие мужчины в городе… Я приметил для нас одну квартиру. В ней раньше жил первый секретарь обкома…
МУБАРИК. Прекрати! Ты хоть знаешь, о чем говоришь? Я ведь ухожу из дому…
БАГОР. Ну и что? Ты что, разве никогда не вернешься?
МУБАРИК. Конечно, не вернусь. Мне никогда не нравились женщины, которые разводятся. Надо жить, раз вышла…
БАГОР. Как, ты выходишь замуж?
МУБАРИК. Да. Сваты должны вот-вот подъехать.
БАГОР. Ты отказываешь мне и выходишь за другого? Так что ли?
МУБАРИК. Да, так.
БАГОР. За кого? Где он? Я его в решето превращу!
МУБАРИК. Ой-ой, можно подумать, что люди мертвые лежат, чтобы позволить тебе превращать себя в решето. Отодвинься, дай набрать воды.
БАГОР. Ничего из этого не получится!.. Ты ни за кого, кроме меня, не выйдешь! Попробуй!
(Достает волчий хвост и притрагивается им к Мубарик.)
МУБАРИК. Что это такое?
БАГОР. Это был волчий хвост. Теперь ты должна выйти за меня.
МУБАРИК. Ей-богу не выйду, каким бы хвостом ты не притронулся – хоть волчьим, хоть лошадиным!
БАГОР. Выйдешь, выйдешь, подожди минуты две-три. Скоро начнется действие волчьего хвоста…
МУБАРИК. Как только наполнятся эти два ведра, я уйду домой. Никакого воздействия я не чувствую и не буду чувствовать впредь.
БАГОР. Посмотрим. Не успеют эти два ведра наполниться, как ты влюбишься в меня. Теперь твое настроение хоть немного изменилось?
МУБАРИК. Нет. Все, как и прежде.
БАГОР. А что ты думала раньше?
МУБАРИК. Думала, что ты – дурак.
БАГОР. Начнешь думать иначе, как только наполнится второе ведро. Волчий хвост не может не подействовать.
МУБАРИК. И второе ведро уже наполнилось, а мысли мои не изменились.
БАГОР. Как не изменились? Я ведь притронулся к тебе волчьим хвостом! Народное поверье не может не оправдаться! Ты должна выйти за меня! Как дошло до меня, так уже и поверья не сбываются? Так что ли?
МУБАРИК. До свидания, Багор. Прощай!
БАГОР. Подожди, Мубарик. Пусть у меня мать умрет, если, выйдя за меня, ты будешь думать о каком-либо мужчине…
МУБАРИК. Эту песню я уже слышала…
БАГОР. Не будет у тебя недостатка в детях, если только ты будешь в состоянии рожать…
МУБАРИК. Ой, какой дурак!
(Уходит.)
БАГОР. Подожди! Остановись!
(Выстрелы. Слышна автоматная очередь.)
Что это? Не война ли началась?!
МУБАРИК. Это не война началась, а сваты за мной приехали. Оставайся, постреливая из своего автомата, Багор.
(Исчезает.)
БАГОР. В самом деле, сваты. Я остался один. Несчастный я человек. Даже волчий хвост не помог мне…
За нас двоих одна
Живи счастливо ты.
Тебя забыть, любовь моя,
Ты не проси меня…
(Напевая песню, уходит.)
Второе действие
7 картина
Город. Офис фирмы «Волчий хвост». Одну ее половину составляет жилье Исрапила и Санет.
Висит реклама:
«Если в девушку влюбился,
Не печалься, не горюй.
Прикоснись к ней волчьим хвостом –
Станет верною женой».
Утро. У Исрапила, пьянствовавшего всю ночь, болит голова.
ИСРАПИЛ. Эй! Слышишь! Где ты? Ты жива?
САНЕТ (появляясь). Хорошо бы умереть, чтобы ты вздохнул свободно… Чего тебе?
ИСРАПИЛ. Голова раскалывается, принеси «Наполеон», да хороший чай завари….
САНЕТ. Ты знаешь, куда ты катишься?
ИСРАПИЛ. Делай, что я сказал, а потом поговорим.
(Санет уходит, вскоре возвращается с коньяком и чаем. Ставит их на стол, стоит, глядя на Исрапила. Тот выпивает коньяк, затем делает глоток чаю и закуривает.) Теперь скажи, куда я качусь?
САНЕТ. В пропасть. На своей «Вольве», на полной скорости.
ИСРАПИЛ. А ты останови меня. Ты же моя жена.
САНЕТ. А разве ты слушаешься? В последнее время ты постоянно пьян, ночами отлучаешься… Врешь, не моргнув глазом…
ИСРАПИЛ. Проклятие Бога и тебе, и семи твоим предкам! Когда это я врал? Скотина, как и все твои семеро предков!
САНЕТ. Не кричи! Не давай соседям повода для сплетен! К нам кто-то стучится…
(Открывает двери.)
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Можно войти?
ИСРАПИЛ. Можно. Проходи.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Извините… Хотя еще и рановато…
ИСРАПИЛ. Ничего. И Бог говорит, что поможет тому, кто встает до восхода солнца. Проходи, садись. Коньяк или чай?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Спасибо, не хочу. Знаете, зачем я пришел?..
ИСРАПИЛ. Рассказывай, не стесняйся.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я так… Один…
ИСРАПИЛ. Жена, уйди, а то он стесняется тебя.
САНЕТ. Хорошо, что хоть один стыдливый появился. С теми, кто до сих пор приходил сюда, совесть даже рядом не пробегала.
(Выходит.)
ИСРАПИЛ. Теперь рассказывай. Можешь говорить о чем угодно, мне можно доверить любую тайну. Раз нужно, я готов помочь, если ты даже отправляешься за Терек, чтобы угнать табун.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я не настолько глуп, чтобы заниматься этим. Если сказать, почему я пришел… Сейчас много фирм по прокату волчьих хвостов, но твоя…
ИСРАПИЛ. С моей ни одна из них не сравнится! Халтурщики! Разве у них могут быть волчьи хвосты! Я уверен, что таким несмышленым парням, как ты, они дают собачьи хвосты. Волка убить не так легко. Я за ними десять лет охотился, потом только научился убивать.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Поэтому я и пришел к тебе. Считая, что ты надежен. Брат мой, если у меня дело выгорит, я не пожалею для тебя никаких земных благ.
ИСРАПИЛ. О, наверное, ты очень любишь эту девушку? Кто же она?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Малика… Ангел, спустившийся с небес. А ее голос… Какие песни она поет… Когда слышу ее голос, вырастают крылья. Вот только не выходит она за меня. Говорит, что должна стать всемирно известной певицей. Чеченской Патрисией Каас. Говорит, что не может погубить свой талант, выйдя замуж за меня. Талант-то она этим не погубит. Я носил бы за ней ее сумочку по всему белому свету…
ИСРАПИЛ. Все обещают, пока не женятся…
Мы говорили в начале
Об одеялах-подушках,
Но остаемся на истанге,
Несравненная моя.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я говорю правду, как есть на самом деле. Каждый раз, совершая намаз, я прошу ее у Бога в своих молитвах. Ходил к двум экстрасенсам…
ИСРАПИЛ. Да ну их! Надоели мне эти махинаторы! Пришел бы сразу сюда, не тратя на них времени.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Я только после вчерашнего разговора с одной женщиной узнал, что волчий хвост имеет такую чудодейственную силу…
ИСРАПИЛ. Лучшего средства для тебя не существует.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Тогда дай мне его…
ИСРАПИЛ. Возьми, вот он. Хранится в целлофановом пакете.
(Отдает хвост.)
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Сколько с меня?
ИСРАПИЛ. Дай сколько хочешь. Я ведь не буду с тобой торговаться.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Вот 200 тысяч… Не мало?.. Я потом еще донесу.
ИСРАПИЛ. Давай. И этого достаточно. Лишь бы у тебя все вышло.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Спасибо. Я пойду.
(Уходит.)
ИСРАПИЛ. Иди. Для меня самая большая радость, чтобы вы, влюбленные, соединялись, создавали новые семьи. Я ведь тружусь дни и ночи напролет ради того, чтобы больше было у чеченцев крепких семей, чтобы множился наш народ.
(Появляется Санет.)
САНЕТ. Да не умрет твоя мать! Какие у парня чистые помыслы. Как будет счастлива та, которая выйдет за него. Говорит, что трижды посещал святые места… Бедолага! Но и ему, юноше с такими чистыми помыслами, ты посмел наврать…
ИСРАПИЛ. Пустые речи ты завела, жена. О каком вранье ты говоришь?
САНЕТ. Ты и не знаешь?! О-о, как ты изменился, как ты испортился… Ведь хвост, который ты ему дал, вовсе не волчий, а собачий.
ИСРАПИЛ. Ну и что? Даже у того, кому я дал кошачий хвост, все получилось. Женился на своей любимой девушке, живет с ней.
САНЕТ. Но ведь обман – это большой грех!
ИСРАПИЛ. Во-первых, это не обман. Это бизнес. А бизнес разрешен. Запрещено лишь давать деньги под проценты. Ты отстала. В твоем сознании – пережитки социализма. Во-вторых, вера во все приметы – в волчий хвост, в пустое ведро – это язычество, безбожие. Мусульманам все эти вещи запрещены. Поэтому какими бы – волчьим ли, тигриным ли – хвостами не прикасались, ничего, кроме предписанного Богом, не произойдет.
САНЕТ. Но почему ты распространяешь среди людей то, во что сам не веришь, почему ты их обманываешь?
ИСРАПИЛ. Это мой бизнес.
(В это время открываются двери и входит Вазраил. По выражению лица видно, что он очень сердит.)
ВАЗРАИЛ. Парень, тебе не стыдно?
ИСРАПИЛ. Здравствуй, Ваши.
ВАЗРАИЛ. Я тебе говорю! Совсем потерял совесть, да?
ИСРАПИЛ. Раньше мне было стыдно за свою бедность, а теперь – нет. Теперь, Ваши, во дворе стоит прекрасная машина. Тебе никуда не надо? В одно мгновение довезу. И денег достаточно, на любой случай.
ВАЗРАИЛ. Значит, была бы машина, водились бы деньги, а человеком быть вовсе необязательно? Даже если ты опозорил меня, себя, семерых своих предков?
ИСРАПИЛ. Ваши, не говори так. Разве я кого-то обесчестил? Я что, миллионы прошу? Или людей убиваю, граблю чужое имущество? Или похищаю девушек, чтобы продавать в Турцию?
ВАЗРАИЛ. Если сегодня ты занялся этим, то завтра займешься и тем.
ИСРАПИЛ. Не займусь, Ваши. Я делаю свой маленький бизнес…
ВАЗРАИЛ. Ой, неужели нет ничего другого, кроме хвоста, на чем ты мог бы делать свой бизнес? Ведь все станут говорить, что мы сделали состояние на хвосте.
ИСРАПИЛ. Не станут. Людям дела нет, как ты зарабатываешь деньги, лишь бы они у тебя были.
ВАЗРАИЛ. О чем ты говоришь? Ты навредил уже всему краю… По твоему примеру открыто несколько фирм по продаже волчьих хвостов, бабок, ног… Множество людей охотятся на волков, ходят по лесам с ружьями. Скоро в нашем крае не останется ни одного волка.
ИСРАПИЛ. Вот и хорошо. Не будут овец таскать…
ВАЗРАИЛ. Так не должно быть! Плохо, очень плохо, когда что-то полностью исчезает – будь то человек, зверь или птица… Природа держит в равновесии все живое, а если что-то исчезнет, это равновесие будет нарушено.
ИСРАПИЛ. Оно давно нарушено и мы не в состоянии его восстановить.
ВАЗРАИЛ. Но ты не нарушай его, следуя другим, живи честно! Ей-богу, ты пожалеешь. Сегодня я встретил нашего односельчанина Жамалдина. Иду с ним по городу. Такой же киоск, в котором продают волчьи хвосты, какие-то люди перевернули и сожгли. Того, кто там был, избили, сломали ему ребра, отправили в больницу. От Жамалдина я узнал, что этот постыдный бизнес начался с тебя.
ИСРАПИЛ. Не волнуйся! Со мной ничего не случится, я свое дело делаю чисто. Фирма гарантирует!
ВАЗРАИЛ. Парень, ты пойми одно. Ты ведь не только Исрапил. Ты ведь не дерево, выросшее на пустыре. Ты же не безродный мужик, родившийся в стоге сена, не знающий имена даже трех своих предков. За тобой стоят семь твоих предков… Если сегодня уронишь свою честь, покажешь себя с плохой стороны, осрамишься, тем самым ты опозоришь не только предков, но и будущих потомков… Как тебе известно, в нашей семье ты старший из мужчин. До последнего мотался по России, не заводил семью…
ИСРАПИЛ. Ваши, я все знаю. Знаю, что я один, что мой отец погиб в аварии, когда мне был всего год. Знаю, что вскоре моя мать вышла замуж, бросив меня, что с тех пор ты и Деца воспитывали меня. Вырастили, не давая испытывать недостатка в еде, одежде. Женили, обустроили. Теперь хватит. Отдохните, Ваши. Я уже не ребенок, чтобы вы водили меня за руку. Мне скоро сорок лет. Я хочу жить, как люди. В конце концов, я же не обречен жить, вечно завидуя другим. Не требуй, чтобы я был святым. И ты не был святым в мои годы: в бытность секретарем райкома, наверное, и взятки брал, природа там, шашлык-машлык…
(Устанавливается тишина.)
ВАЗРАИЛ. Парень, от кого ты слышал, что я брал взятки? Или что я пил водку?
ИСРАПИЛ. А-а… Я-то…
ВАЗРАИЛ. Говори! От кого слышал?!
ИСРАПИЛ. Я-то не слышал, просто так сказал…
ВАЗРАИЛ. И никогда не услышишь! Потому что я этого не делал! Да, парень, если бы только на тебя была надежда, иссяк бы род потомков Чимы. Что же с тобой поделаешь, пусть Бог тебя наставит на истинный путь. Несомненно одно: ты заблуждаешься. Ты строишь башню на льду, и она уйдет под воду, как только выглянет солнце.
(Выходит. За ним следует и Санет.)
САНЕТ. Ваши, Ваши, прости его, он немного выпил… Если ты, обидевшись, бросишь нас, то кто за нами присмотрит? Оказывается, вы были правы, когда говорили, что нам не следует переезжать в город. Я сама во всем виновата…
ВАЗРАИЛ. Не ты виновата, а я. Убив этого волка, я привел в ваш дом трусость, жульничество. Я не имею права бросать вас, Санет. Не беспокойся об этом. Видишь пальцы этой руки? Ни один из них безболезненно нельзя отрубить и выбросить. Так и родственники. Оставайтесь, я ухожу. Об этом деле нужно хорошо поразмыслить…
САНЕТ. До свидания, счастливого пути! Привет тете. Ваши, приходи еще…
(Садится и плачет.)
Что же будет? Что будет?
8 картина
Жарман, два молодых человека, Бекехат. Жарман стоит у забора.
ЖАРМАН. Клянусь золотым солнцем, зажженным Богом, чтобы украсить землю! Месяцем рамадан, самым почитаемым среди других! Почитаемыми пятничным вечером и самой пятницей! Загробным миром, куда мы все уйдем! Могилой, в которую ушел мой отец! Клянусь, что этот двор принадлежит ведьме, которую зовут Бекехат. Два года не подметавшийся, как он похож на свою хозяйку! Эй, вы дома?
БЕКЕХАТ. Дома… Входите.
(Появляется.)
ЖАРМАН. Добрый день… Это ты и есть, та самая Бекехат?
БЕКЕХАТ. Чтоб у тебя не было ни доброго дня, ни доброй ночи, чтоб Бог убил тебя! Зачем ты пришла в этот двор? Не со своими ли чертовскими снадобьями для нас?
ЖАРМАН. Тебе не нужно больше никаких снадобий! Тебя Бог обезобразил уже при рождении. Ты посмотри на себя в зеркало, поджаренный в печи черт!
БЕКЕХАТ. Что это ты хочешь сказать, стерва, шляющаяся по всему свету? У меня разве есть возможность возиться с этими пудрами-помадами? Я стараюсь прокормить семью! Курица, которая перестала нестись!
ЖАРМАН. Клянусь золотым солнцем, серебряной луной, загробным миром, куда мы уйдем, могилой, в которую ушел мой отец, что я сгною тебя в заточении! С кем ты меня видела? Сколько б не наговаривала, тебе не запятнать мою честь!
БЕКЕХАТ. Как можно запятнать твою честь, если ее у тебя совсем нет? Ты свою честь потеряла в тот день, когда убежала с армянином в Пятигорск.
ЖАРМАН. Было такое. Поэтому я могу взять с собой в рай сорок человек: ведь я его обратила в мусульманство, заставила поменять веру.
БЕКЕХАТ. Ха-ха-ха! После этого и негра, и грузина ты заставила принять ислам?
ЖАРМАН. И их заставила, а после них и калмыка.
БЕКЕХАТ. Ха-ха-ха! Оказывается, нужно всего лишь дать волю десятку подобных тебе женщин, чтобы весь мир принял мусульманство. Ва-ха-ха!
ЖАРМАН. Что смеешься? Я ведь делаю только то, о чем ты сама втайне мечтаешь. Будь ты попривлекательнее – ты бы и сама так жила. Ведь на тебя, как на высохшее бревно, ни один мужчина не посмотрит, даже если ты будешь лежать на улице.
БЕКЕХАТ. Я не хочу быть проклятой Богом и людьми, похотливая ведьма!
ЖАРМАН. Клянусь синим небом, черной землей, загробным миром, в который мы уйдем, – тебе лучше замолчать.
БЕКЕХАТ. Замолкну, как только ты с этими двумя своими мужьями покинешь мой двор.
ЖАРМАН. Остопираллах! Боже мой, подобного тебе человека-дьявола я еще не встречала. Ведь это еще совсем молодые люди, у них даже бороды толком не выросли. Это сыновья моего двоюродного брата.
БЕКЕХАТ. Э-э, пусть медведь тебе поверит! Женщина, сбившая с истинного пути главу семейства, способна на все.
ЖАРМАН. Я его не сбила с пути, а сделала из него человека, смыла с него грязь. Дома Жорик?
БЕКЕХАТ. Я не знаю, кто такой Жорик. А если ты говоришь о моем муже Жалавди, то он до обеда совершал намазы, чтобы замолить грехи, совершенные вместе с тобой, а потом отправился с ночевкой в лес за дровами… Правда, он оставил письмо для тебя, сказал, чтобы я пошла на почту и отправила.
ЖАРМАН. Давай его. Где оно?
БЕКЕХАТ. Сейчас принесу!
(Входит в дом.)
ЖАРМАН. Вы двое! Равняйсь! Слушайтесь меня, свою Деци! Если она начнет сопротивляться, не будет отвечать на мои вопросы, припугните. Выстрелите из пистолета!
ДВОЕ ПАРНЕЙ. Слушаемся! Хорошо, Деци!
(Появляется Бекехат.)
БЕКЕХАТ. Возьми, вот оно.
ЖАРМАН. (Берет и читает письмо.) «Оставляю тебя, бросив девять имен, если их девять, а если десять, то – десять…». Не может быть… Но почерк его. Удивительное дело… Он же еще недавно мои туфли целовал, говорил, что жить без меня не может…
(Стоит в раздумье). Я не буду тягаться с тобой из-за него. Я против тебя ничего не имею. Если только ответишь мне на один вопрос: что за средство ты применила для того, чтобы он так невзлюбил меня? Может, вскрыла могилу, приготовила снадобье из сердца и легких покойника?
БЕКЕХАТ. Такие вещи делать я не стала бы.
ЖАРМАН. Или заставила выпить мочу, смешав ее с золой из очага дома, в котором две жены?
БЕКЕХАТ. Как можно дать мужу такую гадость?!
ЖАРМАН. Подсунула холмач? Или раскрасила фотографию кровью черной курицы и зарыла ее на перекрестке четырех дорог?
БЕКЕХАТ. Тебе, оказывается, известны все способы ворожбы!
ЖАРМАН. Говори же, что ты с ним сделала?!
БЕКЕХАТ. Не скажу. Иди отсюда вон!
ЖАРМАН. Вы двое! Равняйсь! Слушайтесь меня, вашу Деци! Если эта женщина не будет отвечать на мои вопросы, то поймайте ее, завяжите сзади руки, бросьте в машину. И все ценное, что есть в доме, тоже загрузите.
ДВОЕ ПАРНЕЙ. Слушаемся!
(Стреляют из пистолетов.)
ЖАРМАН. Говори, что за средство ты применила?
БЕКЕХАТ. Женщина, отстань от меня!.. Волчью бабку пронесла между вами, волчью бабку!
ЖАРМАН. Кто же тебе ее дал?
БЕКЕХАТ. Этого сказать я не могу, клятву дала. Мои дети плачут… Уходите, чтоб вам провалиться…
(Заходит.)
ЖАРМАН. Вы двое, подойдите поближе. Нужно провести короткое совещание. Во всем виноват тот, кто дал ей волчью бабку. Надо поймать его. Сначала надо посмотреть, кто из этого или ближайшего села убил волка. А что делать дальше, я знаю. Клянусь пшеницей, прорастающей из черной земли, благостным дождем, льющимся с синего неба, имамом Шамилем, шейхом Мансуром – этому человеку мало не покажется! Идем!
(Уходит.)
9 картина
Офис фирмы «Волчий хвост». В дверях появляется Багор.
БАГОР. Эй, есть здесь кто-нибудь?
САНЕТ. Есть, входи.
БАГОР. Один Рапил, два Рапил, три Рапил, четыре Рапил, шесть Рапил, семь Рапил, восемь Рапил, девять Рапил – это ты?
ИСРАПИЛ. Я. Что же это ты вламываешься, не здороваясь?
БАГОР. Я не собираюсь здороваться с государственным преступником. Да, да, что ты удивляешься? Ты, ты и есть государственный преступник, самый настоящий!
ИСРАПИЛ. Почему же это я – преступник?
БАГОР. И об этом скажу. Только сначала я хочу рассказать еще кое о чем. Жил в одном селе человек по имени Цога[6]! Как-то зарезал он барана, устроил мовлид, поменял имя, и стал он называться Исрапилом. Доходит до тебя? Цога превратился в Исрапила! С тех пор решили штрафовать тех, кто его назовет Цогой. Шли как-то по улице двое из этого села, увидели утку с длиннющим хвостом: «Посмотри на утиный цо…, – начал один из них, но, вспомнив про штраф, закончил по-другому – посмотри какой длинный Исрапил у этой утки». Ха-ха-ха-ха!…
ИСРАПИЛ. Очень оригинально. Если закончил свой рассказ, можешь уходить.
БАГОР. Ха-ха-ха! С тех самых пор они постоянно вместе – Цога и Исрапил.
ИСРАПИЛ. Парень, если и дальше будешь шутить подобным образом, то я отберу у тебя автомат и выгоню вон. Молокосос!
БАГОР. Автомат? Нет, не отберешь! (Направляет автомат на него). Государственный преступник! Ты знаешь, кто я такой? Старший следователь МВД!
ИСРАПИЛ. Какое же преступление я совершил?
БАГОР. Первое – ты убил волка, который является символом чеченского народа, посланцем Бога. Второе – ты отрубил у этого волка хвост и содрал с него шкуру, еще с живого.
ИСРАПИЛ. Неправда! Когда я сдирал шкуру, волк уже был мертв.
БАГОР. Третье преступление – раздавая части тела волка, ты посеял между людьми ненависть, подозрения, вражду. И четвертое – следуя тебе, новоявленные бизнесмены охотятся по лесам за волками, из-за чего эти посланники Бога находятся на грани исчезновения.
ИСРАПИЛ. Разве это не хорошо? Раньше деньги давали за то, что убил волка.
БАГОР. Это было в коммунистические времена. Теперь времена другие.
ИСРАПИЛ. А-а, вот оно как. Если так, то плохи наши дела… Подожди, Багор! Меня ты считаешь преступником. Но ведь ты сам приходил ко мне за этим волчьим хвостом. Что же ты потом не вернулся? Я сейчас и бесплатно дам его тебе, хоть на целую неделю.
БАГОР. Теперь уже поздно.
ИСРАПИЛ. Как поздно? Разве Мубарик вышла замуж?
БАГОР. Мубарик… О-о, Мубарик. (Стонет). Боль моего сердца – Мубарик.
ИСРАПИЛ. Что с ней случилось?
БАГОР. Вышла замуж за Маху. Ты ведь давал ему волчий хвост… А мне ты его дал уже позже. У-у, Мубарик!
(Исрапил наливает водку и протягивает стакан.)
ИСРАПИЛ. Возьми, выпей. Она приглушит твою боль.
БАГОР. Залечит ли она раны моего сердца?
ИСРАПИЛ. Если до конца и не залечит, то хорошо поможет. Это же «Распутин».
(Багор выпивает водку.)
Закуси. Теперь все будет хорошо.
БАГОР. Ты не мог дать мне хвост раньше, чем Махе?
ИСРАПИЛ. Маха пришел раньше. Если бы ты его опередил, а не спал…
БАГОР. Я всегда опаздываю. Несчастный я человек!
ИСРАПИЛ. Скоро станешь счастливым. Выпей-ка еще.
(Протягивает стакан, тот пьет.)
Не переживай, в этом городе много девушек, которые лучше Мубарик.
БАГОР. Да. Я их видел. Но они все отказывают мне.
ИСРАПИЛ. Не будут отказывать. Прикоснись к той, которая тебе нравится, волчьим хвостом.
БАГОР. Где он?
ИСРАПИЛ. Здесь. Я его никому не давал, пока ты не попробуешь. Хранится здесь, в пакете.
БАГОР. Так дай же его мне. Я ухожу, но забыть Мубарик мне будет нелегко.
Ловда, Ловда,
Ты ушла к другому,
Оставив меня-я-я…
(Уходит, напевая песню)
ИСРАПИЛ. Ей-богу, любая выйдет хоть за кого, лишь бы не за тебя. Ходи теперь, прикасаясь ко всем волчьим хвостом. Главный ефрейтор МВД! Ха-ха-ха…
(Заметив Санет, которая смотрит на него.)
Что уставилась? В первый раз видишь?
(Санет некоторое время стоит, ничего не говоря. Исрапил зажигает сигарету и садится.)
САНЕТ. Муж…
ИСРАПИЛ. Не заводись теперь. Я не нуждаюсь в твоих советах.
САНЕТ. Я знаю. Зачем они тебе, если ты не прислушиваешься даже к словам своего дяди?
ИСРАПИЛ. Не нужны мне ничьи советы, не нужны. Я хочу жить так, как мне самому хочется.
САНЕТ. Самому по себе, муж, в этом мире жить невозможно. А Ваши всем сердцем переживает за нас. Ты не можешь знать о жизни больше него, поэтому прислушался бы к тому, что он говорит.
ИСРАПИЛ. И что он говорит?
САНЕТ: Говорит, чтобы мы оставили эту башню на льду, как он выразился, и вернулись в свое село.
ИСРАПИЛ. Вот это да! Как можно бросить дело, которое так хорошо наладилось?
САНЕТ. Не наладилось, хотя тебе так и кажется. Ты видел Багора, который только что приходил? Такие люди скоро зачастят к тебе. Багора-то ты заговорил, отправил. Другие не уйдут. Они уничтожат тебя. Этот город – прибежище зверей. А ты не такой уж страшный зверь, хотя и хочешь им казаться.
ИСРАПИЛ. Что за вздор ты несешь? Если хочешь знать, то я и есть самый крупный хищник из всех зверей. Знаешь что, жена? Если ты соскучилась по селу, возвращайся, живи там. Разводи кур, овец – я дам тебе деньги, чтобы их завести. Я буду приезжать домой раз в неделю – по выходным.
САНЕТ. Великий Боже! И вправду, ты стал совсем другим.
ИСРАПИЛ. Каким же?
САНЕТ. Ты больше не любишь меня. Разве раньше ты сказал бы мне подобное? Для тебя и одна ночь без меня была тягостна. Видно, правду мне говорили женщины…
ИСРАПИЛ. О чем же они тебе говорили? Что это за загадка?
САНЕТ. Никакой загадки нет. Тебя с твоим дружком видели с развратными женщинами. Вы ночевали в палатках, разбитых в лесу у подножия хребта.
ИСРАПИЛ (резко). Жена, ты что, следишь за мной? Ты стала разведчицей?
САНЕТ. Нет. Люди об этом говорят. Ты позоришь себя и свою семью.
ИСРАПИЛ. Знаешь что, жена?! К мужчине ничего не пристанет, что бы он ни делал. Позор падает только на женщину. Поэтому ты и береги честь этой семьи. Во-вторых, я не буду из-за тебя вечно сидеть дома, ухватившись за подол твоего платья, не отлучаясь и не развлекаясь. Хочешь жить со мной – живи. Я смогу тебя прокормить, одеть-обуть. Не хочешь – воля твоя, иди, куда тебе угодно.
(Санет некоторое время молчит. Исрапил спокойно пьет лимонад.)
САНЕТ. Муж, как тебе известно, я рано осталась без матери и выросла с мачехой. Как только мне исполнилось семнадцать лет, поверив тебе, я вышла за тебя замуж. Тем более, что в моем же доме для меня места не было. Думала, что ты поймешь меня, так как и сам рос без родителей… Я с детства мечтала о хорошей семье. Такую я и хотела создать вместе с тобой. Но с нашими взаимоотношениями ты сделал то же самое, что с этим волком. Разрубил топором, раздал все Великое, Светлое, Высокое. Разорвал на части мое сердце и раздал бессовестным, развратным женщинам… После всего этого, зная, что у меня нет дома, куда я могла бы вернуться, нет родного брата, который мог бы меня поддержать, ты говоришь: «Уходи, куда угодно!..» Тебе, наверное, кажется, что я соглашусь на все, лишь бы ты оставил меня в своем доме. Нет, я ведь не собака, которой достаточно похлебки… Даже если у меня нет дома, в который я могла бы вернуться, у меня достаточно гордости, чтоб больше не жить с тобой. Я ухожу… Куда? В мир. Чтобы прожить свою жизнь человеком, уповая на Бога.
(Санет уходит. Музыка.)
10 картина
(Та же комната. Исрапил в одиночестве.)
ИСРАПИЛ. И в самом деле – ушла! Ей-богу, и ушла-то не как все. Сердце мне разбередила своими философскими рассуждениями. Для своего возраста она слишком много знает. Ну и уходи, если не хочешь жить в таком достатке. Женщин на свете больше, чем всего остального. Поэтому мой девиз: «Ни дня без женщин!» Надо привести теперь кого-нибудь, вызвать по телефону. Кого бы?! Сьюзи… Она бесподобна. О, какие штучки она умеет выделывать!
(Набирает номер телефона.)
Нет ничего, что она не умела бы делать. Алло, Сьюзи? Кэтрин, это ты? Позови Сьюзи. Я Исрапил. Не помнишь? Ты меня еще Ирвингом называла. Да-да… Король волчьих хвостов. Да, твой Малыш. Сьюзи, я свободен! Не на один день, а навсегда! Каким образом? Я развелся с женой. Да, да. Я знал, что это тебя обрадует… Сьюзи, мне тоскливо. Приходи. Во сколько? В час? Так я жду тебя. Все будет готово. Хорошо, я кладу трубку.
(Кладет трубку. Напевая, начинает приготовления. Разравнивает диван. Достает выпивку. В это время без стука входит незнакомец. Он стоит молча. От неожиданности Исрапил вздрагивает.)
ИСРАПИЛ. Кто ты такой? Откуда взялся?
НЕЗНАКОМЕЦ. Ты знаешь, что мой брат Баки заболел?
ИСРАПИЛ. Ну и что? Я же не врач…
НЕЗНАКОМЕЦ. У него парализована одна сторона…
ИСРАПИЛ. Ну и хорошо. То есть плохо, если парализован…
НЕЗНАКОМЕЦ. Его скрутило, как сожженное сухожилие…
ИСРАПИЛ. А причем тут я? Товарищ, мне кажется, ты сам нуждаешься в помощи врача…
НЕЗНАКОМЕЦ. Если с ним что-то случится или он останется в таком состоянии, я буду мстить тебе.
ИСРАПИЛ. Что за бред ты несешь? В чем моя вина, если твой брат заболел?
НЕЗНАКОМЕЦ. Ты продал волчье сухожилие? Его сожгли, поэтому и заболел мой брат.
ИСРАПИЛ (смеется). Ха-ха-ха! Вот оно что. Твой брат оказался вором. Сидел бы тихо, не воровал чужое и с ним ничего бы не случилось…
НЕЗНАКОМЕЦ. Тебе нет дела до того, что он занимается воровством. Каждый старается найти свою выгоду! Тот, у кого он украл вещи, наш родственник. Проедал народное добро. Жаден до такой степени, что даже умирающему кружку воды не подаст. Поэтому… Тебе не следует сеять вражду между людьми.
ИСРАПИЛ. Знаешь что, товарищ? Дергай отсюда!
НЕЗНАКОМЕЦ. Я это тебе так не оставлю!
ИСРАПИЛ. Выметайся! Пока я не взялся за автомат и не изрешетил тебя!
НЕЗНАКОМЕЦ. Автоматом меня не испугаешь. У меня и БТР есть.
(Уходит.)
ИСРАПИЛ. Наверное, и его ты где-то украл?..
НЕЗНАКОМЕЦ. Ей-богу, я не прощу тебе, если с братом что-то случится…
ИСРАПИЛ. Верните украденные вами вещи хозяину, тогда твой брат выздоровеет.
НЕЗНАКОМЕЦ. Если вернуть все украденное, то у нас ничего не останется. Поэтому мне проще отомстить тебе…
(Исчезает.)
ИСРАПИЛ (кричит ему вслед). Не отказывайся от своего намерения! Клянусь Кораном, позор ждет тебя, если не отомстишь! Смотри-ка, если каждый, у кого вдруг обнаружится радикулит или расстройство желудка, начнет прибегать ко мне, отбою не будет. Не люди, а бешеные собаки! Сегодня же надо купить автомат и бронежилет.
(В это время в дверях появляется Завалу.)
ЗАВАЛУ. Ты меня помнишь?
ИСРАПИЛ. Что ты вламываешься, как осел на мельницу! Разве здороваться не нужно?
ЗАВАЛУ. Я тебя спрашиваю – ты меня помнишь?
ИСРАПИЛ. Мне кажется, что где-то я тебя видел.
ЗАВАЛУ. Видел, видел! Две недели назад, в селе Варши.
ИСРАПИЛ. Может быть, и видел. Это ты однажды забрел к нам в поисках своего осла?
ЗАВАЛУ. Приятель, не притворяйся. У меня никогда не было осла. Я приезжал к вам на белом шестисотом «Мерседесе»
ИСРАПИЛ. А, это ты? Тот самый, который купил у меня волчью лапу? Если ты пришел за второй, то она уже давно продана. За нее дали 10 миллионов.
ЗАВАЛУ. Я пришел не для того, чтобы покупать вторую, а чтобы забрать деньги, золото и бриллиантовый браслет, которые заплатил тебе за первую.
ИСРАПИЛ. Тогда верни лапу.
ЗАВАЛУ. Она сожжена.
ИСРАПИЛ. Тогда считай, что твои деньги, золото и браслет тоже сгорели.
ЗАВАЛУ. Так не пойдет. Ты сказал, что фирма гарантирует. Срок твоей гарантии еще не истек. Верни мои ценности! Если не вернешь… Обязательно вернешь… Выгляни в окно.
ИСРАПИЛ ( выглядывает в окно). Зачем собрались эти люди? Что, разве здесь чьи-то поминки?
ЗАВАЛУ. Это мои родственники. И если ты не сделаешь то, о чем тебе говорят, они создадут повод для поминок.
ИСРАПИЛ. А, вот оно что? Тогда не будем торопиться… Как тебя звали?
ЗАВАЛУ. Мое имя Завалу. Только не знаю, зачем оно тебе нужно.
ИСРАПИЛ. Завалу, ведь человек, который тебя обокрал, найден.
ЗАВАЛУ. Как «найден»?
ИСРАПИЛ. Он только что, минуты две до твоего появления, ушел от меня, объявив мне кровную месть.
ЗАВАЛУ. Кто он? Где?
ИСРАПИЛ. Не знаю ни о том, кто он, ни о том, где он… Говорил, что он твой родственник – рыжебородый, с выпуклым, словно неумело сделанный стог сена, лбом.
ЗАВАЛУ. Сколько их, кто его знает.
ИСРАПИЛ. Вспоминай-ка. У него еще широкий шрам, рассекающий переносицу на две половины.
ЗАВАЛУ. А, понял – это Гирга. Оставь его мне! Я сам знаю, что с ним делать!
ИСРАПИЛ. Вещи украл не он, а его брат. Он лежит в параличе с тех пор, как ты сжег волчье сухожилие.
ЗАВАЛУ. Какая разница, кто из них!.. А мне сказали, что на Филиппины за товаром поехали, ворюги! Пусть Бог покарает этих воров!
(Выскакивает.)
ИСРАПИЛ. Ой, что происходит с этими людьми? Все бегут сюда с раннего утра. Нет, они не остановятся. Кажется, моя фирма «Волчий хвост» горит. Пока дело не зашло далеко, надо снять вывеску и исчезнуть отсюда. Пережду немного, пока эти люди не успокоятся, вернусь и продам этот дом. Надо срочно уплывать – вода уже подступила. Нужно быстренько уйти в сторону, вместе со своей Сьюзи.
(В это время появляется Жарман с двумя парнями.)
Товарищи, фирма «Волчий хвост» закрыта из-за финансового кризиса.
ЖАРМАН. Клянусь пророком Ноем, спасшим от потопа людей, зверей, животных и насекомых, брошенным своими братьями в колодец Иосифом, живущими от Востока до Запада мусульманами, загробным миром, куда мы все уйдем, могилой, в которую сошел мой отец, что это именно тот, кого я ищу!
ИСРАПИЛ (растерянно). О чем это ты говорила, женщина? Кто я же такой, по-твоему?
ЖАРМАН. Клянусь днем, в который ангел Азраил звуками своей трубы созовет всех людей на суд Божий, весами Правосудия, на которых будут взвешиваться добрые и злые дела, жертвенными оливками на горе Арафат, загробным миром, в который мы все должны уйти, могилой, в которую сошел мой отец, что это и есть именно тот человек, который дал ведьме Бекехат волчьи бабки и тем самым разрушил нашу семью.
ИСРАПИЛ. Женщина, ты ошиблась. Это не я…
ЖАРМАН. Это ты! Ты! Вы двое, равняйсь! Слушайтесь меня, вашу единственную Деци. Перед вами стоит страшный преступник, который с особой жестокостью вероломно убил волка, являющегося символом нашего народа и государства; еще живому волку он отрубил чресла и на их продаже сколотил свое состояние. По его вине разрушено много семей, страдают люди… Это самое страшное преступление. Люди, вышедшие на охоту, следуя его примеру, довели волков до грани исчезновения. (В это время входит Незнакомец, с ним в инвалидной коляске брат.)
НЕЗНАКОМЕЦ. Люди! Посмотрите, что этот человек сделал с моим братом, продав волчью жилу для сожжения!
ЖАРМАН. Ох, какая жестокость!
НЕЗНАКОМЕЦ. Я прощаю тебе кровную месть, если дашь сто тысяч долларов на его лечение…
ИСРАПИЛ. Я тебе не страховая кампания! Или я должен спонсировать воров?
НЕЗНАКОМЕЦ. Если не хочешь умереть, выкладывай сто тысяч долларов.
ИСРАПИЛ. Что ты мелешь? Вы оба не стоите и двух копеек!
В это время заскакивает Багор, размахивая хвостом.
БАГОР. Люди! Преступление раскрыто!
ИСРАПИЛ. Какое преступление?
БАГОР. Что это такое?
ИСРАПИЛ. Хвост!
БАГОР. А чей хвост?
ИСРАПИЛ. Волчий!
БАГОР. Товарищи! Хвост, который он дал мне, вовсе не волчий, а собачий!
ИСРАПИЛ. Откуда ты знаешь, что это за хвост? Ты ведь даже не видишь толком!
БАГОР. Я давал его на экспертизу в МВД!
ЖАРМАН. Эй, парни!
ДВОЕ ПАРНЕЙ (одновременно). Слушаемся, Деци!
ИСРАПИЛ. Нет, нет… Что вы? Судят не так, а в присутствии адвоката… Это же самосуд! Разве мы живем не в свободной стране? Вы что, не читали Декларацию прав человека? Я буду жаловаться в ООН. Ой, ой!..
ЖАРМАН. Бейте его!
(Парни избивают Исрапила, тот теряет сознание. Они показывают его Жарман.)
ЖАРМАН. Теперь хватит. Убивать не нужно, не мы ему дали жизнь, а Бог даровал, хвала Ему. Мы приняли решение. Это состояние, сколоченное продажей частей тела посланника Бога волка, разделить на две части. Одну часть – мне, вторую – вам. Кто за – поднимите руки. Все согласны. Выносите вещи и грузите в машину.
ДВОЕ ПАРНЕЙ: Слушаемся, Деци!
(Парни выносят вещи. Жарман расхаживает по комнате, отдавая приказания.)
ЖАРМАН. Хрусталь! Осторожно, в Ботсване негры его хорошо покупают. Эти два ковра отложите мне. Вам они не нужны. Вы еще молоды. Все необходимое для вас буду покупать я. Выпивку всю заберите себе, кроме «Наполеона».
(В это время Исрапил приходит в сознание.)
Клянусь золотым солнцем, урожаем пшеницы, минаретом мечети, муталимом, загробным миром, в который мы уйдем, могилой, увиденной моим отцом, что этот преступник начал шевелиться.
(Парни подбегают к Исрапилу. Один приподнимает его, другой наносит удар в челюсть.)
ДВОЕ ПАРНЕЙ. Тебе еще на час хватит.
ЖАРМАН. Мы не можем торчать здесь целый час, поторапливайтесь! (Парни опять принимаются выносить вещи. Свет гаснет. В зажегшемся вновь тусклом свете появляется Исрапил. Он с трудом приходит в себя.)
ИСРАПИЛ. Ой, боже мой! Где я? Санет! Ваши! У себя дома… Почему здесь так пусто? Будто здесь прошелся ветер, о котором говорили, что он подует в судный день. Даже стула не оставили, чтобы сесть… Смотри-ка, что эта гадина со мной сделала… Неужели не оставили даже машину, по ошибке решив, что она чужая…
(С трудом подходит к окну и выглядывает.)
Не оставили… Моя «Вольво»… Ой, боже мой! Все нутро болит… Эти люди… Почему они все собрались здесь? Как много инвалидов… Ой, неужели они все стали инвалидами из-за сожженных сухожилий, взятых у меня? Неужели так много воров оказалось в этом крае… И все они хотят войти сюда… Ваши… Что мне делать?..
(Подбегает к окну.)
Кто же придет мне на помощь? Ваши! Санет!
(В окне появляется призрак волка.)
Ты… Кто ты такой? Что ты такое?
ПРИЗРАК ВОЛКА. Ты не узнаешь меня?
ИСРАПИЛ. Волк?! А разве ты не умер?
ПРИЗРАК ВОЛКА. Ты убил мое тело, но над моей душой ты не властен.
ИСРАПИЛ. А зачем же ты пришел? Чтобы насмехаться надо мной?
ПРИЗРАК ВОЛКА. Я же тебе говорил, чтобы не строил башню высоко. Что же теперь стало с твоей башней, построенной на льду? Рухнула… Как только выглянуло солнце, лед растаял и она ушла под воду. Ха-ха-ха! (Призрак волка долго и странно смеется).
ИСРАПИЛ. Прекрати! Отойди от моего окна. Не я в тебя стрелял.
ПРИЗРАК ВОЛКА. Стрелял твой дядя. Это между нами водится: мы таскаем ваших овец, вы охотитесь на нас. Но ты переступил запретную черту! Еще до того, как душа покинула тело, ты топором разрубил меня на части. Торгуя ими, ты построил башню своего достатка! И чем это кончилось?
ИСРАПИЛ. Так что же ты от меня хочешь? Отойди от окна! Отойди!
ПРИЗРАК ВОЛКА. Ты переступил черту, определенную Всевышним! Поэтому с сегодняшнего дня у вашего народа исчезнет справедливость и добро. Исчезнет благородство, обычаи превратятся в лицемерие. Брат не будет считаться с братом, сын – с отцом… Несправедливость будет у вас в чести. Ваш край заполнит зло, будут потоки крови. Вас настигнет мое проклятие!
В это время раздается крик Исрапила, словно он хочет испугать весь мир. Этот крик переходит в вой одинокого волка.
(Занавес.)
1993.
Перевод Э. Минкаилова.
Яма
Драма в 2 частях
Действующие лица:
Гамарг
Мутуш
Сапар
Начальник
Теофило
Ханна
I охранник
II охранник
Часть I
Картина 1
В яме
МУТУШ. Эй! Э-э-эй!
САПАР. Что ты орешь как резаный!
МУТУШ. Где мы?!
САПАР. Сначала сними с глаз повязку…
МУТУШ. А можно?
САПАР. Я уже давно развязал.
ГАМАРГ. Если можно, и я сниму.
САПАР. Ты тоже жив!
ГАМАРГ. Пока еще да… Хотя лучше бы умереть.
МУТУШ. Они ведь сказали не развязывать.
САПАР. Думаешь, все, что они сказали, нужно делать?
МУТУШ. Подожди-ка. Ты сказал, что давно снял повязку…
САПАР. Ну, и что?..
МУТУШ. Ты видел, как меня бросили в эту яму?
САПАР. Ты имеешь в виду, когда тебе пинка дали? Видел, как тебе пинка дали и как ему…
ГАМАРГ. А тебе?..
САПАР. Не видел.
МУТУШ. Тебя не ударили?
САПАР. Не переживайте, и мне досталось…
МУТУШ. Ох, как хорошо! Когда все по справедливости, как-то легче.
САПАР. Ха-ха-ха. Этой справедливости нам здесь хватит.
ГАМАРГ. Не говори так громко.
САПАР. Как бы ты тихо ни говорил, как бы скромно себя ни вел, дела твои не поправятся. Здесь нет места состраданию.
МУТУШ. Откуда ты знаешь?
САПАР. Я знаю, потому что вот уже как пять-шесть лет мы боремся друг с другом. Слова «сострадание» не было ни в их, ни в нашем лексиконе.
ГАМАРГ. Ты-то хотя бы идешь своим путем…
САПАР. Хочешь сказать – виноват?
ГАМАРГ. Нет, просто в их глазах…
САПАР. Да, в их глазах я – преступник, а в моих – они бандиты…
ГАМАРГ. А при чем тут я?
САПАР. Вы оба… Просто оказались рядом с преступником… Вас, может, и отпустят… А может, и нет…
МУТУШ. Что им еще остается – конечно, отпустят…
САПАР. Э-э, много чего… Например, могут убить… Знаешь, сколько у этого дела способов? Тысяча… Убить – быстро, мучительно, постепенно – тупым ударом, режущим, удушая, повесив, пустив дым…
ГАМАРГ. Ради Аллаха, перестань! Итак готовое разорваться сердце по твоей милости теперь еще и болит.
САПАР. Вам могут ничего и не сделать. Будете сидеть здесь, пока не сгниете.
МУТУШ. Ничего себе! Ни в чем не повинные, незапятнанные, мы должны гнить в этой яме?
САПАР. Найдут, в чем обвинить… Правда, долго они вас здесь вряд ли продержат.
ГАМАРГ. Почему?
САПАР. У них у самих нет будущего.
I ОХРАННИК (стоя на краю ямы, кричит). Эй! Замолчали там! Много стал болтать!
САПАР. Женевская конвенция дает мне право…
I ОХРАННИК. А я не даю. Я! Послушайте свой распорядок. Читай…
II ОХРАННИК. Подъем в 7.00. В 8.00 – завтрак. В 11.00 – ходьба. В 14.00 – религиозное песнопение. В 15.00 – допрос. 17.00 – время для заунывных напевов. Ужин – в 19.00. С 20.00 – тишина. Отбой – в 21.00.
I ОХРАННИК. Вам все понятно?!
МУТУШ. Понять-то понятно… А как мы будем определять время… Наши часы и другие вещи вы отобрали!
I ОХРАННИК. Телхаг, сколько сейчас?
II ОХРАННИК. Сейчас… Без десяти восемь вечера…
I ОХРАННИК. Предположим, ровно восемь. А дальше ведите отсчет сами…
ГАМАРГ. И как нам считать?!
I ОХРАННИК. Думайте!
II ОХРАННИК. Это ваше дело. Прекратите разговоры!
I ОХРАННИК. На этой неделе Начальник тюрьмы будет делать обход, выскажете ему свои претензии.
МУТУШ. Подожди, здесь же, что с открытыми глазами, что с закрытыми – все равно.
II ОХРАННИК. Как – все равно?
МУТУШ. Темно, ничего не видно.
II ОХРАННИК. Что ты хочешь увидеть?.. Вы виделись на улице. Больше в яме вам видеть некого…
I ОХРАННИК. А лучше вам в дальнейшем друг друга не видеть…
САПАР. Почему это?
I ОХРАННИК. Да потому, что чем больше вы времени здесь проведете, тем уродливее будете становиться.
II ОХРАННИК. Нужду будете справлять в специально отведенном для этого месте.
САПАР. Так дело не пойдет! Нам здесь нужна лампа, проведите электричество!
I ОХРАННИК. Ты что, думаешь, на курорт приехал?!
САПАР. Женевская конвенция дает нам право…
I ОХРАННИК. Только не начинай опять.
II ОХРАННИК. Дадим свечку, через каждые 24 часа – по 2 свечки!
I ОХРАННИК. Прекратите разговоры и приготовьтесь ко сну!
Картина 2
Та же яма. В темноте
МУТУШ. Он сказал через каждые 24 часа будет давать.
САПАР. Что?
МУТУШ. Свечу. По две свечи.
ГАМАРГ. И что?
МУТУШ. Он дал нам 36 свечей. А это значит, что с тех пор прошло 18 дней и ночей.
ГАМАРГ. Да, если добавить день, когда нас арестовали и ночь, проведенную без свечи, получится 19 суток…
САПАР. Я на стене прочерчу 19 линий… Чем бы их провести?
МУТУШ. На, вот осколок стекла… Кто-то, видимо, разбил о стену бутылку…
ГАМАРГ. Кто же был этот несчастный?
МУТУШ. Похоже, до нас многие прошли через эту яму…
ГАМАРГ. Куда же их дели?
САПАР. Их… В землю, конечно, она же большая.
МУТУШ. Значит, и нас долго не задержат…
САПАР. Вас могут отпустить. А меня – в землю.
I ОХРАННИК (кричит сверху вниз). Прекратите разговоры! С вами будет говорить Начальник тюрьмы!
НАЧАЛЬНИК. Кто такие? Направьте на них фонарь!
II ОХРАННИК. Один – милиционер, воевал против нас.
НАЧАЛЬНИК. Да? Это хорошо. С ним почаще работайте! Как твоя фамилия?!
САПАР. Кахаев!
НАЧАЛЬНИК. Хорошо. А это кто?
I ОХРАННИК. Говорит, пишет кое-что… сказки для детей…
НАЧАЛЬНИК. Ха-ха! Сказки! Вот ты и попал в сказку! Ничтожество!
ГАМАРГ. Почему же ничтожество? Сказка поможет уложить твоих детей спать.
НАЧАЛЬНИК. У меня нет детей.
ГАМАРГ. Нет, значит, будут!
НАЧАЛЬНИК. Замолчи! Я не могу иметь детей! Кто третий?!
II ОХРАННИК. Говорит, занимался извозом…
I ОХРАННИК. По его словам, с этими двумя он не знаком… Ни в чем не виноват…
НАЧАЛЬНИК. Невиновные сюда не попадают. Слушайте, арестанты! У меня для вас хорошая новость. К вам явилась Хелисат, она расскажет о ваших проблемах всему миру…
ХАННА. Я не Хелисат. Я Ханна, из Хельсинского сообщества. Кроме того, я представитель «Красного треугольника».
НАЧАЛЬНИК. Ваши права также защищает минерал…
ТЕОФИЛО. Не минерал, а «Мемориал» – наша организация. Меня зовут Теофило. Так зовут одного кубинского боксера.
САПАР. Это ты?
ТЕОФИЛО. В его честь меня назвал отец.
ХАННА. Слушайте, высказывайте мне все свои жалобы, если вас бьют, ограничи-вают свободу слова, нарушают права. Мы расскажем об этом всему миру.
ТЕОФИЛО. Мы напишем об этом в ООН, ОНН, ОБС, МКК, МКС… И в книгах опишем…
НАЧАЛЬНИК. Короче, собрав ваши заботы и проблемы, они пропустят их как молоко через сепаратор, и снимут сливки.
ТЕОФИЛО. Не пытайся очернить нас! Я доложу в УВКБ ООН!
ХАННА. Не обращай внимания…
ТЕОФИЛО. Христиане Новой Зеландии отказались от свиного мяса до вашего освобождения!
САПАР. Это любезно с их стороны.
ХАННА. Вымаливая для вас свободу, язычники Гвинеи-Бисау целых три дня и три ночи, не прерываясь, исполняли вокруг костра ритуальные танцы.
ГАМАРГ. Можно было бы обойтись и без этих жертв.
ХАННА. Дорогие арестанты, есть у вас жалобы?
ГАМАРГ. Здесь нет условий для малого омовения…
НАЧАЛЬНИК. Ты о каких молитвах? Кому они нужны? До сих пор сказки писал, а теперь Бога вспомнил!.. Размечтался!
ГАМАРГ. Я с давних пор молюсь.
НАЧАЛЬНИК. Тогда совершай малое омовение землей. Воды нет!
САПАР. Тут холодно.
ХАННА. От имени Хельсинского сообщества, от имени «Красного Треугольника» окончательно и бесповоротно требую: установите в яме батареи и чтобы они обогревались горячей водой!
НАЧАЛЬНИК. Ха-ха-ха. Ты серьезно?
ТЕОФИЛО. Если у вас нет такой возможности, проведите свет и поставьте электроплитку.
НАЧАЛЬНИК. Что ты говоришь?! У нас тока даже на пытки нет, чтобы выбить правду… Вы что, думаете, на курорт попали? Ждете, что я в разгар войны буду отопление для вас проводить? Охранник, дай им дров для огня!
ГАМАРГ. Если в этой яме зажечь костер, как выйдет дым?
НАЧАЛЬНИК. Дым найдет способ выйти. Не о дыме беспокойтесь, а о себе.
САПАР. Постой-ка….
НАЧАЛЬНИК. Некогда ждать. Таких, как вы, у меня больше 400…
ТЕОФИЛО. Не переживайте, о вашем положении благодаря нам узнает весь мир.
ХАННА. Мы встретимся с вашими родными, расскажем и им. Если они напишут, передадим вам их письма.
САПАР. Мы сгнием, пока вы письма будете туда-сюда разносить.
ТЕОФИЛО. Будь наша воля, вы здесь и часа бы не провели…
МУТУШ. Хоть какую-то определенность внесите в наше дело! Какую-то определенность!
НАЧАЛЬНИК. Определенность?! Будет вам и определенность! Пошли! Пошли! Тюрьма большая. Надо завершить осмотр.
Уходят.
Картина 3
Та же яма
МУТУШ. Эй-эй, просыпайся.
САПАР. Зачем просыпаться, если ничего не видно… кроме тьмы… А так хоть сны видишь… Я видел солнце… луну… Если увидеть их одновременно, как этот сон растолковывают?
МУТУШ. Оставь-ка это, подожди… послушай!
ГАМАРГ. Вы о чем?
МУТУШ. Да мы-то ни о чем… Послушай, что говорят наверху…
ГАМАРГ. Кто там?
МУТУШ. Слушай.
Сверху доносятся голоса.
НАЧАЛЬНИК. Это сено… Лучше сено с сорняком… Много не надо, одну охапку… Да, бери то, что покрупнее. Ложи здесь, у ямы. Так. Одной охапки, пожалуй, будет маловато. Бери еще… надо с этим бурьяном и дровишки забросить. Вы принесли их?
I ОХРАННИК. Да, вот они.
II ОХРАННИК Нужно ли их расколоть?
НАЧАЛЬНИК. Да, лучше пополам расколоть. Чтобы огонь от бурьяна и сухой травы быстро перекинулся на них.
I ОХРАННИК. А что делать с этими толстыми деревяшками?
НАЧАЛЬНИК. Их не надо пилить. Как только огонь окрепнет, подбросим и их… Пламя будет больше. Потом закройте яму, засыпьте землей, чтобы дым не выходил.
МУТУШ. О чем это они говорят?
САПАР. Я знаю, о чем.
ГАМАРГ. И я знаю. Но не хочется верить…
САПАР. Хочешь ты или нет, а они готовят нам смерть.
МУТУШ. Что за смерть?! Разве нас трудно убить? Достаточно передернуть затвор…
САПАР. Они хотят не просто убить нас… Они хотят устроить нам ад при жизни…
МУТУШ. Значит, их главарь Хункаш подписал нам приговор.
ГАМАРГ. К чему эта жестокость? Не понимают, что и им предстоит умереть?
САПАР. Пусть делают со мной, что угодно, а вы-то чем виноваты? Сказочник… И водитель, зарабатывающий на хлеб…
МУТУШ. Нет, без разрешения Хункаша они бы не посмели нас убить.
САПАР. Парни, вы поступайте, как считаете правильным, а я не хочу живьем в ад.
МУТУШ. Что ты собираешься делать?
САПАР. Делать больше нечего. Остается просто умереть.
ГАМАРГ. Самоубийство – грех…
САПАР. Зачем же самому, когда рядом есть вы, чтобы помочь?..
МУТУШ. Чем помочь?
САПАР. Перейти мне в праведный мир…
МУТУШ. Я тебе в этом не товарищ.
САПАР. Но ведь лучше выбрать легкую смерть, чем уготовленный нам ад?
ГАМАРГ. Мы не знаем точно, о чем они говорили.
МУТУШ. Они точно говорили о нас… Это правда.
САПАР. Вы оставайтесь, вы ни в чем не замешаны… Вас, возможно, отпустят, если меня убьете.
МУТУШ. Что ты говоришь? У них тогда появится повод, чтобы устроить нам здесь ад.
ГАМАРГ. Я не собираюсь брать на себя чью-либо кровь…
САПАР. Эх, мир! Хоть бы в бою или в драке умереть… Как же быть?
Мечется по яме.
МУТУШ. По мне так лучше умереть, чем испытать ужас, который они готовят.
САПАР. Тут нет даже места, чтобы подвесить ремень.
МУТУШ. Я знаю, что делать… этот осколок… надо вскрыть им вены… Твою левую руку надрежу я, ты правой сделаешь то же…
САПАР. Да, так и поступим. Вот этот кусочек стекла… Эх, попасть бы к ним с этим осколком в руках… Подойди…
ГАМАРГ. Подожди… Надо прочитать молитвы… Обратной дороги-то нет.
САПАР. Я не знаю ни одной молитвы.
ГАМАРГ. Ты и «Кулх» не знаешь?
САПАР. Не знаю.
МУТУШ. Что же ты до сих пор делал?
САПАР. Хотел стать спортсменом, потом эта заваруха…
ГАМАРГ. Хочешь выучить?
САПАР. Конечно. Перед смертью хоть одну молитву хотелось бы знать… Всевышний, будь милосерден ко мне.
ГАМАРГ. Повторяй за мной. Бисмиллахьиррохьманиррохьийм!
САПАР. Бисмиллахьиррохьманиррохьийм!
ГАМАРГ. Кулхуваллоху ахад.
САПАР. Кулхуваллоху ахад.
ГАМАРГ. Оллоху Самад.
САПАР. Оллоху Самад.
ГАМАРГ. Лам ялад, ва Лам юлад.
САПАР. Лам ялад, ва Лам юлад.
ГАМАРГ. Ва лам якуллаху.
САПАР. Ва лам якуллаху.
ГАМАРГ. Куфуван ахад.
САПАР. Куфуван ахад.
ГАМАРГ. Оллоху Акбар.
САПАР. Оллоху Акбар…. Запиши это нашими буквами.
ГАМАРГ. Чем и на чем?..
САПАР. Размочи спичку и на этом камне напиши…
Гамарг пишет на камне.
МУТУШ. После моей смерти мои штаны носить они не будут.
Рвет брючины.
ГАМАРГ. Да ладно, твои штаны никому не нужны.
МУТУШ. Твоя шапка и моя обувь понадобились. Эти брюки я купил за три дня до ареста.
САПАР. У меня двое сыновей восьми и девяти лет… Хотел вырастить спортсменами… В день, когда мы встретились с вами, я ехал в город, чтобы купить им гантели… Что с ними будет после моей смерти?
МУТУШ. Дети-то как-нибудь перебьются. У меня их шестеро. Когда повстречался с вами, я как раз пытался заработать на хлеб для них… У них-то мать есть. Я же рос без матери и отца. После армии год не снимал форму: не было сменной одежды. В тот день я был без настроения, думал остаться дома… Поухаживать за цветами… У меня во дворе теплица. Два-три года назад это было прибыльное занятие, сейчас мало кому дела до цветов… Не думал, что Хункаш так поступит.
САПАР. Хватит, сколько можно о нем… Хункаш, Хункаш… Думаешь, кто он такой? Обычный придурок!
МУТУШ. Знаете, что странно? До того, как попасть сюда, я боялся ям.
САПАР. Каких ям?
МУТУШ. Любых. Мой сосед как-то сказал: «Оставь свои цветы и вырой во дворе яму, будешь получать конденсат». Я не согласился.
САПАР. Видимо, тогда душа что-то подсказывала.
ГАМАРГ. У меня две дочки. По вечерам я рассказывал им сказки. Каждый раз новую, иначе были бы недовольны. А днем они рисовали красками картинки к услышанной чудесной истории. Эти сказки я еще не опубликовал. Потом, думал, когда вырастут, выпущу книжку с их рисунками и назову «Сказки Айны и Асет».
Накануне я рассказал им сказку «Бабочка, Петух и Лиса». Петух предложил дружбу Бабочке. Что за дружба может быть между ними, ведь Бабочка живет всего три дня… Дружить надо с равными. Да и кто знает, что у Петуха на уме? У него же клюв. Петух бежит за Бабочкой. Уходит далеко за пределы двора. А на окраине деревни в кустах, притаившись, сидит Лиса… Да, я вышел, чтобы купить краски для картинок к этой сказке. Краски закончились. Не знаю… в чем я провинился… чтобы держать меня здесь… Правда, в одной из сказок я обрисовал несправедливость Льва.
САПАР. Ну и что с того?
ГАМАРГ. Может, Хункаш подумал, что речь идет о нем? Лев ведь – царь диких зверей…
МУТУШ. Я тоже думаю, за что… Правда, как-то я разговорился с одним пассажиром и упомянул в беседе пенсии, пособия, зарплату, которые не платят людям… Возможно, он донес… Говорят, Хункаш сказал…
САПАР. О Боже! Хункаш да Хункаш! Сколько можно о нем!
МУТУШ. В мыслях я что только о них не сказал… И так, и матом… А вдруг у Хункаша есть машина, которая читает чужие мысли… Бывает ли такая?
ГАМАРГ. Не знаю, может быть.
САПАР. Боже мой! Какие вы странные! Вы что, думаете, Хункаш с сотоварищами напрягается, отделяя виновных от безвинных. Вы просто с ума сошли! Им все равно, кто оказался в их руках – виноватый или нет. Человека загубить для них все равно, что курицу зарезать. Понимаете?
МУТУШ. Это трудно понять.
САПАР (Мутушу). Ладно, оставь это. Возьми-ка этот осколок и полосни им мою левую руку.
МУТУШ. Подожди.
САПАР. Некогда ждать. Слышишь звуки? Это дрова, которые они пилят. Как только появится Начальник, они запустят эту адскую печь…
МУТУШ. Тогда надо поспешить. Давай руку.
Берет левую руку Сапара.
САПАР. Так, так, не жалей меня!
Мутуш надрезает его руку.
МУТУШ. Теперь мою режь. Держи руку…
Сапар режет ему руку.
ГАМАРГ. Нате и мою руку…
МУТУШ. Я не буду ее резать.
САПАР. И я не буду.
ГАМАРГ. Э-э, так дело не пойдет… Хотите сами избавиться от мучений, а меня оставить им на растерзание?
САПАР. Тебя они могут не тронуть… Сказки ведь и их детям нужны.
ГАМАРГ. Начальник сказал, что он не может иметь детей.
САПАР. Это правда… Тебя ведь наши люди должны были уважать, как немцы Гофмана, а русские – Чуковского.
ГАМАРГ. Этого не будет. Давай быстрее, пока на наши головы не посыпались дрова и бурьян. Всевышний, не сочти за грех! Прости, о Аллах!
САПАР. Не сочти за грех!
Надрезает Гамаргу руку.
А сейчас ложитесь каждый на свое место. Пока не заснете или не потеряете сознание, работайте своей рукой, сжимайте кулак и разжимайте… Кровь пойдет быстрее… Представляйте: они забегут сюда, думая, что мы живы, чтобы вынести свой приговор. И найдут нас мертвыми. Ха-ха-ха! Как же они обманутся!
МУТУШ. Подожди, я на этой стене выведу кровью наши имена… Здесь были Гамарг, Мутуш… Это мое имя, а как тебя звали?..
САПАР. Меня зовут Сапар.
МУТУШ. Да, здесь были Гамарг, Мутуш, Сапар… Сейчас лягу.
САПАР. Эх! Как же они обманутся! Когда они ворвутся сюда, наши души будут смотреть сверху и смеяться над ними.
МУТУШ. Кто знает, что тогда будет?
ГАМАРГ. Каждый пусть читает молитвы, какие знает.
МУТУШ. Попросим милости у Всевышнего…
САПАР. Твой тезка молится неистово. Я видел по телевизору этого старца.
МУТУШ. Меня назвали в его честь. Надеялись, что я тоже стану мюридом. Куда там! Откуда такая возможность: сначала боролся за выживание, потом пытался содержать семью…
САПАР. Придвину свечу и буду читать «Кулх» с камня.
Наступает тишина, слышен лишь шепот. Потом и он исчезает.
Часть II
Картина 4
Эта же яма
МУТУШ. Ну и ну! Я проснулся! Собравшийся на тот свет, я еще жив. Что за сон мне привиделся? Цветы, были цветы… Цветы в моей теплице… Я их поливал… Это же хороший сон… Что с моими товарищами? Гамарг! Сапар!
ГАМАРГ (просыпаясь). Да! Чего тебе?!
МУТУШ. Ты жив?
ГАМАРГ. Похоже на то.
МУТУШ. А что с Сапаром?
ГАМАРГ. Когда ты меня будил, я видел прекрасный сон.
МУТУШ. Что за сон?
ГАМАРГ. Я в родном селе, во дворе своего деда. Там растет виноград, образуя навес. Я срываю прозрачно-зеленые кисти и кладу их в плетеную корзину.
МУТУШ. И что это значит?
ГАМАРГ. Не знаю… Это приятная картина… Видно, случится что-то хорошее…
САПАР (просыпаясь). Мы что, живы? Вот это да! Мы не умерли, и они не осуществили своих намерений. Слава Всевышнему! Слава!
ГАМАРГ. Благодарение Творцу!
МУТУШ. Благодарение!
I ОХРАННИК. Эй, встали! Обход!
НАЧАЛЬНИК. Кто там такие?
Направляет фонарь.
А-а вспомнил: сказочник и другие…
ТЕОФИЛО. У нас для вас хорошая новость, мы навестили ваших родственников… Рассказали о вашем положении… Они были рады, что вы живы.
ХАННА. Мы написали о вас в центральный офис «Красного Треугольника», в Хельсинки, ОБС-е, в другие организации… На двухстах митингах требовали вашего освобождения, в небо выпустили тысячу шариков… Три из них мы принесли вам. (Бросает три ненадутых шарика).
ТЕОФИЛО. Наше общество выпустило в небо три тысячи бумажных самолетиков с вашими именами: по тысяче на каждого. Три из них мы принесли вам. (Бросает в яму три самолетика).
НАЧАЛЬНИК. Как видите, ваше дело обсуждается во всех уголках мира, можете спокойно отсиживать свое.
САПАР. Что вы гноите нас тут без всякого суда и следствия?
НАЧАЛЬНИК. Ты о каком следствии? Если мы будем с тебя спрашивать, ты пожалеешь, что появился на свет. Что с твоей рукой?
САПАР. Порезал.
НАЧАЛЬНИК. Как порезал? Кто порезал?
МУТУШ. Мы порезали друг другу… Осколком стекла…
НАЧАЛЬНИК. Сказочник, ты же не порезал свою руку? Ты, что в светлых красках рисуешь этот мир?
ГАМАРГ. И я порезал.
ТЕОФИЛО. Их срочно нужно отправить в лазарет.
ХАННА. Надо продезинфицировать раны и забинтовать.
НАЧАЛЬНИК. Как же! Этого, конечно, не будет. Вам давали в день по три лепешки, три чайника с кипятком, разведенным с сахаром?
САПАР. Давали!
НАЧАЛЬНИК. Зачем же вы порезали руки?!
МУТУШ. Чтобы выпустить грязную кровь.
НАЧАЛЬНИК (крича). Вся ваша кровь грязная! Кому это пришло на ум? Кому?! Говорите! Я вас всех троих перемелю! Говорите!
САПАР. Я придумал.
НАЧАЛЬНИК. Достаньте его оттуда.
Сапара вытаскивают.
Теперь расскажи, зачем вы это сделали?
САПАР. Хотел умереть.
НАЧАЛЬНИК. Не имея мужества умереть на войне, ты пытался уйти, как сошедшая с ума девица?
САПАР. Нет. Умереть в схватке с вами у меня не было возможности, и я предпочел уйти сам, не дожидаясь ваших истязаний.
НАЧАЛЬНИК. Хотел опорочить меня в глазах мирового сообщества?! Это я тебя опозорю! Эй, двое! Я приговорил его к пяти минутам!
ТЕОФИЛО. Что это значит?
НАЧАЛЬНИК. За нарушение тюремного режима и попытку смерти без спе-циального разрешения, а также нарушение порядка в Великом научном эксперименте, который проводится под моим руководством, я назначаю наказание: пять минут бить преступника!
Двое охранника начинают избивать Сапара.
ХАННА. Что ты творишь? На наших глазах применяешь силу к арестантам?!
НАЧАЛЬНИК. Из-за вас-то я и назначил всего пять минут вместо положенного часа. Из уважения к вам.
ТЕОФИЛО. Что ты говоришь?! Так нельзя!
ХАННА. Я напишу письма в Хельсинки, Страсбург, Брюссель, Биробиджан, Куала-Лумпуру!
НАЧАЛЬНИК. Пиши! Не забудь и про пастуха Геза-Махму из Хорти-Хутора. Напиши и ему!
ТЕОФИЛО. Что ты творишь? Разве ты не чеченец?! Это же позор – избивать раненого арестанта! По нашим обычаям, это большая трусость!
НАЧАЛЬНИК. Обычаи, стыд, народ не народ – все ничтожно по сравнению с научным поиском. Да здравствует эксперимент! Экспериментальная машина, перемолов все, отжимает сок.
ХАННА. Что это за эксперимент?
НАЧАЛЬНИК. «Как проявляют себя людские души в тяжелой, безвыходной ситуации» – так называется этот эксперимент. У меня нет секретов.
ХАННА. Ты занимаешься психоанализом?!
НАЧАЛЬНИК. Надо же, и ты слегка коснулась науки. Наша научная группа занимается исследованиями не только в области психологии. Мы изучаем социологию, генетику, эволюцию, антропологию, археологию. (Двум охранникам). Что вы остановились? Бейте!
I ОХРАННИК. Пять минут истекли!
II ОХРАННИК. Добавь еще пять.
НАЧАЛЬНИК. Я не меняю наказаний! Забрось его обратно!
ХАННА. Надо дать им йод, зеленку, бинты!
НАЧАЛЬНИК. Один йод, одну зеленку, три бинта!
ТЕОФИЛО. Этого недостаточно! Пузырьки маленькие.
НАЧАЛЬНИК. Больше нельзя. Они могут выпить и сорвать мой эксперимент! Когда закончится йод, сбрызните уриной, да, смочите уриной! Она целебна!
ХАННА. Их нужно отвезти в больницу.
ТЕОФИЛО. Или доставить к ним врача.
НАЧАЛЬНИК. Все, что надо, мы сделаем!
ХАННА. Я напишу жалобы!
НАЧАЛЬНИК. Пишите! Пишите всем! И не забудьте пастуха Геза-Махму из Хорти-хутора. Это же ваша работа – писать! Слушайте вы, арестанты, а точнее – тряпки! Больше так не шутите! А если все же решитесь, я залью сюда воду и буду держать вас в ней. Мы знаем, когда истечет ваше время!
ТЕОФИЛО. Не переживайте! Ваше дело рассматривается в четырех концах планеты.
ХАННА. Мы устроим митинги, выпустим шарики!
ТЕОФИЛО. Мы выпустим бумажные самолетики, записав на них ваши имена!
Уходят.
МУТУШ. Сапар! Как ты?
САПАР. Кажется, сломано ребро… Больно дышать. Посмотрел бы я, если бы хоть один из них встретился мне… Я бы сломал тогда им ребра… В яме тяжело…
МУТУШ. Подойди, Гамарг. Давай перевяжем ему руку… Наши действия вряд ли приведут к смерти.
САПАР. Ты посмотри, что он говорит!
МУТУШ. Кто?
САПАР. Их Начальник… говорит, что и умереть нельзя без его дозволения…
ГАМАРГ. Он обманулся… Совсем сдурел.
САПАР. Уж он у меня обманется, только выберусь отсюда!
МУТУШ. Чтобы выйти отсюда, ты должен для начала выздороветь…
САПАР. Парни, я могу стать для вас обузой. Кажется, мне повредили внутренности.
ГАМАРГ. Бог даст, полегчает.
Они перебинтовывают Сапару руку.
МУТУШ (Сапару). Теперь приляг. (Гамаргу) Давай свою руку…
Они перевязывают друг другу руки.
Картина 5
Та же яма
I ОХРАННИК. Эй, что притихли?! Вы живы там?
МУТУШ. Живы.
I ОХРАННИК. А что молчите?
МУТУШ. О чем говорить? Все обсудили.
I ОХРАННИК. Гамарг, ты не написал новую сказку?
ГАМАРГ. О чем это ты? Как здесь сказки сочинять? Даже если надумаешь, ни карандаша, ни бумаги.
I ОХРАННИК. Ты же можешь и в уме сочинить.
ГАМАРГ. Придуманная здесь сказка будет ужасной.
I ОХРАННИК. Тогда послушайте мою.
САПАР. Ну, гони.
I ОХРАННИК. Жил-был один юноша. Родители его погибли, когда он был совсем еще ребенком: машина, на которой они ехали в город, упала в пропасть. Сначала мальчик жил у дяди, потом рос в интернате, тоскуя по семье, родным. Повзрослев, стал телемастером. Дело прибыльное. Купил дом, женился. Родилась дочь. Как же он был счастлив, ведь так давно тосковал по родным душам! Однажды, когда шел за питанием для своей двухмесячной крошки, рядом с ним остановилась машина. Выскочившие из нее люди отвезли его сюда и бросили вот в эту яму, в которой сидите вы…
САПАР. О ком ты говоришь?
I ОХРАННИК. О себе. Я здесь уже год и семь месяцев… Что стало с моей женой? Не сошла ли с ума с горя? Что с моей маленькой Селимой?
ГАМАРГ. Что-то ты сегодня разговорился! Где твой напарник?
I ОХРАННИК. Его перевели наверх… Он им, видимо, подошел, а я нет.
МУТУШ. Как это – наверх? Ты же тоже наверху?
I ОХРАННИК. С сегодняшнего дня я такой же, как и вы! Эта яма двухэтажная… Сейчас… прямо над вами положили огромные бетонные круги… Как вокруг колодца… На высоте пятнадцати метров покрыли крышей, оставив одно оконце, чтобы пропускало воздух. Сейчас солнечный свет проникает оттуда… Но его закроют черной сеткой… Тем не менее воздух сквозь нее проходит… Я видел ее на одном из подобных строений. Как-то я ходил туда охранять…
ГАМАРГ. С тех пор, как ты оказался здесь, получал ли весточку из дома?..
I ОХРАННИК. Нет, не получал.
МУТУШ. Но ведь Теофило и Ханна этим занимаются. Что ж ты им не дал адрес?
I ОХРАННИК. Думаете, они чем-то помогали? Они просто делали вид, Начальник приставил их к себе для того, чтобы они имитировали правозащитную деятельность…
САПАР. Вот это да! Митинги, шарики, бумажные самолетики, ОНН, ОБС-е, жалобы…
I ОХРАННИК. Ничего не было… Все ложь…
ГАМАРГ. Но зачем это нужно? В чем смысл?
I ОХРАННИК. Говорят, что все это нужно для эксперимента, который проводит Начальник… Кажется, кое-что он и сам не понимает!
САПАР. По-моему, и он сам – подопытный в еще большем эксперименте.
ГАМАРГ. Может быть.
МУТУШ. А где сейчас Ханна и Теофило?
I ОХРАННИК. Здесь же. Где-то в одном уголочке щенком скулит Ханна, а в другом волком воет Теофило. Прислушайтесь.
Все прислушиваются.
ХАННА (с плачем). Кто меня просил вмешиваться во все это?.. Ва-а-а… Надо было слушать мать… Выращивать кукурузу, фасоль… тыкву… Выпустите меня. Я в ООН, ОБС-е, ОНН, семи вашим праотцам жалобы напишу… Ва-а-а…
ТЕОФИЛО (обиженно скрежетая зубами). Я вас уничтожу, грязные твари… Подлые собаки! Я вас передушу всех… только выйду отсюда! Я вам покажу, кто есть волк! Ву-у-у.
Воет по-волчьи.
I ОХРАННИК. Когда поняли, что они стали вам сострадать искренне, а не притворно, их бросили в яму.
САПАР. Тебя тоже из-за этого же сострадания оставили здесь, не забрав наверх. Когда вы меня били, удар твоего приклада был слабее… А вот твой напарник старался изо всех сил, это он сломал мне ребро.
I ОХРАННИК. Не знаю… Мне не объяснили, почему. Оставили вот этот автомат и три патронташа…
ГАМАРГ. Забыли, наверное.
I ОХРАННИК. Нет, просто так здесь ничего не случается… без какого-нибудь значения…
САПАР. И в чем же смысл?
I ОХРАННИК. Например, оставили мне надежду, что когда-нибудь отпустят.
МУТУШ. Я знаю, зачем они оставили автомат. Это намек: если ты убьешь нас всех, тебя заберут наверх.
I ОХРАННИК. Может быть.
САПАР. Если ты это сделаешь, то освободишь нас от мучений.
МУТУШ. Тогда и сам, возможно, будешь свободен…
I ОХРАННИК. Э-э, парни! Вот уже год и семь месяцев я продержался, не поступая так. Я не дурак, чтобы брать на себя чужую кровь. Они думают, со смертью все заканчивается… Но только после смерти все и начинается, – так говорил один старец, живший со мной по соседству.
ГАМАРГ. Если ты не лицемеришь, говоря это, значит, ты очень хороший человек.
I ОХРАННИК. Когда-нибудь вы это узнаете.
В этот момент раздаются крики Ханны и Теофило.
ХАННА. Не закрывайте! Не закрывайте!
ТЕОФИЛО. Будьте вы прокляты, оставьте хотя бы окно!
I ГРОМКИЙ ГОЛОС. Эй, кто остался! Арестанты! У каждой тюрьмы свой режим! Мы обязаны его соблюдать. А вы не кричите, ваше дело рассматривается в ООН, МТС благодаря двум посланникам. Один из них поговорит с вами.
II ГРОМКИЙ ГОЛОС. Я посланник МТС. Свои жалобы выскажите нам. А мы донесем их во все уголки света. Проведем митинги, выпустим шарики, бумажные самолетики.
ТЕОФИЛО. Ох! Дурак я! Дурак! Дайте мне только выйти отсюда!
Ханна скулит щенком, Теофило воет волком. Затем наступает тишина.
I ОХРАННИК. Теперь мы все здесь, действительно, равны. Закрыли они и это последнее окно. Если хотите, можете подняться сюда, я спущу лестницу.
ГАМАРГ. Что нам там делать?.. Мы здесь уже привыкли. Лучше скажи, сколько времени прошло с тех пор, как нас забросили сюда?
I ОХРАННИК. Год и одиннадцать дней… Как и тогда, на улице зима, идет снег… Когда было открыто окно, сюда падали снежинки…
САПАР. Я помню день, когда нас схватили и бросили сюда… 20 декабря.
ГАМАРГ. Если прошел один год и одиннадцать дней… значит, сегодня первый день нового года… Или новогодняя ночь..
МУТУШ. Так и должно быть…
ГАМАРГ. Во дворе я посадил ель. За два-три года она выросла… И каждый Новый год мы наряжали ее… Потом, взявшись с детьми за руки, водили вокруг нее хоровод.
Взяв свечу, начинает что-то искать.
САПАР. Что ты ищешь?
ГАМАРГ. Шарики… Ханна бросила сюда три шарика… А-а, нашел…
МУТУШ. Что ты собираешься с ними делать?
ГАМАРГ. Сейчас узнаешь.
Поставив свечу, он надувает шарики.
Мы же тоже должны встретить Новый год… Может, нашим детям во сне привидится эта картина. Охранник, спусти лестницу.
I ОХРАННИК. Зачем?
ГАМАРГ. Мы украсим ее шариками, и она будет нашей елкой.
Охранник спускает веревочную лестницу. Гамарг привязывает к ней шарики.
САПАР. Ты впал в детство.
ГАМАРГ. Я всегда нахожусь в детстве. Подходите, пройдем в хороводе вокруг елки.
САПАР. Получится только полкруга… Разве что, сквозь стену пройти.
ГАМАРГ. Верно.
Устав, садится.
САПАР. Мутуш, если бы ты вырыл в свое время яму во дворе, спал бы сейчас спокойно дома, продавал бы бензин.
МУТУШ. Если бы ты знал, что это за яма, ты бы так не говорил. Сосед со своим сыном рыли такую яму. По очереди спускались в нее. Внезапно туда прорвался газ, и сын упал. Прыгнувший спасать его отец тоже потерял сознание… Им на помощь поспешил дядя сына по матери, гостивший у них в тот день, он тоже умер. Это была страшная картина: три трупа в одной яме.
ГАМАРГ. Да, наш народ погибает во всевозможных ямах. Надо было искать счастья не в ямах, а в горах. Вместо этого люди устремились в лоно земли. А горы пустуют.
Проходит какое-то время в молчании.
МУТУШ. Как же это ужасно, сколько горя и переживаний испытываем мы и наши семьи по их вине. Почему земля, взорвавшись, не освободится от этой печали?! Почему небеса, разверзшись, не упадут друг на друга?!
САПАР. Что они делают с такими же заключенными, как и мы?
I ОХРАННИК. Точно не знаю… слышал в разговоре… засыпают сверху землей и оставляют в яме… Люди же, пытаясь выбраться наружу, роют землю и становятся кротами или превращаются в муравьев. А на месте ямы образуется большой холм.
МУТУШ. Как же так? Как же так можно? Живых людей закапывают.
I ОХРАННИК. Люди перестают к тому времени быть людьми… Они превращаются либо в кротов, либо в муравьев, либо в мышей…
САПАР. Как это происходит?
I ОХРАННИК. Души, сжимаясь, становятся муравьиными. Или кончают собой!
ГАМАРГ. В эти игры мы больше не играем! Я знаю, как остаться людьми.
I ОХРАННИК. Расскажи.
ГАМАРГ. Надо совершить зикр. Лаилаха иллалаху, лаилаха иллалах!
Начинает кружиться, повторяя слова молитвы. К нему присоединяются и другие… Постепенно звуки молитвенных песнопений удаляются.
Картина 6
Та же яма
Гамарг тихо о чем-то говорит сам с собой.
МУТУШ. Ты говоришь сам с собой…
САПАР. Не сходи с ума!
ГАМАРГ. Пришло на ум одно стихотворение.
МУТУШ. Прочитай так, чтобы и мы услышали.
I ОХРАННИК. Прочитай, если не хочешь стать муравьем.
ГАМАРГ. Убереги Всевышний от этого! Слушайте.
Распахнул окно – там яма.
Где было окно – черная яма.
Взрезая землю, рыли яму.
На месте сердца – лунка.
День ото дня огромней лунка,
И вот совсем не стало сердца.
Где окно светилось –
Черная глубокая бездна.
Где сердца бились –
Зияют ямы, хлещет ветер…
Глаза и сердце – в тревоге,
Могильный холм гнет спину!
Взамен возьмите жизни,
Верните свет и души!
МУТУШ. Это о нас с вами.
САПАР. Я читал твои сказки о Хурцилдиге. Это стихотворение не похоже на них. Сказки светлые, а стихи мрачные…
МУТУШ. На месте сердца – яма… Это же обо мне. Как же глубока эта яма: заглянешь – дна не видно. Я говорю о том, что у меня в душе. Как же это тяжело перенести.
I ОХРАННИК. Прочитай-ка последние строки еще раз.
ГАМАРГ. Взамен возьмите жизни, / Верните свет и души.
МУТУШ. Для чего-то Бог не забирает нас.
I ОХРАННИК. Готовы ли вы на самом деле заплатить своей жизнью за солнечный свет?..
ГАМАРГ. Я готов.
МУТУШ. Я готов отдать любую цену лишь бы наше положение хоть как-то определилось окончательно.
I ОХРАННИК. Сапар, а ты что молчишь?
САПАР. Что зря говорить… Что ты можешь сделать? Разве застрелить нас всех…
I ОХРАННИК. Нет, в вас стрелять я не буду, в небо…
ГАМАРГ. Как?! Ни нам, ни тебе неба не видно.
I ОХРАННИК. Через окно, завешанное черной сеткой.
МУТУШ. И чего ты этим добьешься?
I ОХРАННИК. А вы не спешите… Я объясню, если не будете торопить. Мы оказались в очень тяжелой ситуации. Не только Начальник проводит над нами эксперимент, он и сам – часть эксперимента, проводимого другими. Говорят, они собирают черную силу из переживаний и горя людских душ.
САПАР. Кто говорит? Кто это говорит?
I ОХРАННИК. Человек сведущий. Имя назвать не могу.
МУТУШ. Дальше, дальше… рассказывай.
I ОХРАННИК. Но есть противники этих экспериментов. Не только люди… Но и ветер… Он иногда разрушает покрытие этой ямы… Самолеты… Они двух видов… Одни – разведчики: если что-то заметят на земле, передают другим. Скоро появляются истребители и выпускают бомбы и ракеты…
САПАР. «Вызываю огонь на себя»! Герой!
I ОХРАННИК. Я не говорю, что я герой… Но это единственный путь спасения.
МУТУШ. А если они не обратят внимания на твою стрельбу? Что будем тогда делать?
I ОХРАННИК. Ничего. Делать будет нечего. Но мне кажется, что они обратят внимание. Только самолеты Начальник не смог купить за свое золото.
ГАМАРГ. Нет ничего, что бы нельзя было купить за золото в мире людей.
I ОХРАННИК. Но ими управляют не люди… Точнее, их ведут роботы. Перед ними поставлена одна задача – бомбить сектор, откуда раздалась стрельба…
ГАМАРГ. Робота не подкупишь.
САПАР. Значит, бездушный робот лучше человека.
I ОХРАННИК. Не шумите! Тихо! Приближается, приближается.
МУТУШ. Я ничего не слышу.
I ОХРАННИК. Слушайте внимательно.
Все прислушиваются. Издали раздается шум самолета. Шум усиливается.
I охранник стреляет.
I ОХРАННИК. На, получай! Стреляй теперь, бомби, если ты самолет!
Шум самолета исчезает.
Подождем несколько минут – как молния, примчится, чтобы наказать меня за выстрелы…
САПАР. Может, правда прилетит?
I ОХРАННИК. Должен…
МУТУШ. Как дело дошло до нас, он может остаться в ангаре. Мы же невезучие, несчастные!
ГАМАРГ. Когда мы хотели умереть, Всевышний не помог нам, он берег нас до сих пор: раны были несерьезными, мы быстро выздоровели…
Останавливается из-за подкатившего к горлу кома.
МУТУШ. Да, оберегал.
ГАМАРГ. Я думаю, это для чего-то было необходимо… Для чего-то хорошего…
САПАР. Дай-то Бог… Я тоже так думаю…
I ОХРАННИК. Парни, если я погибну, а кто-то из вас выживет… сходите к моей жене и дочери. Мой адрес: поселок Мичурина, улица Братьев Гримм, дом 27… Скажите моей Селиме…
На некоторое время замолкает, содрогаясь в плаче.
Простите меня… Не судите… Сердца почти не осталось… Истончилось…
САПАР. На месте сердца – яма…
I ОХРАННИК. Это правда: яма, пустая яма… Ничего, скоро она заполнится землей. Так вот, скажите ей: твой отец тебя очень любил и будет любить всегда… Меня зовут Нажа.
МУТУШ. Ты сказал, если кто-то выживет…
Тут раздается рев самолета. Быстро, гнетуще и звонко.
ХАННА. Прилетел!
ТЕФИЛО. Ура-а!
ГАМАРГ. Всевышний, прояви милосердие!
Шум усиливается… Раздаются разрывы снарядов и бомб. Темнеет, все исчезает во мраке… Это продолжается несколько минут. Затем наступает тишина. Яма и надстройка над ней разрушены, все раскурочено. А в небе над всем этим кружится шарик. Отброшенный далеко в сторону ударной волной, Гамарг приходит в себя.
ГАМАРГ. Ох, ох… Я жив… Солнце… Солнце, как же я тебя ждал! Солнце! Шарик, который мне принесла Ханна, кружится в облаках. А вон и самолетик… Его нам дал Теофило… Летите по ветру, солнцу. И я пойду.
Встает.
Что же стало с моими товарищами?
Сапар! Мутуш! Нажа! Так, кажется, звали этого охранника…
Сапар!
Из-под руин поднимается Сапар, Гамарг подпрыгивает от удивления.
САПАР. Кто ты?!
ГАМАРГ (с криком). А-а-а! А ты кто?
САПАР. Я-то Сапар. Вот ты кто?
ГАМАРГ. Почему ты такой черный?
САПАР. Ты тоже черный, как негр.
ГАМАРГ. Мы провели так много времени в темноте, наверное, поэтому наши лица почернели.
САПАР. Не знаю… Давай умоемся… Если не отчистим лица, среди людей появляться нельзя…
Подходит к затону и умывается. То же делает Гамарг.
ГАМАРГ. Повернись-ка.
САПАР. Повернулся.
ГАМАРГ. Лицо стало чище.
САПАР. И твое тоже. Я знаю, от чего это произошло. Это от дыма свечи.
ГАМАРГ. Наверное.
САПАР. Не стой здесь! Они сейчас вернутся. И снова сбросят нас в яму. Эй-э-э-й! Я жив! Теперь-то я вам покажу!
Внезапно убегает.
ГАМАРГ. Ты куда?
САПАР. За горизонт! Для начала скроюсь. Потом найду тебя.
ГАМАРГ. Счастливого пути! Если нам суждено – свидимся.
САПАР. Я отомщу нашим мучителям. Не переживай за это, пиши свои сказки.
ГАМАРГ. Это ты не переживай. Это у них черные лица.
САПАР. Как у нас сейчас?
ГАМАРГ. Наши-то лица отмоются. А они всегда будут ходить с черными.
САПАР. Когда?
ГАМАРГ. В Судный день.
САПАР. Это не скоро, я не буду ждать столько справедливого отмщения.
ГАМАРГ. Что с тобой делать? Иди тогда.
Сапар, убегая, скрывается.
Раздаются стоны. В руинах Гамарг находит Мутуша.
Это же были стоны. Мутуш! Мутуш! Ты жив!
МУТУШ. Жив… Нога… Кажется, ногу ранило.
Гамарг осматривает его ногу.
ГАМАРГ. Перелома нет… Видимо, подвернул.
МУТУШ. Возможно… Помоги встать…
С помощью Гамарга Мутуш поднимается.
ГАМАРГ. На, обопрись о палку…
Опираясь на палку, делает несколько шагов.
МУТУШ. А где остальные?
ГАМАРГ. Сапар ушел… Другие… Их не слышно. Давай посмотрим…
Ищут.
МУТУШ. Нажа! Ханна!
ГАМАРГ. Теофило!
МУТУШ. Кажется, они остались в яме…
ГАМАРГ. Да простит их Всевышний.
МУТУШ. Аминь!
Проходит некоторое время. Смотрят друг на друга.
Ты знаешь, что это за место?
ГАМАРГ. Нет.
МУТУШ. Здесь как-то пусто.
ГАМАРГ. Да, пусто: ни людей, ни зданий, ни животных не видно… только холмы… заросли… лужи…
МУТУШ. Я не об этом… В моей душе – пустота… Так ждал этого дня… А радости нет…
ГАМАРГ. Это яма, в которую нас бросили… Она и в моем сердце… Так будет до тех пор, пока оно не наполнится любовью, радостью, звуками…
МУТУШ. Как же она глубока… Когда же она наполнится?
ГАМАРГ. Это неизвестно… Даст Бог – быстро.
МУТУШ. Что будем делать?
ГАМАРГ. В том овраге должна быть вода… Любая речка течет с гор… Я пойду вверх по течению. Мое село в горах.
МУТУШ. А я пойду вниз. Любая речушка впадает в Аргун. Аргун – в Сунжу, Сунжа – в Терек. Мое село – у Терека.
ГАМАРГ. К семье Нажи…
МУТУШ. Не переживай – я схожу. Чтобы добраться до Терека, надо пройти через город…
ГАМАРГ. Много осталось людей в ямах.
МУТУШ. Может быть.
ГАМАРГ. Я расскажу об их печалях травам и деревьям… родникам… рекам… лесам, солнцу… луне… ветру.
МУТУШ. А я встречным людям.
ГАМАРГ. Опасайся людей… С ними – коварство… Природа честна. Людей берегись.
МУТУШ. Хорошо.
ГАМАРГ. Умойся… Лицо у тебя черное.
МУТУШ. То есть как – черное?
ГАМАРГ. Все в копоти… Я умылся.
МУТУШ. Мне идти через воду… Я умоюсь.
ГАМАРГ. Счастливой дороги!
МУТУШ. И тебе – доброго пути.
Они расходятся. Звучит напев.
2008.
Перевод Л. Довлеткиреевой.
Содержание
Лидия Довлеткиреева
Особенности онтологической поэтики рассказов и повестей Мусы Ахмадова.
Повести
- И муравейник не разрушай. Перевод Ю. Доброскокина.
- Горы воздвигая на земле. Перевод А. Магомедова.
- После землетрясения. Перевод А. Смородиной.
- Идти, не сбиваясь с этого пути. Перевод М. Эльдиева.
- Дикая груша у светлой реки. Перевод С. Мусаева.
- Косари. Перевод А. Исмаилова.
Рассказы
- Боча. Перевод Ю. Доброскокина.
- Телефон. Перевод А. Смородиной.
- Денисолта. Перевод Ю. Доброскокина.
- Проснулся. Перевод Э. Хасмагомадова.
- Раскаялся. Перевод Э. Хасмагомадова.
- В пути. Перевод Э. Хасмагомадова.
- Пустой орех. Перевод Л. Довлеткиреевой.
- Ореховые деревья шумят. Перевод Н. Крыловой.
- Маленький дом в цветущем саду. Перевод А. Смородиной.
- И была весна. Перевод А. Магомедова.
- Зимы холодное утро. Перевод Н. Крыловой.
- Ночь в пустом доме. Перевод Н. Крыловой.
- Сказка о трех братьях. Перевод Н. Крыловой.
- Кезеной-Ам. Перевод И. Окарова.
- Время. Перевод с чеченского автора.
- Деревянные куклы. Перевод М. Эльдиева.
- На заре, когда звезды гаснут. Перевод Н. Крыловой.
- Сбор металлолома. Перевод Н. Крыловой.
- Снег идет. Перевод Т. Батаевой, Р. Талхиговой.
- Мольба. Перевод М. Эльдиева.
- Отцовский сад. Перевод Т. Батаевой.
- Бабочки. Перевод Т. Батаевой, Р. Талхиговой.
- Во время листопада в горах. Перевод М. Эльдиева.
- Чтобы свечу не задуло ветром. Перевод Э. Минкаилова.
- Русло твоего родника. Перевод А. Тарамовой.
- Гора и море. Перевод Э. Хасмагомадова.
- Кружиться в этих волнах. Перевод Л. Довлеткиреевой.
- И надпись о любви исчезла. Перевод Л. Довлеткиреевой.
- Украденное время. Перевод Л. Довлеткиреевой.
Пьесы
- Волки. Перевод В. Вазаралиева, Т. Сергановой.
- Башня, построенная на льду. Перевод Э. Минкаилова.
- Яма. Перевод Л. Довлеткиреевой.
Муса Магомедович Ахмадов
Деревянные куклы
Избранное в 2 томах. Том 1
Повести, рассказы, пьесы
Перевод с чеченского
Редактор и корректор – Лидия Довлеткиреева
Художник – Абу Пашаев
Компьютерный набор – Зульфия Касумова, Татьяна Батаева
Верстка –
Сдано в набор
Формат
Тираж 5000 экз.
Уч.-изд.
[1] Аьрзу (чеч. имя) – букв.: орел.
[2] Нохчи (чеч.) – самоназвание чеченцев.
[3] Ваши (чеч.) – дядя.
[4] Ис в чеч. языке обозначает число 9.
[5] Деца (чеч.) – тетя.
[6] Цога (цIога – чеч.) – хвост.