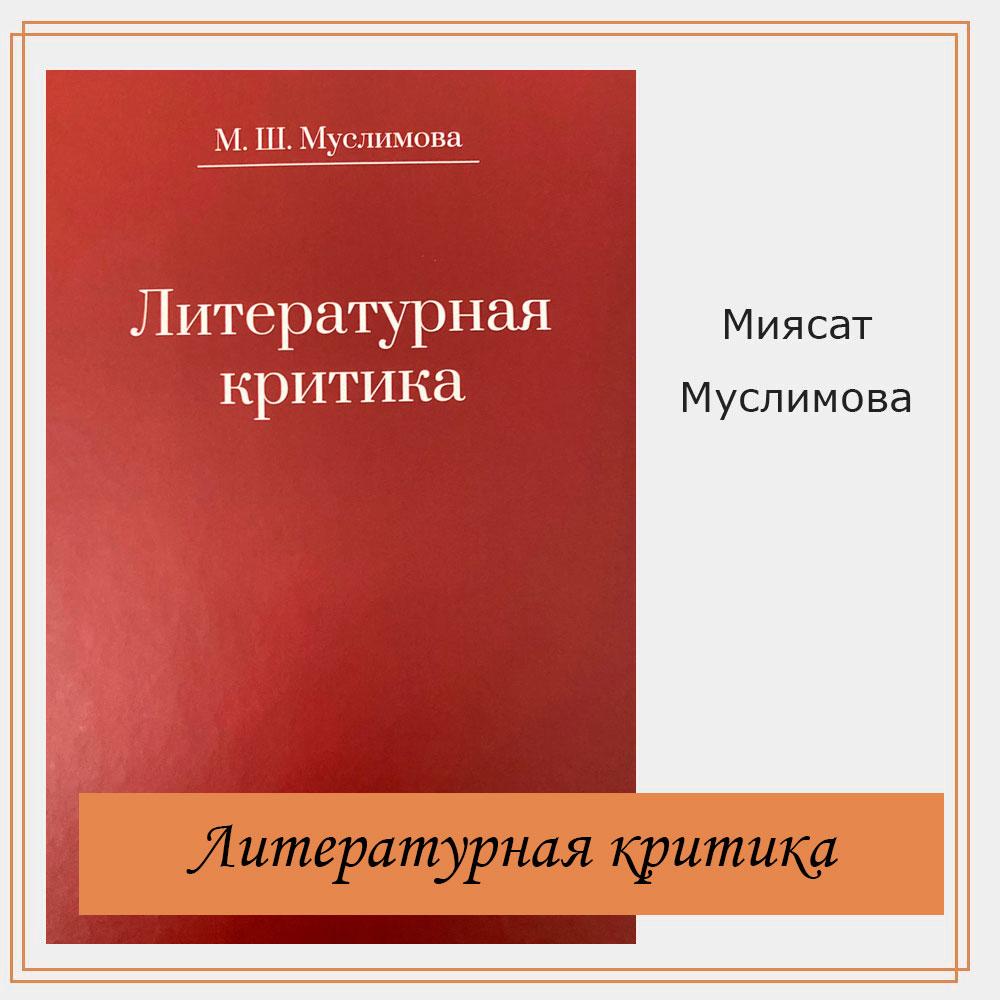-
Жанр: проза
-
Язык: русский
-
Страниц: 29
Как ласточка, мой сон летуч,
едва смежаю веки – снова
весенним солнцем из-за туч
сознанье воспылать готово.
СИНЯЯ НОТА Ю
ЛЕРА МУРАШОВА
* * *
Как ласточка, мой сон летуч,
едва смежаю веки – снова
весенним солнцем из-за туч
сознанье воспылать готово.
О ком я грежу ввечеру
с таким завидным постоянством?
Какой художник поутру
мне щеки выкрасил румянцем?
Тебя, тобою, о тебе –
мое любимое склоненье.
О жизни, счастье и судьбе
слагается стихотворенье.
Предчувствие зимы
Незыблем кухонный уют,
«тик-так» часы стучат,
а за окном дожди идут
который день подряд.
Скучает чашка на столе,
рисуют стрелки круг,
пока дождинки на стекле
прозрачный оставляют след
от предстоящих вьюг.
* * *
Шурша осеннею листвой,
в холодных утопая лужах,
иду, беседую с тобой,
плету, плету обрывки кружев.
Без встреч не может быть разлук,
как без блаженства наказанья,
Луна так далеко, мой друг,
а на Земле – одни мечтанья.
Здесь, у Садового кольца,
рассвет встает из-за вокзала,
стихи кружатся без конца,
без перерыва, без начала.
Невстреча
Я брожу среди белого дня,
на рассвете, закате и в полночь.
Только зонтик в руках у меня
и собака бездомная в помощь.
Мокрый город огромен и пуст,
утонула заря у вокзала,
светляками рассыпанных бус
фонари выцветают устало.
Поводырь мой хвостатый – вперед!
Здесь все улицы грустно-горбаты,
где та тропка, что нас приведет
к месту встречи, любви и утраты?
Шарик круглый, дороги, как в Рим,
все сойдутся к тебе непременно –
безнадежной любви пилигрим
кружит вечно в просторах Вселенной.
Помоги мне, приснись, подожди,
наваждение – весть всеблагая.
Элис Купер летит впереди,
хриплым голосом дождь раздвигая.
Зима ушла
Зима ушла, оставила сугробы,
и дворники, хозяева двора,
опять, надев оранжевые робы,
безжалостно разбудят нас с утра.
Они терзают старый снег и наледь,
разбрасывая мерзлые куски,
еще немного, и совсем развалят
остатки зимней стужи и тоски.
С наивной верой в собственные силы
они сугроб последний гонят прочь,
чтобы весна скорее наступила,
сражаться с ним готовы день и ночь.
Вернется ли весна из дали дальней?
Лишь солнцу подарить ее дано.
Стучат лопаты, небо все печальней
заглядывает в грязное окно.
Час пик
С утра бежим и падаем,
торопимся, спешим,
куда-то очень надо нам –
и малым и большим.
В грозе весенней слышатся
небесные басы.
Бежится нам и дышится,
пока идут часы.
Пока они не пробили,
по кругу без конца
шумит перпетуум мобиле
Садового кольца,
считают жизнь минуточки,
и не окончен бал,
и крысолов на дудочке
мотивчик не сыграл.
Нам некогда понежиться,
мы – божии послы!
Вот так наш мир и держится –
на кончике юлы!
Пепел розы
Декадентский сонет
Ты помнишь этот миг – рука в руке,
и на столе из роз букет увядший,
и мотылек, забившийся в тоске,
как перед Божьим ликом ангел падший?
Печально таял тонкий аромат,
а лепестки бутонов цветом были,
как над дорогой ветреный закат
сквозь дымку легкой сероватой пыли.
И все смешалось: утро, вечер, ночь,
и нам ничем нельзя уже помочь,
уже зарницей подступают грозы…
От давних дней, блаженных и лихих,
остался только этот странный стих,
и только цвет остался – Пепел розы.
Синяя нота Ю
Горькая нота не, сладкая нота соль.
Сергей Сутулов-Катеринич
На ветряном краю
пахнет полынью горько.
Тихую ноту Ю
слушаю на пригорке.
Волн голубой поток,
с небом простором споря,
жизни густой глоток
переливает в море.
Влажную ноту Ю,
страстную и живую,
я словно воду пью
свежую, ключевую.
Синяя нота Ю,
терпкая, золотая,
видишь, я здесь стою,
с ветром не улетаю.
Я тебя не пою,
я тебе лишь внимаю,
чистая нота Ю,
строгая и прямая.
Зернышком воробью
я тебя вниз роняю,
древняя нота Ю,
хриплая, нутряная.
То ли кого люблю,
то ли кого бросаю?
Грустною нотой Ю
в сумерках повисаю…
Девиз
Не верь, не бойся, не проси –
Девиз волков и одиночек.
Я не хочу подобных строчек
в своей судьбине – гран мерси!
Коварен человек, как зверь,
невольно повторяю снова
я ненавистное мне слово:
Не бойся, не проси, не верь!
И как молитву палачу,
в ответ на требованье – Стройся!
Не верь, не спрашивай, не бойся! –
кричу, рычу, шепчу. Молчу.
Кот
Дикий камышовый кот
отлично притворялся домашней киской.
Он урчал, давал гладить живот
и ел вискас из миски.
Утром, сидя в теплой солнечной лужице,
намывал гостей и женихов для дев
или охотился, если мухи цеце
залетали с улицы, вконец обнаглев.
Он думал, как хорошо обманул
всех вокруг и себя самого,
внушив, что его папа – китайский манул,
а мама – египетское божество.
Но однажды к ним в гости пришел старик,
который жил так долго на свете,
что научился понимать зверей и привык
слушать, что шепчет деревьям ветер.
Старик заглянул в зеленые глаза,
сразу все понял и строго сказал:
– Ты дикий зверь, твое место не здесь,
и вовсе не «вискас» ты должен есть!
Вдруг вспомнил кот, как ночью сырой
под лапой пружинит мох,
как – один прыжок, потом второй –
можно добычу застать врасплох,
как весной надо драться с другими котами
за право продолжить свой род,
пока кошка ждет за кустами,
когда победитель к ней подойдет,
как кровь врага сладко в глотку течет,
превращаясь в радость и силы…
Он понял, что прежняя жизнь – не в счет,
и, хотя за окном дожди моросили,
он ушел даже не оглянувшись,
распушив усы и хвост задрав,
в свою настоящую – кошачью – жизнь,
потому что старик был прав.
* * *
Прижми меня руками и держи,
не размыкай надежных нежных створок.
Теперь я знаю, что такое – жизнь,
теперь я знаю, что такое – дорог,
и почему идут дожди с небес,
и как крылом, взлетая, машут птицы,
когда хотят от воздуха добиться
привычнейшего изо всех чудес.
Песчинок много, но всего одну
закутали слоями перламутра.
Смеется детской сказкой Камасутра,
а мы с тобой опять идем ко дну…
К ночному дну, к дневному сну, к печали,
ее пока не различаем мы.
Мир страшно юн, и все еще в начале,
и далеко до будущей зимы.
* * *
Едва успела отцвести сирень
с жасмином, и запахли сладко липы,
как почему-то осень наступила.
Не может быть, еще июль нас не
испытывал жарою, и ладони
не вымазаны спелою малиной.
Еще румяным яблоком в садах
не прокатился август, отворяя
все двери для осенней мягкой грусти.
Но умирают листья на деревьях
и ветки покидают, устремляясь
к земле, где вместе c тополиным пухом
в холодных лужах плавают, сияя
далеким желтым звездным поцелуем.
* * *
Проснувшись рано, полчаса
в какой-то странной полудреме,
в тягучей первозданной коме,
я вспоминаю голоса.
Шуршит, колышется слегка
от дуновений занавеска,
и вот, близка и далека,
невидима и повсеместна,
открылась жизнь передо мной,
ее основы и законы –
просты, немыслимы, бездонны
в короткой прелести земной.
Но удержать не удалось
во сне подаренную милость,
и не ответить на вопрос,
что мне сегодня ночью снилось…
Перед грозой
Какое небо, Боже мой, какое небо
над городом, распластанным в жаре!
Вина не надо, и не надо хлеба,
когда на небо смотришь на заре.
Оно пред неизбежною грозою
нас тянет вверх неясною мечтой,
как ящеров когда-то в мезозое
пугая неземною пустотой.
Оно от зноя хмурится сурово,
того гляди взорвутся облака
строкою молний и раскатом Слова,
которого не слышал мир пока.
Половодье
Маме
Где найти такой пейзаж мне бы –
поселилось на земле небо.
Опустились с высоты тучи,
и увиделись кресты лучше.
По дорожке мы плывем прямо
к белоснежному, свечой, храму.
Здесь небесная слышна гамма,
может быть, увижу я маму…
Улыбнется, скажет – Ну, дочка,
напиши мне хоть одну строчку.
И заплачет вдруг весной осень.
– Я скучаю по тебе, очень.
Прощание славянки
Зачем я пью один сегодня?
Бахыт Кенжеев
С утра юродствует осенняя погода,
тяжелый лист летит, пропитанный водой.
Играет дождь мелодию ухода:
«Прощание славянки» вразнобой
выстукивают капли по железу,
по лужам, по оставшейся траве,
по развалившемуся ирокезу
на клена желтой голове.
Сиротства горький вкус почувствовать так просто –
попробуй – если кисть рябины теребить.
Чем пахнет осень? Воздухом погоста?
Но без отчаянья, без боли, без обид.
Что осень шепчет нам? Что нам пора в дорогу?
И с каждым годом зов слышней.
Стремится жизнь к простому эпилогу
без элегических затей.
Но, промотав мечты, надежды все рассеяв,
мы медлим, пьем и ждем, что в дальнем далеке
нам через океан кивнет Бахыт Кенжеев
с янтарной рюмкою в руке.
Нележачая
Ездим и летаем,
ходим и бежим,
преодолеваем,
если не лежим.
Все желают страстно
в точку А – из Б!
Покорю пространство –
поклонюсь ходьбе.
Не даю зарока,
точно знаю я:
уведет дорога
в дальние края.
Замелькают сосны,
заклубится пыль…
Боже венценосный,
лишь не обескрыль!
Дай мне только силы,
чтоб самой дойти
до простой могилы
там – в конце пути.
Возвращение
В родных, ненадежных просторах,
присыпанных снежной крупой,
где ветра навязчивый шорох,
валежника спутанный ворох,
да мертвый нездешний покой,
душа заблудилась листочком,
отброшенным веткою прочь,
скукожилась будущей почкой,
живым бестолковым комочком,
готовым проклюнуться – в ночь.
Раздвоенность, разъединенность,
разбитость, разломанность, раз–…
Вот ясень – в зенит обращенный,
никем никогда не крещенный –
свершает вечерний намаз,
вот поезд – несется куда-то,
зачем-то по кругу бежит,
как будто persona nоn grata,
ни Бога, ни черта, ни брата
бессмертный не помнящий Жид.
И вдруг на пустынном перроне
в зеленых лучах фонаря
увижу – гуляет ворона,
и – сверху, с небесного трона
в земное привычное лоно –
Россия, конец ноября.
Варвара
Как долго мы томились врозь –
часы, года, десятилетья;
лицом неназванным маня,
густела кровь, грустила кость,
и снились белые соцветья,
а может, дальние созвездья,
где ты скучала без меня.
Над совершенством живота
чертили знаки люди в белом
и говорили не о том.
И улыбалась пустота,
колдуя над возникшим телом,
над новым жизненным уделом
непредсказуемым перстом.
Бесснежная пришла зима
в наш город, невозможно старый,
и тьма ее была нема.
Но хлынул снег в кромешной мгле
на пустыри и тротуары,
когда под именем Варвары
ты проявилась на земле!
Рождество
В этих влажных краях сон дневной глубок.
Бахыт Кенжеев
В наших темных краях только пыль и прах
и кладбищенский страх свечи.
Ненадежен, как жизнь в первобытных кострах,
электрический свет в ночи.
Там – вверху? внизу? – полукружье луны
в окружении звездных ежей,
а у нас – колтуны, перепутаны сны
беспокойных часов-сторожей.
На стене горит голубой ночник,
тени двигаются, шурша,
в одеяла закутан, чуть виден лик
вновь рожденного малыша.
Где-то снова не спят три чудных волхва
узнавая – звезду и путь.
Но пока все это – слова, слова,
но пока – уснуть, уснуть.
Бесснежное
В декабре отменили зиму,
не спустились с небес снега,
не надели белую схиму
безнадежные берега.
Отказали нам всем в прощенье,
в отпущенье былых грехов,
в возрождении, в ощущенье
шевеленья внутри – стихов.
Если надобно, Авва Отче,
онемею и замолчу.
Пусть мой путь будет всех короче,
только тех не гаси свечу,
без кого этот мир – пустыня,
без кого не прожить и дня.
Да смирится моя гордыня,
да услышит Господь меня.
Дай им, Господи, счастья – даром,
улыбнись им на небеси –
Ольга, Дарья, Иван, Варвара –
защити, сохрани, спаси!
Шарик
1
Город был стар.
Он очень устал.
В нем было много людей, все куда-то бежали.
Он говорил: «Горожане!
Остановитесь, смотрите – лето!»
Но никто не обращал внимания на это.
И город хмурился тучами,
мокрыми и плакучими,
сердился ветрами и грозами,
зимой тосковал морозами,
а весной он совсем захандрил,
и дождь все лил и лил.
Но люди все равно город не слушали,
они бежали между лужами
и прикрывались зонтами –
люди тоже устали.
2
Девочка Настя вышла из дома.
Все вокруг было знакомо:
мокрые люди, мокрые стены, бежали машины
и струи дождя по дороге крушили.
Но сегодня Насте было не страшно,
она вспоминала день рожденья вчерашний.
Лучший подарок ей сделала мама –
она солнечный зайчик поймала.
Цветом, как Настины конопушки,
легкий, веселый и очень послушный,
он назывался «шарик воздушный»
и всюду летал за Настей,
как маленькое желтое счастье.
3
Девочка погладила солнечного зайца
и отвязала нитку от пальца.
Она сказала: «Шарик, лети!
И смотри, не потеряйся по пути!
Я хочу, чтобы тебя увидели
все городские жители!»
И шарик взлетел даже выше,
чем самые высокие крыши.
Он подумал: «Да, что-то здесь мокровато…»,
и вспомнил, как солнцем был когда-то.
А люди останавливались посреди улиц
и улыбались: «Как хорошо, солнце и лето вернулись!»
Колыбельная для поэта
Спи, мой милый, пусть тебе приснится
в солнечном далеком далеке
дева, выпускающая птицу,
с золотою клеткою в руке.
Перламутром капля заблестела
под усталой синевою век.
Да не тронет ни души, ни тела
черный твой, зловещий человек!
Сможешь ли очнуться ты, не знаю,
и вернуться – сможешь ли ко мне?
Выпущенной птицей сяду с краю,
примощусь в твоем тревожном сне,
где бредешь серебряной аллеей
и ведешь неспешный разговор
сам с собою, и закат алеет,
и безумье застилает взор.
Все мои слезинки бесполезны,
в сны твои заказаны пути.
Помоги тебе Отец Небесный,
птица не смогла тебя спасти…
Зазеркалье
Поэма-венок
Что остается в амальгаме?..
Георгий Яропольский
Пролог
Вечерним вздохом сумерки плывут,
бульвары расцветают фонарями,
и в эти грустных несколько минут
я вспоминаю все, что было с нами.
Бегу, шепчу любимый свой сонет,
написан не тобой, не мне, но все же,
в его словах мне слышится привет
души, что очень на твою похожа.
Стихи звучат торжественным молебном,
и, дежа вю мучительно колеблем,
дрожит простор зеркальной кривизной.
И боль, привычкой ставшая плохою,
излечится волшебною строкою:
«Когда, омыт органной белизной…»
1
Когда, омыт органной белизной,
на землю выпадает первый снег,
вся жизнь моя мне видится иной
и время притормаживает бег.
Как будто вместе с хлопьями с небес
на душу опускается покой,
как будто растворился и исчез
тяжелый сон, измучивший тоской.
Как будто улыбнулись зеркала,
открыли даль, и эта даль светла,
в ней нет ни наших горестей, ни бед,
а только та чудесная пора,
когда давно, но словно бы вчера,
парил над утром яблоневый цвет.
2
Парил над утром яблоневый цвет,
хотя вокруг еще снега лежали.
Мне зеркало сказало строго: «Нет!
Мы этого с тобой совсем не ждали.
В твои-то годы… Просто моветон!
Взгляни в меня – ну, сколько отразилось?
Зачем оно тебе, скажи на милость?
Ты все-таки не леди Гамильтон».
О, зеркало, сквозь сны твои и муть
никак не удается заглянуть,
что прячется за призрачной стеной?
Я сердцу приказала: «Замолчи!»
Замкнула дверцу, звякнули ключи,
рождая звук отчетливо-стальной.
3
Рождая звук отчетливо-стальной,
у шестерни часов сломались зубья,
так время рвется тонкою струной,
нас настигая сладостью безумья.
А зеркало, стоявшее в углу,
уже мне ничего не возражало,
две туфельки у кресла отражало
и платье яркой тряпкой на полу…
Потом вернулось время, и опять
на небо солнце выбралось сиять,
но это был уже другой рассвет,
ведь не забыла зеркала слюда,
каким счастливым стал твой взгляд, когда
на стол легли заколка и браслет.
4
На стол легли заколка и браслет.
Их отложив заученным движеньем,
беседую я снова с отраженьем –
с тобой, кого сегодня рядом нет.
«Не странно ли, мой друг, что так болит,
хоть доктора не назовут причину?
Да им, наверно, знать и не по чину,
врачам доступен только внешний вид.
Я знаю, это ты во мне болишь…»
Ты, улыбаясь, говоришь: «Глупыш!»
Я чувствую – ты в комнате, со мной.
«Коль рядом ты теперь, то дай мне знак…»
Я замерла и услыхала, как,
чуть скрипнув, шкаф открылся платяной.
5
Чуть скрипнув, шкаф открылся платяной –
пред зеркалами примеряю платье.
Оно лишь заключит меня в объятья,
а ты Бог весть в какой дали земной…
Но почему ж тогда в который раз
я на щеке ловлю твое дыханье,
я знаю, что ты думаешь сейчас,
как будто на двоих – одно сознанье.
Сознание? А может быть, душа?
Но мне и тело нужно! Чуть дыша,
«Не плакать!» – вспоминаю твой запрет.
Но мне себя (и платье тоже!) жаль –
и льются слезы, бьются, как хрусталь,
о восковой сияющий паркет.
6
О, восковой сияющий паркет!
Тебя лелеют строгие старушки.
Ты помнишь Алю, детские игрушки?
Ты помнишь ли, как здесь жила – поэт?
А помнишь страшный двадцать первый год?
Тобой тогда топилась печь-буржуйка,
и дым взмывал над крышей тонкой струйкой,
освободившись от земных невзгод.
Вот зеркало. Дней прошлых муть и сон
давно живут в нем мирно, в унисон,
хранимые музейной тишиной.
Нас отражая, старое стекло
разводами и пятнами пошло,
как будто дождь ударил проливной.
7
Как будто дождь ударил проливной –
ты воду в ванну направляешь литься,
а зеркало туманной пеленой
стыдливо занавешивает лица.
Наш маленький, карманный водоем!
Легко себя здесь ощутить счастливой
песчинкой с перламутровым отливом,
когда закрыта дверь, и мы вдвоем
сомкнули руки, как ракушки створки,
в уютной влажной крохотной каморке
забыли весь огромный белый свет…
Одежда с плеч упала незаметно
и… зазвенела нестерпимо-медно –
так дробно раскатилась горсть монет!
8
Так дробно раскатилась горсть монет –
к обеду продавец уже в запарке,
а мне – с тобою, в незнакомом парке –
не хочется ни трюфлей, ни конфет.
Ну что за край! Здесь в декабре, как в мае!
Зажмурившись, на солнце я сижу
и, птичьим щебетаниям внимая,
боюсь поверить счастья миражу.
В озерном зазеркалье бродят тени,
там зелень облаков, печаль растений
и марлезонский беличий балет.
Тогда я поняла – мы половинки
одной, когда-то порванной, картинки.
За этот миг прошло немало лет.
9
За этот миг прошло немало лет.
Непостижимо время и коварно:
то вдруг летит со скоростью комет,
то каплей меда тянется янтарной.
При нашей встрече время в точку сжалось,
оно в глазах любимых отражалось
как радость, нежность, боль, восторг, тоска.
В разлуке день длиннее, чем века,
свиданье пролетает как мгновенье,
и слезы порождает столкновенье
двух взглядов на границе временной.
Так месяц растянулся на три года,
использовала мудрая природа
изъян зеркал за гладью ледяной.
10
Изъян зеркал: за гладью ледяной
не разглядеть того, кто жил здесь прежде,
чьей помогала комната надежде,
пока не стала раем для одной
влюбленной пары, временным ковчегом
среди огромных, занесенных снегом
домов. Неделю отражала гладь
средь пыльных зазеркальных анфилад,
как женщина с мужчиной жили рядом
и наслаждались ласкою и ладом.
Увы, они ушли, и гаснет свет,
и зеркало в квартире неуютной,
застыло лужей амальгамно-ртутной –
вчерашних отражений нет как нет.
11
Вчерашних отражений нет как нет…
Согласье уступило место ссоре.
Я в Крым взяла всего один билет,
холодная и гордая – как море!
Но к морю наклонился небосвод,
чтоб вместе им у горизонта слиться,
две синевы: синь неба и синь вод
стирают меж собою все границы.
Как море с небом в вечном отраженье,
в надежно закольцованном движенье
мы стали плотью и душой одной.
Как волны догоняем мы друг друга,
я знаю, скоро кончится разлука,
но внятен знобкий шелест за спиной…
12
Но внятен знобкий шелест за спиной –
деревья разговаривают с ветром.
Мы заблудились в чаще заповедной
одной январской сказочной весной.
По-брейгелевски черно-белый мир,
нас обвенчал, связал, соединил,
водил, кружил, запутал понемногу
и не давал найти домой дорогу.
Протоптанная суета тропинок
в снегу лежала хитрой паутиной,
день был беспечный, светлый, выходной.
Мы в город дальним переулком вышли.
Престранные в лесу приходят мысли
наедине со звонкой тишиной.
13
Наедине со звонкой тишиной
мне нравится теперь побыть одной
и без былых отчаянных метаний
лелеять свой грааль воспоминаний.
Твой облик сохраняют зеркала,
а жизням нашим не соединиться.
Мы не из тех, кто – veni, vidi, vici,
и будущего даль невесела.
Взаимопонимающие души
нас вместе вяжут всех веревок туже,
и нет исхода, и решенья нет.
Взаимопроникающие ночи
всех летних зорь бессонней и короче,
особенно, когда погашен свет.
14
Особенно когда погашен свет,
или его еще не зажигали,
люблю с зерцалом верным тет-а-тет,
искать ответ в серебряном астрале.
Вопросов много, всех важней один:
что кроется за кромкой временною?
Разнообразных следствий и причин
как вычислить влиянье составное?
«Есть многое на свете, друг Горацио,
за что, наверно, лучше и не браться», –
так зеркало беседует со мной.
Но вверх мечты летят, как монгольфьеры.
Ведь первый снег тогда лишь символ веры,
когда омыт органной белизной.
- S.
Поэма кончена, а сердцу невдомек,
ему бы все надеяться и верить.
Под слоем пепла тлеет уголек,
какою мерой мне любовь измерить?
В три года месяц – много или мало?
Конец ли это, или же начало?
Прикидывает ум и так, и так,
а сердце бьется с дальним сердцем в такт.
Банальность я скажу сейчас, не скрою:
Никто так не любил, как мы с тобою.
Но я насмешек больше не боюсь.
Я «кровь – любовь» теперь рифмую смело,
и как вечнозеленая омела
вокруг стиха чужого обовьюсь!
Ожидание
Я прихожу в твой опустевший дом –
и трогаю забытые страницы,
и слушаю, как плачут за окном
голодные, озябшие синицы.
Вот у балкона письменный твой стол,
здесь в беспорядке брошены бумаги.
Куда, друзья, хозяин ваш ушел?
Давно закрыты все универмаги.
Так холодно… Надел ли он пальто?
Душа болит и сердце не на месте,
хоть звать меня никак, и я никто,
и козыри мои давно не крести.
Ты знать меня не знаешь, на беду,
или на счастье – непонятно это…
Вернись, не помешаю я, уйду,
растаю, как снегурочка на льду
растаяла под жарким солнцем лета.
* * *
Броше
В хмурое небо марта не улетай.
Ты же всегда была рядом. Всегда – была.
Я не хотела думать, что близок край,
тело сожгут и останется лишь зола.
Я прицепила к ошейнику поводок,
я привязала тебя, я тебя – взяла.
Мартовский ветер – гуляка он и ходок –
колоколами раскачивает купола.
Сердце сжимается – слышен знакомый лай.
Но понимаю: это не та, не ты.
Рядом с Эдемом есть и собачий рай,
ты на меня посмотри сейчас с высоты.
Где та калиточка в небе – на небеса,
где ты гуляешь, скачешь, лежишь клубком?
Там, где созвездье большого белого Пса?
Может, вернешься – кошкой ли, голубком?
Выйду в московский хаос, в соленый снег,
в левой руке сжимая пустой поводок.
Ты же не знала, что я – простой человек,
ты же считала, что я – всемогущий Бог…
Пара недель, и наступит уже весна.
Птички, трава – и, конечно, тепло, тепло.
Я превратилась в кусочек собачьего сна.
Больше не больно, милая, все прошло.
Пепел
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.
О. Мандельштам
А весною над землею – облака,
небо ярко-голубое, жизнь легка,
но виденьем колыбели неземной
поднял ветер сизый пепел надо мной.
В летнем зное облетают тополя,
раем временным становится земля.
Тополь, миленький, хоть ты меня утешь,
пухом – пепел от несбывшихся надежд.
Наступает время вечного дождя,
жжем костры, зачем-то память бередя.
Тихий лепет смоет времени прибой,
оставляя мокрый пепел за собой.
В поднебесье затевается пурга,
холодами настигают нас снега,
белый пепел от невысказанных слов
чист и светел, как последняя любовь.
В съемной кухоньке, без света, у окна
мы сидим, и сигарета зажжена,
столбик пепла, невесомый, кружевной,
вырастая, раздвигает мрак ночной.
Огонек дрожит у самого лица,
сигарета догорает до конца.
Снова – слышишь? – воет ветер за стеной…
Все лишь пепел, сизый пепел, мой родной.
* * *
Белым снегом окно занавешено,
заштриховано небо с утра.
Что ты смотришь, усталая женщина,
в вечно темный колодец двора?
Знаю, хочется, милая, хочется,
как собака, свернуться клубком
у замерзшей ограды решетчатой
и лежать, не мечтать ни о ком.
Ждать, когда занесет, пригорюнится
и заплачет старушка-метель,
белопесенная семиструнница,
соболезница всяких страстей.
Задремать, раствориться, размножиться,
стать февральским недолгим снежком,
а весною под солнцем скукожиться,
и сгореть лягушачьею кожицей,
чтоб уже не жалеть ни о ком.
Крылья
… исчезать – это лучше, чем оставаться.
Элла Крылова
Смерть придет, у нее
будут м о и глаза.
Прости, что не смогла с тобой лететь.
Душа еще не отрастила крылья,
мне трудно оторваться от земли.
Грудная клетка – реберная клеть,
чтоб прутья разогнуть, нужны усилья,
а ты уже растаяла вдали,
меня не слышишь. В первый раз мой свист
ненужной нотой в воздухе повис…
Прости меня за свой последний час.
В твоих глазах смешались страх и вера.
Конечно, знать откуда ты могла,
что я креплюсь, как принято у нас,
боль прикрывая бодрости химерой,
что на краю стерильного стола
вот так же веселы глаза у смерти:
рыдает ангел, но смеются черти.
Прости, любимый шерстяной дружок,
долги мои, ошибки, прегрешенья
и все уроки, что – не извлекла.
Я знаю, заживет любви ожог,
и тонким шрамом зарастет сомненье,
но где-то рядом поселилась – мгла,
и сердца истончается лоскут…
Придет пора, и крылья отрастут.
* * *
Э. К.
У кого-то в доме муж – Муз,
у кого-то рядом пес – друг,
кто-то стонет от постылых уз,
кто-то стынет от невзятых рук.
А над городом завис циклон,
их за месяц уже было – три,
и со всех-то с четырех сторон
шепчет: «Сердце на замок запри,
душу живу посади в клеть,
а глаза стреми все вниз, в пол!
Не тебе открыто смотреть
и разглядывать другой пол.
В старом городе, где ветра вой,
быть соломенной тебе вдовой,
в новом доме, что на самом юру,
быть монахиней тебе в миру».
Гостья
В гости заглянет какой инородец –
будем щедры с ним, как с Божьим посланцем.
Элла Крылова
1
Зима так не хотела умирать,
а после снова, возрождаясь с болью,
как было много тысяч лет подряд,
срастаться с надоевшей старой ролью:
белить, лечить, латать и убирать,
помойки камуфлировать снегами,
и черный мир – Малевича квадрат –
расцвечивать снежинок оригами.
И зимнего отчаянья метель
кружилась, наводя тоскливый ужас,
последний снег топился в первых лужах,
фонарь скрипел, качая светотень.
В такую ночь судьба меня вела –
невесел путь слепого пилигрима.
Дом выскочил, как тать из-за угла,
мне повезло, что не прошла я мимо.
2
Не храм прекрасный, не Эдемский сад –
обычная московская квартира,
в ней проживает пара бодхисатв,
себе не сотворившая кумира.
Там в облаках бамбуковой беседки
вьюнок тропу чертил наискосок,
и Будда улыбался по-соседски
и наливал вино на посошок.
Бродила кошка, щуря желтый глаз,
неслышною походкою богини,
священный долг семейной берегини
исполнила, обнюхав напоказ
пришелицу. Но подозренья, видно,
я у нее не вызвала, и вот
она легла вылизывать живот,
живой Хотэй – беспечна и солидна.
3
Душой и телом отогрелась я,
был утонченно-незатейлив ужин.
Для сладостной привычки бытия
лишь только Бог да друг любезный нужен –
вот ваш урок. О, счастья легкий дар!
Его так мало стало в нашем мире.
Мне в руки не дающийся товар
уютно сложен в маленькой квартире.
На улицу я вышла в полусне
в остатки уходящего мороза.
С пустого неба улыбнулись мне
две звездочки, расцветшие, как розы.
4
И я просила: «Господи, Ты есть!
Присутствие Твое везде разлито,
снежинок в небе кружится – не счесть,
и каждая летит своей орбитой.
Другого чуда мне не надо, чтоб
Тебя узнать и утвердиться в вере,
что как снежинки в будущий сугроб,
мы все в Твои войдем однажды двери.
Прошу Тебя, все можешь сделать Ты,
пусть в той беседке, свитой из бамбука,
течет спокойно и без суеты
простое время, пусть не тронет скука
двух бодхисатв, пусть вечно, как сейчас,
горит огонь в заснеженном окошке,
и без причуд ненужных и прикрас
они живут и дружат с мудрой кошкой,
стихи читают, пьют на кухне чай.
О Господи, Ты их не разлучай».
5
С закинутою к небу головой
я шла, шепча молитву, вся пустая,
и вдруг я замечаю, что – летаю,
ногами не касаясь мостовой.
Садовник
Как много лет прошло, как много весен
сошли в долину, как лавины с гор.
А эта словно не весна, а осень –
тепла и света нету до сих пор.
Но яблони цветут, им дела мало,
что от небес закрыл туман сады,
они своею вьюгою обманной
Снегурочкины замели следы.
Зачем сюда тебя приводит память?
Зачем стоишь в кромешной белизне?
Давно пора мечту свою оставить,
домой вернуться, к детям и жене.
Лишь на виске надеждой бьется жилка,
и это значит, ты еще живой…
И лепестки кружатся, как снежинки,
над Леля побелевшей головой.
Она ушла
Она ушла. А ты и не заметил,
не до того – везде весна шумит,
перебирает пальчиками ветер
кудряшки снявших шапочки Лолит.
Она боролась, спорила, серчала,
потом устала, выбилась из сил.
А ты решил, что все начнешь сначала,
что есть еще в пороховницах пыл.
И я, летучий вирус оптимизма
поймав воздушно-капельным путем,
не видела, с какою укоризной
она на нас смотрела, как вдвоем,
смеясь и взявшись за руки, идем.
Весь мир в сезонном солнечном загуле,
а ей – скорей бы завершить дела.
Мы только с облегчением вздохнули,
что наконец она от нас – ушла.
Но там, где всякой боли дремлет завязь,
кольнет на грани сумерек и тьмы:
она ушла, а мы не попрощались…
Зима ушла до будущей зимы.
Белое платье
Дремлют горы, застыло время
каплей лиственничной смолы.
Юных лет золотое бремя
держат кряжистые стволы.
Я играть не хочу со всеми,
по тропинке уйду туда,
где кузнечиков вольное племя,
колокольчик и резеда.
Как легко мое белое платье…
Над землею лечу? плыву?
Я раскинула руки в объятье
и упала – как жук – в траву.
Небо шепчет: «Все может статься,
только ты чуть-чуть подожди»,
ветер плачет, и мне – тринадцать,
и вся жизнь еще впереди.
Дождь
В землю врезаются штопором
капли размера разного.
Прямо по лужам шлепаю,
дождик как в детстве праздную.
Скинуть бы туфли тесные
да побежать без обуви,
жаль, что дороги местные
к пяткам не приспособлены.
С неба потоки бешено
льются, как в день творения,
тряпочкою подвешенной
мокрая по колени я.
Все, что болело, плакало,
билось, рвалось и мучало –
ливнем разбито наголову,
сгинуло, улетучилось.
Смыла вода, что прожито
горького, непрощеного,
мы теперь новорожденные,
теплым дождем крещеные.
Радугой семизвонной
будущий день подкрался,
лишь на губах соленых
прошлого вкус остался.
Призрак
This house is haunted
Alice Cooper
Я с призраком купила дом,
сама не знаю, как так вышло.
теперь живем мы с ним вдвоем,
его не видно и не слышно.
Но это днем, а в темноте,
когда заснуть не может разум,
и, будто чайник на плите,
все страхи закипают разом,
я слышу – он уже пришел,
слегка замешкавшись в прихожей –
прикосновенья легкий шелк
я нежной ощущаю кожей.
Он говорит: «Я жил века,
я побывал на всех планетах,
в мирах, Великими воспетых –
все вобрала моя строка.
Я долго был среди людей,
их жизнь и их повадки знаю,
наутро будет мир светлей,
сейчас усни, моя родная.
Когда-нибудь соединит
тебя со мною Провиденье,
не может в этом быть сомненья –
протянута меж нами нить».
И утешительная суть
речей его скользит по краю
сознания. Я засыпаю,
шепча во сне: «Когда-нибудь»…
Опасные игры
Мне скушно, бес! И я играю,
как в куколки, – в живых людей,
по лезвию скольжу, по краю,
тону в бреду чужих страстей.
От скуки вою, как собака,
пусть жизнь хоть в играх воспарит –
в Цветаеву и Пастернака,
и в Мастера и Маргарит.
Я заиграюсь, разбушуюсь,
и захлебнусь, и вновь всплыву,
и страшной раной зарубцуюсь,
и сны увижу наяву.
Но не навек чужие страсти,
из них я возвращаюсь вновь
в свой дом, в свой день, в свои напасти –
в твою тоску и нелюбовь.
* * *
Скажешь – сгину снегурочкой,
надо – стану Лаурой,
бестолковою дурочкой,
бессловесной натурой.
Иль рабыней смиренной
я на кухне, босая,
буду думать о бренном,
соль в кастрюли бросая.
Хочешь – на расстоянии
продержи меня вечно,
только слова сияние
дли и дли бесконечно.
* * *
Натянула перчатку на руку.
Не кричи надо мной, воронье!
Октябрю, как последнему другу,
наважденье поверю свое.
Месяц мой, ты поймешь, ведь когда-то
на границе с седым ноябрем
под дождей проливное стаккато
появилась я в царстве твоем.
Мы одной с тобой крови – суровой,
мы не верим осенним слезам.
Мы же знаем: отплакавшим, новый
день назавтра предстанет глазам.
Не пугает нас то, что деревья,
облетая, теряют наряд.
Так в природе ведется издревле,
но зато – как же клены горят!
Я в осеннем лесу растворяюсь,
на душе и покой, и восторг,
я ногой осторожно ступаю
по мозаике желтых листов.
Речка Сетунь
И дольше века длится день.
Борис Пастернак
Душа томится неизбежным,
неотвратимым, небылым.
Не жди, ничто не будет прежним,
раз пропит отданный калым.
Мы перешли все рубиконы,
сожгли над ними все мосты.
Земные отданы поклоны,
поставлены везде кресты.
Искали мы единоверца
десятилетия подряд.
Вначале было слово. В сердце
рифмованный вливался яд,
копилась мощь от строчки к строчке.
Так зарождается гроза,
так возникает мир – из точки,
остановить процесс нельзя.
Из ничего явилось – нечто,
оно сильней и больше нас.
Идем по досточке над речкой,
и дольше века длится час.
* * *
А может быть, зима – с весной разлука?
Бессонной ночи сладостная мука,
где вместо снов – клочки воспоминаний
и горечь неисполненных желаний.
Разлука наша сделалась привычкой,
колечком бересты и тонкой спичкой,
и ветром, что на эту спичку злится.
Погаснет или ярче возгорится?
Где б ни был ты, смотри: вверху луна
то месяцем, то полною видна,
ей все равно – зима или весна,
всегда прекрасна и всегда одна.
Пример беру с изменчивости лунной –
душа, меняясь, остается юной.
* * *
В позавчерашний дождь войти
лишь только осенью возможно.
Прости, что на твоем пути
я встала так неосторожно.
Что не сумела дать тебе,
мой друг, ни счастья и ни муки,
что началась в твоей судьбе
не со свиданья, а с разлуки.
Что ночь бессонною была
лишь у меня, и что так мало
тебе я подарить смогла –
глоток любви на дне бокала.
Ненужные подарки
Что тебе подарить я могу?
Только осени желтую грусть,
только птичьи следы на снегу,
только льдинки испуганный хруст.
Опускается вечера тень,
зажигает луна свой фонарь,
забывая раздерганный день,
обрывает листок календарь.
Равнодушна небесная высь,
что могла, я тебе отдала.
Там, где осень с зимою сошлись,
не хватает природе тепла.
* * *
Вот и все, облетели деревья,
вот и все, наступает зима.
Прекращаю метанья, кочевья –
сама.
Отдыхает земля от цветенья,
от восторгов, от бурь и от гроз.
Наварили на зиму варенья
из роз.
Листьев золото в кучи собрали
и сожгли, горьковатый дымок
замыкает на сердце печали
замок.
Мы с тобой без вины виноваты,
пострадавшими бродим и ждем,
утешаясь осенней сонаты
дождем.
В ноябре так отчетливо виден
оголенный пустой окоем.
Мы не любим и не ненавидим –
вдвоем.
На бегу
Я мельком, на бегу, свой лик
случайно в зеркале узрела.
Как образ юности проник
в уставшее от жизни тело?
Свободет шеи поворот,
в глазах смеются чертенята,
загадочно кривится рот,
и пламенем щека объята.
Осталось несколько недель,
да километров пара тысяч,
и снова разрешит апрель,
руки коснувшись, искру высечь.