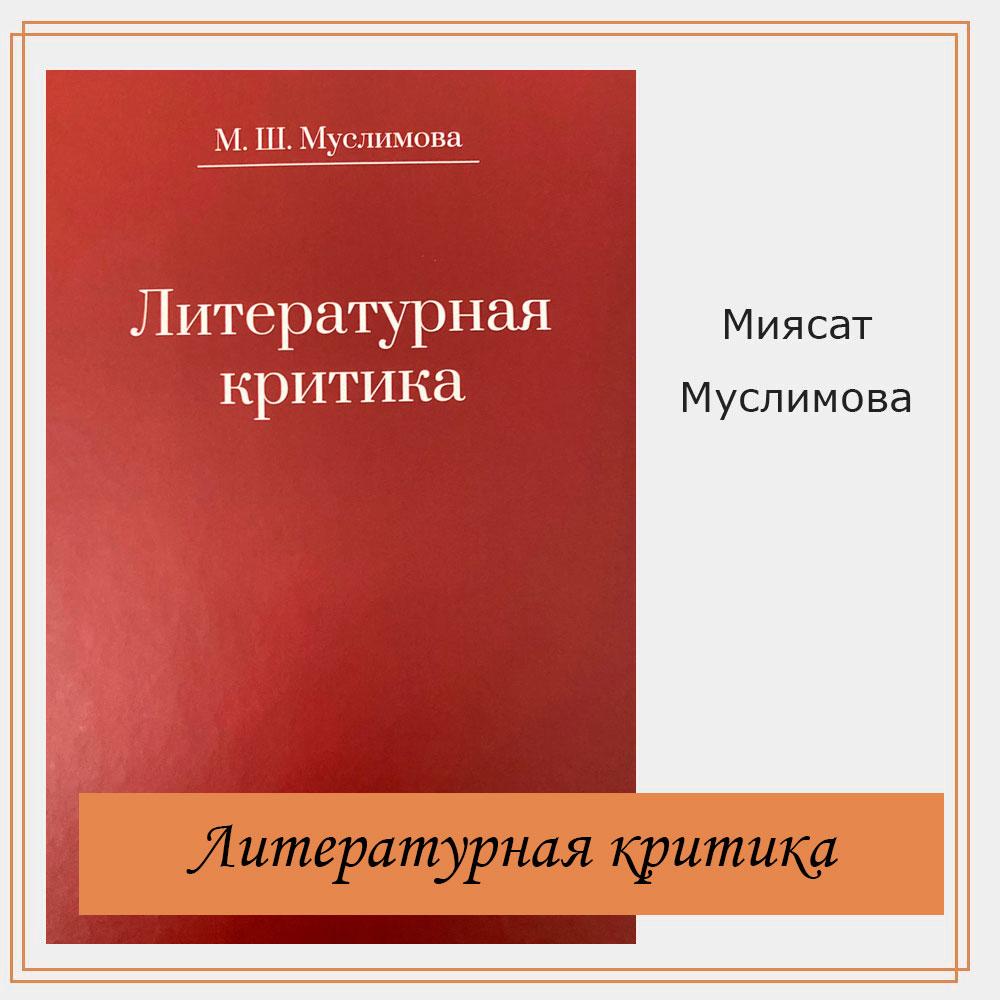-
Жанр: поэзия
-
Язык: русский
-
Страниц: 50
По образу и подобию
«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Вениамин Каверин в одной из ранних повестей напомнил, что автор этой строчки, Жуковский, считал свою мысль «математически справедливой». Если следовать этой математике и обращаться к поэзии как к неофициальному «представителю» Бога, в ней найдётся не меньше ответов на вопросы, удостоверяющие человеческую, земную, то есть подверженную сомнениям и страстям сущность вопрошающего, чем в Библии. Книга Георгия Яропольского в этих параметрах совпала с моими нынешними размышлениями и колебаниями. Поэтому писать о ней легко и светло.
Георгий Яропольский
Я НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК
- стихи ·
По образу и подобию
«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Вениамин Каверин в одной из ранних повестей напомнил, что автор этой строчки, Жуковский, считал свою мысль «математически справедливой». Если следовать этой математике и обращаться к поэзии как к неофициальному «представителю» Бога, в ней найдётся не меньше ответов на вопросы, удостоверяющие человеческую, земную, то есть подверженную сомнениям и страстям сущность вопрошающего, чем в Библии. Книга Георгия Яропольского в этих параметрах совпала с моими нынешними размышлениями и колебаниями. Поэтому писать о ней легко и светло.
При всей разности потенциалов поэты чётко делятся на два типа. Одни следуют извилистым и прихотливым путём самовыражения. Они избегают прямых поэтических высказываний, но создают некую атмосферу и настроение, которое довольно быстро улетучивается, меняясь часто на собственную противоположность. Другие — их так немного, что к ним то и дело приплюсовывают для увеличения численности первых, — мучаются «последними вопросами», ставят их, что называется, ребром и ответы иссекают из этого ребра, словно бы вечно воспроизводя первый акт Творения.
Поэты этого типа чрезвычайно редко озадачиваются проблемой формы, как не озадачивался ею Творец, создавший человека по образу и подобию Своему. Как правило, они строят свой поэтический мир по образу и подобию той национальной традиции, в которой родились и развились. Иного им не то что не дано, а — не нужно. Но уж если такие поэты обращаются к форме, то выбирают путь наибольшего сопротивления. Например, венок сонетов, требующий академической дисциплины стиха и рождающий свободу из ярма. Такова «Реторта» — венок, безупречный по архитектонике. Но дело не в катренах и терцетах, а в том, что твердая форма ни на йоту не перестаёт быть живым, пульсирующим мыслью комком нервов, за классическим фасадом не потеряв ни одного признака лирической поэзии.
Число объектов, которыми оперирует в стихах Яропольский, не изменилось со времен Гомера: Бог, жизнь, смерть, любовь. И память, цементирующая эту великую четвёрку. И природа, в горниле которой калится человек, поочерёдно то принимая, то отвергая себя, то видя себя, то теряя в системе зеркал, косо отражающих бытие и пугающих тьмой небытия:
И в зеркальную гладь
всё гляжу исподлобья,
не желая признать
достоверность подобья.
Разорвать этот круг не удалось никому из художников, как ни изощрялись они. А вот вписать в него свой штрих-код, расширить его границы, хоть на мгновение привести к власти гармонию и одолеть ужас хаоса, «с землёю небо воссоединить», — это некоторым, в том числе и поэту Яропольскому, выпало.
Знание, получаемое в поисках ответа на «последние вопросы», трагично и по-своему безнадежно. Но лишь оно фиксирует «математическую справедливость», которую вывел учитель Пушкина Жуковский. Неверность зеркальных подобий в вечном поиске подлинного «я» большого Подобия не отменяет, как сомнение не отменяет веры, а лишь обрамляет её. Когда последнего читателя стихов прижмёт, он наверняка обратится за утешением — или спасительной болью — к поэзии, отваживающейся на диалог, не замкнутой на себе. Книга Георгия Яропольского ему в помощь!
Марина Кудимова
Нечто большее
Где мой смех, так заливист и звонок?
Где мой бег — озорства торжество?
Удирая, хохочет ребенок,
ибо знает: поймают его.
Тот, кто больше, поспеет на помощь:
шаг-другой — и развеет беду.
(Мне потом разъяснит Дилан Томас,
что бегущий похож на звезду:
так разбросаны руки и ноги,
как раскинуты в небе лучи…)
А не знай я о скорой подмоге,
кто втемяшил бы глупому: мчи?
До сих пор это дело не чуждо —
как могу, и поныне бегу,
но иное примешано чувство:
ускользнуть я, увы, не смогу.
Знаю я: нечто неизмеримо
меня большее мчится вослед —
грозно, голодно, неумолимо…
И укрыться возможности нет.
* * *
Как
слепит
замороженный свет
и меня, и мгновенных прохожих!..
Всё — везде. Непохожего нет.
Но другого такого же — тоже
никогда не изведает свет.
Интерьер отразился в окне,
а оно — в том окне, что напротив.
Два пейзажа плывут в глубине:
слева — праздничен, справа — уродлив…
Но окно отразилось в окне.
И купейный мирок наш — во всём.
Во вращенье стволов и домишек…
Всё, что видим, в себе увезём,
но останется некий излишек:
всё должно
отразиться
во всём.
Холмы Forever
Памяти любимых учительниц —
Лидии Алексеевны Селищевой,
Ольги Андреевны Сотниковой
Помню грустное утро
на пороге зимы
и дорогу, что круто
поднималась в холмы.
Той порой все дороги
не к веселью вели.
Веял запах тревоги
от осенней земли.
Светло-серые дали
открывались с холмов
провозвестьем печали
для высоких умов.
Робкий дождик пролиться
не посмел и зачах,
а пожухлые листья
догорали в садах.
Ах, как муторно мудрым,
как печально живым
видеть пасмурным утром
этот медленный дым!
Есть ветра меж ветрами,
что ведут себя так,
словно в щель меж мирами
задувает сквозняк.
Вот таким был и ветер,
увлекающий дым,
что пунктиром наметил
путь к пределам иным.
Устремляясь к основам,
он исчез в вышине,
но остался ознобом,
что бежит по спине.
* * *
«Добрый день, имярек», —
обознался прохожий.
Я не тот человек —
видно, просто похожий.
Мы расстались навек,
только фраза осталась.
«Я не тот человек», —
ненароком шепталось.
Окунаешься в быт,
невозможный без дозы, —
эта фраза свербит
вроде старой занозы.
«Я не тот человек», —
констатируешь утром,
отправляясь в пробег
по рутинным маршрутам.
И бредя на ночлег
средь привычного хлама:
«Я не тот человек», —
повторяешь упрямо.
Я по горло игрой
этой сыт, если честно.
Я не тот, а другой,
только кто — неизвестно.
Это сделал мой век,
искажающий лица.
Я не тот человек,
а к тому — не пробиться.
Меж слепцов и калек
повседневной пустыни:
«Я не тот человек», —
утверждаю поныне.
И в зеркальную гладь
всё гляжу исподлобья,
не желая признать
достоверность подобья.
* * *
Над пустырём кружатся хлопья снега ―
их можно видеть только на лету.
Спеша из тьмы небес, они с разбега
врезаются в земную темноту.
Когда б им век отпущен был подольше!
Наст ляжет через месяц, а сейчас
одна лишь глина липнет на подошвы,
осенней влагой мёртвою сочась.
Чем этот снегопад январских хуже?
Родится снег, на гибель обречён.
Снежинка, вспыхнув, тут же гаснет в луже!
Но, в сущности, здесь лужа ни при чём.
Так кто ж виной? Лишь тот, кто мог помочь ей,
но — спасовал опасливо, не спас.
Вот он бредёт по слякоти полночной,
и горло перехватывает спазм!
Напрасный спазм. В запасе — ни слезинки.
Какая казнь карает слепоту?!
…Над пустырём — беззвучные снежинки.
Из темноты. И — снова в темноту.
* * *
Когда смыкается печаль
над выщербленным суесловьем,
то переход к иным речам
природой ночи обусловлен.
Он обусловлен тишиной,
дождём, распластанным по крышам,
и очень внятною виной,
чей голос в гомоне чуть слышим.
Тогда рождаются слова
о том, что якобы забыто,
и — распрямляется трава
из-под глумливого копыта…
Разъятые на «я» и «ты»,
мы искренности не стыдимся:
так разведённые мосты
томит желание единства.
Мосты, естественно, сведут,
Сомкнётся линия трамвая,
Загомонит весёлый люд,
друг дружке медь передавая.
* * *
Влажная тьма
охватила стволы и дома.
Значит, зима.
Значит, скоро воскреснет зима.
Влажная тьма…
Узнаю тебя, снежная тьма!
Прочь — кутерьма,
околесица, скудость ума!
Я без зимы
измотался, извёлся, устал.
Всё, что взаймы
брал у прошлой зимы, — промотал.
В чём же итог
болтовни, злопыхательств, икот?
Новый виток?
Где же выход?
Не там ли, где вход?
Но захлестнёт
обещаньем планиды иной
медленный лёт
хлопьев снега
над спящей страной!
* * *
Это было б дождём —
если б не было снегом.
Он беззвучно рождён
нашим пасмурным небом.
Он летит с высоты —
и ложится под ноги.
Станут снова чисты
города и дороги.
Начинай, снегопад! —
час решающий пробил —
с обнуления дат,
обеления кровель.
…Возвращаемся вспять,
к зыбким сваям причала,
ибо завтра опять
всё начнётся сначала.
Вновь среди белизны
лягут чёрные строчки —
ибо нет у весны
ни числа, ни отсрочки.
Бог есть Любовь?
…каждый человек есть часть материка, часть суши…
Джон Донн
Любимых каждый убивал.
Оскар Уайльд
Эпиграфом из Джона Донна
и я когда-то восторгался,
но ныне словом «мегатонна»
сердца людские сбиты с галса.
Колоколов уже так много,
что сделались неразличимы.
Нас утешают: знать, у Бога
на то есть веские причины.
И мы киваем: да, наверно,
во всей творимой мегасмерти
повинна лишь людская скверна,
а Бог… Он есть Любовь, поверьте!
Бог есть Любовь… Но, может, Уайльда
пора припомнить? До упаду
смеялся б он над нами: ай да
любовь! (Смотри его «Балладу…»)
Любовь всегда сродни убийству,
о чём мы часто забываем
(поскольку Уайльда к букинисту
снесли). С любовью — убиваем!
* * *
Она сидела на полу
И груду писем разбирала…
Ф. И. Тютчев
Мы стеллажи, спеша, опустошали —
вдруг сделался ненужным наш отдел.
Зубами где-то там проскрежетали —
и ВПК, как зубы, поредел.
И груда калек, синек, распечаток
вспухала, умножалась и росла —
чего-то утончённого зачаток,
незрелый плод ума и ремесла.
«Как много жизни, — повторял я тихо
над ворохом бумажным, — было тут!»
А пыль, свербя, всё требовала чиха:
«Ап-чхи!.. О, сколько радостных минут!»
Ну что ж, огонь, взметнись, золою брызни —
наш труд тебя собою напитал…
Уверен я, что каждый в этой жизни
такое хоть однажды испытал.
Опять погребено зерно в мякине!
Я бормотал под нос: «Amour, exil», —
и очень грустно шведочка в бикини
смеялась с пола, втоптанная в пыль.
* * *
Осточертело нудное бабьё!
Всё норовит — в глаза щепоткой перца.
Христос был терпелив, но, ё-моё,
к моим — и он не смог бы притерпеться.
Я утомлён обильем их затей,
оскомину набили эскапады.
Страшней ежевечерних новостей —
их умонастроений перепады.
В чём дело — перистальтика? луна?
То шёлк, то ор, как будто кто их режет.
Увы, соседям часто не до сна —
поди усни под мой зубовный скрежет.
Послушайте, ведь я не душегуб!
Не то что синей — вовсе бороды нет!
Согласен: я подчас бываю груб,
но хай любой нет-нет да и подымет.
За это, что ли, рвёте на куски?
Не уцелеть в убийственном цейтноте.
Ведь я не свечка, горе-мотыльки!
Безумицы — почто ко мне вы льнёте?
Какой-нибудь музейный экспонат —
и тот табличку выставил: «Не трогать».
За что ж меня так мучить и шпынять?
Летите прочь — я вам не мёд, но дёготь!
…Любимая — не слушай ничего.
Ты знаешь — иногда я тоже вою.
Мне тяжело — и славное чело
язвит клеймо вины перед тобою.
Перед тобой — за прошлое моё.
Перед тобой — за всё несовершенство
юдоли сей, где только вороньё,
раскаркавшись, приветствует пришельца.
Я разно жил — порой бывал неплох,
порою поддавался дешевизне.
Да, твой приход застал меня врасплох —
не прибрано в моей поспешной жизни.
Пусть я грешил, лил воду в решето,
за чувства полагая сбои пульса,
но ты прости — хотя бы лишь за то,
что я таки с тобой не разминулся.
Как мне тебя от времени сберечь?
Да Господи — хотя бы от простуды!
Я знаю только сбивчивую речь
и грохот опрокинутой посуды.
От темноты грядущей не спасти,
а страх былого пуще ностальгии.
Мы в тупике. Но всё же ты прости.
Даст Бог — меня простят и те, другие.
* * *
Окно открыто в дождь. Черно лоснятся листья.
Конечно, я его забуду… Но пока
дождю ещё не час, шурша сонливо, литься —
недаром день-деньской томились облака.
Окно открыто в дождь. Четыре тихих слова.
А я ищу других, не в шёпот чтобы — в крик!
Но, может, напишу спустя полжизни снова:
«Окно открыто в дождь». И — выключу ночник.
Монолог осветителя
Это — Гамлет? Дурачит он вас!
Вы обмануты страстью притворной.
Я-то знаю его без прикрас —
я с ним пил в его нищей гримёрной.
Да какой там на раны бальзам!
Как могли вы поверить фасаду?
Он, осклабясь, по фене базлал
и Офелию хлопал по заду!
Восхищаетесь им? Всё равно,
освищите его, покарайте —
он, куражась, кричал, что давно
разобрался в людском прейскуранте!
Это ж циник! Пустые глаза…
Он на каждого вешает ценник!
По щеке вашей катит слеза?
Вот её он как раз не оценит!
Почему же немотствует зал?
Просветленьем овация грянет!
Я — со всеми! Я что-то сказал?
Нет, послышалось вам… Это — Гамлет!
Оо С
В промозглых февральских потёмках,
когда над собою трунишь,
я вовсе не думал о том, как
предстану с одной из страниц.
В суставах дремала усталость,
и взгляд был привычно брезглив,
но, в сущности, ровно дышалось:
без спазмов и даже — без рифм.
И вдруг показалось, что это
реальность, и глупо гадать,
что значат минуты без света —
напасть ли они, благодать?
Дано нам не так уж и много,
чтоб это на части мельчить.
Иголка не праведней стога!
Спасибо, что смог различить
на грани начала броженья
земли под коростою льда
безбрежный отрезок мгновенья
на старой дороге туда.
Под сурдинку абсурда
Электрический сумрак,
сквознячок из фрамуг,
первых капель угрюмых
металлический стук.
Трубку поднял случайно —
в ней чужой разговор.
Предпочтительней тайна,
чем подслушанный вздор.
Под сурдинку абсурда
привыкаешь к тому,
что придется отсюда
отправляться во тьму.
От жестянок, пружинок —
к пустоте навсегда,
что от несокрушимых
не оставит следа.
Все — по кругу, по кругу,
но сбивается шаг.
Параллельную трубку
опущу на рычаг.
Я попал к вам случайно —
не лазутчик, не вор.
Лучше вечная тайна,
чем чужой разговор.
Предпочтительней сумрак —
и сквозняк из фрамуг —
и тяжёлых, угрюмых
капель медленный стук.
* * *
Лицо моё застыло, словно маска
посмертная, — от жизни ни мазка
в нём не найти; подёрнула, как ряска,
глаза потусторонняя тоска.
Я вижу стебли те, что сквозь глазницы
мои взойдут, мне слышен шелест их;
я обоняю смрад зловещей птицы,
и в пах меня клюющей, и под дых.
Под дых! Смешно сказать… Моё дыханье,
как легкий пар, растаяло вдали,
и остается только ожиданье
всевластья торжествующей земли.
Не это страшно. Страшно, что ты тоже —
пускай мне в это верится с трудом —
когда-нибудь со мной разделишь ложе
последнее, войдя в последний дом.
И, чем очередной менять десяток,
когда бы Бог помог мне или чёрт,
я был бы рад летучих лет остаток
перевести на твой расчётный счёт.
Герань
Сам себя по частям раздаю —
в основном, под воздействием страха.
Где забыл я брезгливость свою?
Вкус истлел, как в окопах рубаха.
Иссякает стремленье к добру,
в справедливость исчерпана вера
(мелочей и в расчёт не беру:
зубы, волосы, ногти — химера).
Здесь, в рядах, ничего не сберечь:
я (другой — не со щукой Емеля)
извожу на халтурщиков речь,
сам при этом безбожно немея.
Сплошь — лакуны, которых не счесть,
и поможет ли психоанализ,
коль эпохи ум, совесть и честь,
все мы слышали, чем объявлялись?
Впрочем, даже вопросы — к чертям!
Лишней ломкой мозгов не тираню.
Сам себя хороню по частям —
снова зуб закопал под геранью.
Пустое место
В уверенной хозяйской позе,
как Ряба на родном насесте,
сидит ворона на берёзе:
берёзе — шесть, вороне — двести.
Да только в вечности масштабах
их возрасты неразличимы:
чуть-чуть покаркаешь — и набок,
пошелестишь — и нет дивчины.
О грозных звёздах стих слагая,
«Ars brevis», — мыслишь поневоле,
но даже их не ждёт другая
судьба: не век им — на приколе.
«Всё чёрные поглотят дыры,
всё сгинет скоро в пасти мрака…»
Не вой, собака! Звуком лиры
я присмирю тебя, собака.
Лишь то не ведает задержек,
что неподвластно спешки блуду;
пустое место всё содержит,
«нигде» равняется «повсюду».
* * *
Что остаётся в амальгаме,
когда смыкается земля?
Я отражаюсь вверх ногами
в краплёной карте февраля.
Здесь нет меня как такового,
есть штемпель смазанный: транзит.
По полю зренья бокового
бесшумно ящерка скользит.
Ангел
Помню стыдную муку:
жил я краденым светом.
Кто-то тискал мне руку,
обзывая поэтом.
А ведь не было дара
никакого, поверьте:
лишь предвестья удара
да предчувствия смерти.
Слогом высокопарным
я владел, ну так что же?
Этим знаком товарным
похваляться негоже.
Опостылело мясо,
опротивели кости:
их ничтожная масса
доводила до злости.
Вот и сброшено тело,
значит — света избыток?..
Но такое вот дело:
вечный свет — хуже пыток!
* * *
Среди чернильной тишины
как будто змейки закружили.
До немоты напряжены
неисчислимые пружины.
Они расправятся вот-вот,
их сталь в расселины вонзится.
И сердце, может, оживёт
летучим гневом очевидца.
* * *
Ну что об этом пейзаже?
Пыль ветер взвил…
Две части газовой сажи
на часть белил —
легло такое вот небо
почти впритык
к земле… Тебе уже не по
себе? Притих?
Ты ждёшь, что грянет, протяжен,
гневлив, раскат —
и дождь обрушится, тяжек?
Но здесь — не так.
Не врезал мстительный ливень —
увял, зачах.
Не промах — просто ленивый,
шутя, замах.
Пугнули — и восвояси.
Мол, ладно, пусть…
И снова — день чист. И ясен.
А может, пуст?
* * *
Опять собака сдохла под балконом —
такая же, как сдохла прошлым летом.
Что молвить мне при зрелище знакомом,
почти никем на свете не воспетом?
Тот цензор, что внутри, пищит: «Да надо ль?
Ни ода здесь не сложится, ни фуга.
Один Бодлер осмелился про падаль,
но у него там — лошадь и подруга…»
Молчи, зоил! Скорбеть пристало ныне:
подумать о щенке, его восторгах —
и как повергла жизнь его в унынье,
пройдя на грязных улицах и стогнах.
Но, впрочем, что мы знаем о собачьем
(киническом!) принятии кончины?
Болтая, страхи собственные прячем,
навеянные духом мертвечины.
Быть может, не гнетёт их бремя наше —
и смена дней не кажется им знаком —
и не подносят гефсиманской чаши
часов не наблюдающим собакам?
* * *
Привыкшие к всегдашней правоте
уверены, что нет блаженней доли,
чем побеждать и быть на высоте,
и верить, что судьба их — в их же воле.
Но рядом есть совсем другие — те,
кто не сумел сыграть заглавной роли,
кого года распяли на кресте
сомнений, неуверенности, боли.
Признанье — одному, другому — плеть.
Так было, и осталось так, а впредь,
не знаю, до какой поры продлится.
Так что достойней — жечь или гореть?
Ослепнуть надо, чтоб потом прозреть.
Какие ты тогда увидишь лица!
Империя тела
Вот гляжу на неё — и немею —
и впиваются ногти в ладонь.
Я не смею, не смею, не смею
подойти к ней, такой молодой.
А ведь прежде я тоже был юным,
в крупных кольцах упругих волос,
только время безжалостным гунном
по империи тела прошлось.
Постаревший, с податливым брюхом
да с подглазьями что пятаки,
соберусь ли когда-нибудь с духом,
чтоб коснуться прохладной руки?
Шевелюра моя поредела,
пульс частит, аденомой грозят…
Наподобие водораздела —
наши годы: ни шагу назад!
Пусть полжизни я к дьяволу пропил,
потешая больных простофиль,
но летучий задумчивый профиль
нежным светом мой день окропил.
Потому я всецело приемлю
то, что видится мне впереди,
то, что лягу в холодную землю,
то, что тесно в смятенной груди.
И какой ни сменял бы десяток,
выпадая в осадок почти,
с этим светом пройду я остаток
отведённого небом пути.
Качели
От багрового рёва
до холодной луны
нас качает сурово.
Люди гнева полны.
Люди стонут ночами
от несхожести дней.
Амплитуда качаний
с каждым взмахом сильней.
(Ходят слухи, к примеру,
что какой-то пострел,
воротясь в стратосферу,
метеором сгорел!)
От звезды — до цинизма,
от любви — до вражды,
от молитвы — до визга
и опять — до звезды!
Этим диким качелям
впору мир разнести…
Ну а я был рассеян
и спокоен почти.
Я, насмешливо склабясь,
остальных поучал:
«Мне претит ваша слабость!
Для чего вам причал?
Мне смешны перемены —
мне что пар, то и лёд,
ибо одновременны
и паденье, и взлёт.
Ибо страсти и блуда
непреложная связь —
безобразное чудо
и чудесная грязь.
Ибо звёзды в болоте —
словно узел с бельём:
и парча, и лохмотья
перемешаны в нём».
Свет в окне — для кого-то,
для кого — негодяй…
Это только колода.
Никогда не гадай!»
…Осени святотатца —
да не будет он прав!
Дай взлететь — и остаться —
и сгореть, не упав!
Силуэт
Ты, входя, уронила перчатки.
В дверь вливался раздвоенный свет.
На моей воспалённой сетчатке
отпечатался твой силуэт.
Прикоснувшись к холодной ладони,
я, глаза на мгновенье закрыв,
различил на расплывчатом фоне
очертаний твоих негатив.
Я сморгнуть его тщетно пытался,
головой ошалело мотал;
час прошёл — отпечаток остался,
не поблёк и тусклее не стал.
Каждый день хоть кого, да встречаю:
тумбы, урны, прохожих, собак, —
но, лишь веки смежу, различаю
лёгкий абрис, скользящий сквозь мрак.
Всё на свете вчистую забуду,
но и в самый безжалостный день
будет рядом со мною повсюду
неотступная светлая тень.
* * *
Когда, омыт органной белизной,
парил над утром яблоневый цвет, —
рождая звук отчётливо-стальной,
на стол легли заколка и браслет.
Чуть скрипнув, шкаф открылся платяной.
О восковой сияющий паркет
как будто дождь ударил проливной —
так дробно раскатилась горсть монет.
За этот миг прошло немало лет.
Изъян зеркал: за гладью ледяной
вчерашних отражений нет как нет.
Но внятен знобкий шелест за спиной
наедине со звонкой тишиной,
особенно, когда погашен свет.
Слушая ночь
Медлим с ответом, слушая ночь
(камня в сплетеньях корней).
Без электрических покрывал
тьма наготою слепит.
Часики били сколько-то раз.
Время идёт, но куда?
Жук-древоточец звонко молчит.
Может, удастся и мне.
Ночь улыбнулась. Нечего, мол.
Камни пустили ростки.
Будни
Разорвались причинные связи:
в установленный час не светает,
лёд от лампы паяльной не тает,
без конфорки бурлит кипяток,
и на улицах чище от грязи,
и трезвит торопливый глоток.
Больше нет ни законов, ни правил!
Ни Ньютону, ни даже Эйнштейну
не прийти ни к какому решенью
относительно будущих па
сумасшедшей вселенной, где равен
каждый каждому, праху — толпа.
Не поможет анализ усердный.
Даже я, выдающийся логик,
понапрасну свой мучая лобик,
ни хрена объяснить не могу:
выживает не сильный, но серый,
а кто прям — те и впрямь ни в дугу.
Над столетьем хохочет секунда.
Календарь правит сменой сезонов.
Бесшабашные жаждут резонов.
Толстокожие стонут во сне.
Жизнь паскуд и скудна, и паскудна,
ну а паинькам — гаже вдвойне!
Мы, полны беспричинной кручины,
беспричинного ищем веселья,
а хлебнув приворотного зелья,
забываем, с кем пили его.
Так шарманка теряет пружины,
но играет вполне ничего.
Мы смеёмся, когда не до смеха.
Мы себя за суждения судим.
Мы себя начиняем абсурдом —
и сморкаемся в чистый батист.
Всё навыворот, всё! Даже эхо
на «ау» отвечает «катись».
Как мотыга чурается клада,
мы боимся внезапной удачи.
Не взаимности требуем — сдачи!
Ваших слов мне вовек не забыть.
Их так мало, что больше — не надо.
Я так счастлив, что впору — завыть.
Просёлок
Сегодня — солнце. Золотом пылинок
пронизан терпкий воздух и согрет.
Но кое-где сырой ещё суглинок
послушно отпечатывает след.
Тень под ногами — чёрная на жёлтом.
Молчит земля, вобрав вчерашний дождь.
Но позади — ты только что прошёл там —
сочится влага в лунки от подошв.
И это — взгляд. Так смотрит невидимка.
Что знает эта зрячая вода?
Земля молчит. Над нею, словно дымка,
сгущается безмолвное: «когда?».
* * *
Взгляни на запад, мистер X:
пылающий закат
весьма напоминает Стикс.
Но ты не виноват.
Ты просто в яблочко попал —
не выше, не правей, —
и мир сражён был наповал
догадкою твоей.
О, этот жар холодных числ:
сто сорок, двести три.
Поправь причёску, сделай cheese —
и навсегда замри.
Ты богоравен, мой герой, —
позволит твой прорыв
нам сгинуть не в земле сырой,
но в небо воспарив.
Всё испещрившая цифирь
исчезнет без следа,
но есть слова etoile, эсфирь,
star, stella и звезда.
* * *
Не думай обо мне. Я — только случай.
Внезапный сбой. Авария в сети.
Не вспоминай. Тоской себя не мучай.
Я — только снег, растаявший в горсти.
Ты днём живешь. Когда-нибудь, однако,
поймёшь и ты в звенящей тишине:
я — только вздох. Я — взмах рукой из мрака.
Я — только всплеск. Не думай обо мне.
Силлиботоника vs Верлибр
Отец стандартизации, Прокруст,
изрядно преуспел с проблемой роста:
пилы ли визг, растягиванья хруст —
что гениально, то всегда и просто.
Какой это ужас:
вдруг стать таким же,
как все вокруг,
ну абсолютно ни от кого не отличимым.
Куда ни плюнь —
в себя же и попадёшь.
С тех пор его склоняют так и сяк —
мол, посягнул на индивидуальность,
а ведь лишь тех бывал замечен шаг,
кому шагать не в ногу удавалось.
В ногу, не в ногу —
в ногах правды нет,
ведь это не марш
и не дефиле:
одиночный полёт
за письменным столом.
Теперь же все твердят: «Бу-бý, бу-бý», —
однообразно, скучно, монотонно,
а чуть отступишь — вылетишь в трубу:
припишут нарушение закона.
А может, я люблю это дело —
вылетать в трубу?
Эх, хорошо бы
оседлать метлу
да и вылететь отсюда
к чёртовой матери!
Живём на воле словно бы в тюрьме,
тянуться нам приходится и гнуться —
и «мы» писать, а «я» держать в уме,
хоть это, говоря по правде, гнусно.
«Я, я, я — что за дикое слово!» —
странно, однако же,
что это написал
Ходасевич, а не я сам.
И как прикажете это понимать?
Плагиат во времени?
А можно было б жить, как немец Руст!
Увы, сулил иную нам обитель
отец версификации, Прокруст,
размеров стихотворных учредитель.
Но вот только не заявляй,
что ты, дескать, Анти-Прокруст,
ежели попросту не владеешь
классической формой,
а посему и клепаешь
одни лишь верлибры.
* * *
Вдруг захотелось снега. Чтобы он
светился затаённо и печально.
И чтоб — ни звука. Чтобы только звон
в ушах от ненасытного молчанья.
И чтобы окна — гасли. И следы,
в снегу сойдясь, застыли бы ничейно…
А дворник, взявшись утром за труды,
не понял бы их знойного значенья!
Многомерный обман
Не пойму ничего. Это всё — многомерный обман.
Вот юнцов, не вкусивших и первого в жизни причастья, —
тех, должно быть, немало смешит мой бредовый роман:
аравийской сестре, хоть убей, не могу докричаться.
Странно думать о том, как бы всё обернулось вчера.
Эта явная ложь, эта ложная явь — комом в сдавленном горле
Это случай слепой разбросал нас с тобою, сестра,
и в раздельные почвы врастали с тех пор наши корни.
В каббале допущений, под сенью словечка «кабы»,
в сослагательных дебрях — мы рядом с тобой; наяву же
не хватает судьбы (как в стене — не хватает скобы),
чтобы то, что внутри, перевесило то, что снаружи.
Город Nальчик
Игорю Терехову
Хоть в мечеть обратился «Ударник»,
хоть реклама повсюду в чести,
хоть всё больше фасадов шикарных, —
от тебя, слобода, не уйти.
Пусть три слоя гудрона налягут
здесь на землю подобьем оков,
но проступит и прежняя слякоть,
и булыжники прошлых веков.
Пусть малюет хоть кто не по-русски:
Pizza, Club, Vavilon ли, Vivat, —
на углах, как и раньше, старушки
сядут семечками торговать.
Даже если и буду сподоблен
Корбюзье изощрённых затей,
не поверю в кончину колдобин,
закоулков, трущоб, пустырей.
Светляки до сих пор не потухли,
хоть, конечно, неону — мерси.
Нацепив италийские туфли,
самотёчную грязь помеси.
Коль налипнет саманная глина,
захолустье винить не спеши:
не провинция в этом повинна,
а особое зренье души.
Мир обманной завесой окутан,
но черты его сквозь ширпотреб
прозревает художник Колкутин —
и все прочие, кто не ослеп.
Первопроходцы 90-х
Эклога
Понравится ли этому мальчику
тот мужчина, которым он станет?
Андре Моруа
Первопроходцы девяностых,
вас часто поднимали на смех,
вас поминали в анекдотцах
о пиджаках кроваво-красных.
Молва росла, раздольно ширясь,
ползла, как дрожжевое тесто,
так что Чапай и даже Штирлиц
теснились, вам давая место.
Вы жили в сытости и страхе,
о вас муссировали мифы —
олигофрены, олигархи,
калибра разного калифы.
Друг дружке расставляя сети,
в теледебатах вы блистали, —
но как на вас смотрели дети,
что вами, собственно, и стали?
Году в две тысячи тридцатом
(возможно, впрочем, что и позже),
любуясь медленным закатом,
всего и скажете: «О Боже!»
Ночной звонок
Сонет-диалог
— Кто там?
— Да я, открой.
— Кто — «я»? Их много.
— Я — память.
— Ну так что же?
— Слушай, ты…
— Но, согласись, ведь ни одной черты
пока не прояснилось.
— Ради Бога,
кончай базар! Опять начнём с порога…
— Вопрос не в том.
— Дружок! слова — следы
босых ступней у краешка воды.
Ну, предположим, я — твоя тревога.
— Допустим. Это точно?
— Я не знаю.
Взгляни — увидишь.
— Не уверен, что
увижу то, что в самом…
— Поясняю:
не видишь то, что есть, а есть, что видишь.
— Но…
— Хватит! Не войдёшь ещё, а выйдешь!..
— Прости. Входи. Привет. Снимай пальто.
Влажная уборка
Пыль всех дорог — сквозь щели рам оконных.
Я был везде, и я открыл закон
Неубыванья Пыли.
В моём скелете кальций тот же самый,
что был в скелете давнего врага
подобных измышлений.
В его зрачках ночное небо отражалось,
он отражён в зрачках погасших звёзд,
чей свет в морях рассеян.
И я курю шестую сигарету,
пуская дым в сноп солнца из-за штор,
где мечутся пылинки.
В их танце — мятный холодок предчувствий,
и земляной прохладой веет день,
но запах полироли —
побеждает…
* * *
Медное солнце,
ветер, песок и жара.
Смерч пронесётся
росчерком злого пера.
Знаю отныне:
слеп, кто не ведал беды.
Только в пустыне
вкус познается воды.
Был я там, не был —
это не важно ничуть.
Выжженным небом
кажется мне моя грудь.
Медного сердца
свет беспощаден и зол.
Единоверца
я на земле не нашёл.
Скудостью линий,
маревом душу свело.
Стало пустыней
то, что здесь прежде цвело.
Сам же и выжег —
так что чего теперь ждёшь?
Туч, кроме рыжих,
нет, и не сбудется дождь.
Медленно, мерно
копится тяжесть шагов.
Лягу, наверно,
я среди этих холмов.
* * *
Мерцает мне разгадки торжество —
так звёзды днём видны со дна колодца.
Что понял? Прописное: для того
чтоб к вам дойти, распять себя придётся.
Не ново? Что ж, и весь мой путь не нов.
Весь мир не нов, меняясь поневоле.
Пусть выведут в нём розы без шипов,
но красота немыслима без боли.
Утренняя серенада
Из Филиппа Ларкина
Весь день тружусь, а виски — перед сном.
Во мрак вперяюсь вновь уже в четыре.
Свет, знаю, созревает за окном,
пока же вижу то, что вечно в мире:
смерть, что подобралась на сутки ныне
и мыслей не оставила в помине,
кроме одной: когда и где — я сам?
Вопрос напрасен, но, как вспышка, слово
небытие пронзает снова,
хлеща в потёмках плетью по глазам.
Сознанье слепнет. Дело не в вине —
любви не дал, добра не сделал, шало
растратил дни впустую, — но и не
в обиде, что отпущено так мало:
бывает, жизнь томит и в середине;
нет, дело в окончательной пустыне
исчезновенья: устремляясь к ней,
ни здесь, ни где-то не пребудем боле,
подобное не в нашей воле —
нет факта достоверней и страшней.
Кунштюков, чтоб тот страх оставил кровь,
не существует. Не поможет веры
парчовый, молью траченный покров,
ни формула, что любят лицемеры:
нет страха перед чем-то, что вне чувства.
То и страшит, что всё пребудет пусто,
не трогая ни базовых пяти,
ни прочих чувств, без коих все мы нищи,
ни мыслям не давая пищи, —
наркоз такой, что впредь не отойти.
Не отпускает холод даже в зной:
скользит по кромке зренья бокового,
порывы кроя плёнкой ледяной.
Пусть не случится многого иного,
но смерть, она отменно держит слово;
тому, кто понял это без спиртного
и без людей вокруг, несдобровать:
жуть будет жечь углями из жаровни.
Отвага хороша для ровни.
Восстал ли, взвыл ты — смерти наплевать.
Свет спальню проявляет не спеша.
Всё просто, словно шкаф. Всегда мы знали:
того, чему противится душа,
не избежать. Одно грядёт в финале.
Меж тем к звонкам все офисы готовы
и примеряет нехотя обновы
мир, что запутан, дважды сдан внаём.
Нет солнца, небо белое, как глина.
Опять зовёт работ рутина.
А почтальоны, как врачи, — из дома в дом.
Гефсиманский мотив
Эта зыбкая твердь,
эта слякоть ночных перекрёстков,
этот рельсов извив,
под фонарным лоснящийся взмахом,
эти псы вдалеке
с мелко-чётким, как буковки, лаем,
этот воздух сырой,
от которого кариес в шоке,
этот голос впотьмах,
что бормочет несвязные строчки, —
это всё лишь затем,
чтоб ты знал, чем закончить период:
и, упав на лицо,
умолял пронести эту чашу…
* * *
Когда исчерпается к чёрту твой певческий импульс,
досадливо лапкой помашешь: мол, не до олимпу-с,
я лучше со мхами смешаюсь да с листьями слипнусь, —
древесная жизнь, она тоже шурует по жилам;
приятней шуршать, чем опять обнаруживать ляпсус
в своих же стишках, вслед за чем только тыкву облапишь:
в чужие салазки почто, бедолага, залазишь?
пора бы заткнуться, под стать остальным пассажирам.
Заткнуться, замкнуться, и пусть роговеет короста…
Казалось бы, всё справедливо, разумно и просто,
но фото припомнишь трухлявого Роберта Фроста,
что был голосистей тебя даже под девяносто, —
и сызнова старые одолевают напряги,
опять приникаешь, коряга, к дисплейной бумаге,
спускаешь в словесные залежи памяти драги,
скребёшь и царапаешь донышко… так — до погоста.
А что до находок, то дело, вестимо, в породах,
в излучинах русла, в живых и отравленных водах,
в прекрасных удавах, во вдовах и годах-удодах:
обмен здесь возможен, но глина намного дороже,
чем все драгоценности, ибо она изначальна, —
пластична, как слово, и столь же нежна и печальна,
за что вобрала в себя душу, послушно-зеркальна,
чтоб снова отдать её в миг искупительной дрожи.
Тебе этот миг предначертано множить и множить,
поскольку не раз то, что прожито, должно итожить,
чтоб нежить изжить, раздробить, истребить, уничтожить —
и вычерпать полностью то, что от воли, от света…
Но как объяснить, для чего и кому это надо?
Мотив зарождается — нет никакого с ним слада,
дарить ему горло — в одном только пенье награда,
страда и отрада… покуда не всё ещё спето.
Не думай о сроке, но, выглянув утром с балкона,
порадуйся молча проворности антициклона,
что за ночь до блеска отдраил настил небосклона,
на коем октябрьское солнце к тебе благосклонно, —
и, щурясь от дыма трескучей своей сигаретки,
возьми на заметку, какой дерзновенной расцветки,
пускай стали редки, но сделались листья на ветке
ещё не опавшего, не оголённого клёна.
* * *
Снег (с грязью пополам) хрустит, промёрзший,
раздробленным скрежещущим стеклом.
Зима, представ никчёмною гримёршей,
пренебрегла красивым ремеслом.
Её мазкам придет пора растаять,
открыв щебёнку, мусор и асфальт.
Из вязкой жижи травка вырастает.
Ей неоткуда больше вырастать.
Побег
Вдогонку нам — грома раскаты.
Прощанье… последний поклон!
Деревья, тасуясь, что карты,
мелькают за пыльным окном.
Звенящая радость побега!
(А в зеркальце пляшут кусты
и скачут, как телепомеха,
шофёра скупые черты.)
Успеем? Бог видит, успеем!
В прорыв, в серебристый просвет!..
Но — поздно! И струи с шипеньем
смывают наш копотный след.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
День будет прозрачен и длинен —
так есть ли резон возражать,
что к вечеру вызреет ливень,
которого не избежать?
* * *
Сегодня утром я взглянул на небо,
с тоской провёл ладонью по щетине,
кляня капризный шнур электробритвы,
и в утешенье сам себе сказал:
— Поэт живёт наедине со смертью.
Что им делить? Меж ними только Слово,
которое когда-то было Богом,
а стало — так, безделицей из букв.
Автопортрет у ларька стеклотары
Кто бы стал нести
унылой жизни тягостное бремя?
«Гамлет», акт III, сцена I
To be or not… Язык на альвеолах…
Я этот вековечный милый вздор,
которому в спецшколах каждый олух
прилежно внемлет, помню до сих пор.
Лет в десять я зубрил его ретиво,
с трагическим заламываньем рук.
To be or not — и вся альтернатива!
И в слове not — альвеолярный звук!
Благодаря Шекспиру и Минпросу
по гроб твердить мне это суждено.
Но наяву подобному вопросу
меня смутить, по счастью, не дано.
Когда-нибудь я стану горстью пыли,
но чтил и чту единственный ответ:
to be — и точка! Безо всяких «или»!
To be — и всё. Альтернативы нет.
Стремленье сгинуть — чуждая причуда.
Блуждая мрачной бездны на краю,
я знаю, что я жив ещё, покуда
посуда есть, которую сдаю.
Пустырь как цитата
По соседству с термитным кварталом
лёг и в сон погрузился пустырь.
Он дарован зверушкам картавым,
ржавым тросам да травам густым.
Он изрыт, как ломоть, что оторван,
он изрезан небрежным ковшом.
По сырым и извилистым тропам
я не раз, спотыкаясь, прошёл.
Оступлюсь — он тяжёлые веки
приподнимет — и снова смежит.
Он не ищет любви в человеке
в этом веке; он просто лежит.
Он не знает ни поз, ни ужимок,
навсегда он решился уснуть.
Пусть впечатался след мой в суглинок —
он его не затронул ничуть.
Весь в репьях, выходил я к асфальту.
Было странно легко на душе.
Я его заучил, как цитату,
но откуда — не вспомнить уже.
Признаки жизни
Поэма-коллаж
1
Завывает в трубе Нострадамус,
сам румяный, что твой нувориш:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Ты не знаешь, о чём говоришь!
2
С нами Бог! Приступаю к коллажу.
Ворох вырезок, пальцы в клею…
С искушением давним не слажу —
склеить жизнь воедино свою.
Это чувство свербит и неволит,
хоть справлялся я с ним до поры.
Нынче ветер особенно воет,
да и ножницы в меру остры.
Только что в этой россыпи выбрать?
На наитье надежда слаба.
Что оставить, что начисто вырвать,
чтоб в коллаж уместилась судьба?
Это вздор, это сор, это пепел…
Ёлы-палы, да где же алмаз?!
Где тот день, несминаем и светел,
что, назло дуракам, не угас?
Где они, этой жизни приметы,
эти вехи, зарубки, кресты —
огнедышащий след от кометы,
промелькнувшей среди пустоты?
3
Думал — ветер, ан нет: Нострадамус
завывает в холодной трубе:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Мой вопрос! Что за дело тебе?
4
Подаю ли я признаки жизни?
Подаёт ли их кто-то другой —
например, к равнодушной отчизне
припадая холодной щекой?
Может, тот, кто внезапно осёкся,
скомкав речь, что слагалась не год?
Или тот, кто, прищурясь от солнца,
возвестил нам Великий поход?
Или те, кого краше не сыщем,
кто умеет наладить уют,
на углах эти признаки нищим,
словно милостыню, подают?
Нет ответа: сам термин расплывчат,
только Энгельс в нём толк понимал,
но не так уже Энгельса кличет
почитавший допрежь персонал.
Что за толк тогда в этом коллаже?
Сам не знаю, но пальцы в клею.
Жизни признаки, признаки блажи —
что же именно я подаю?
5
А в трубе тарахтит Нострадамус,
навострившись пугать да грозить:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Значит, дашь хоть немного пожить!
6
«Небелковая жизнь — это ересь». —
«А по мне, так белок ни при чём». —
«И потом, почему только Энгельс?
Да оставь ты его… с Ильичом!»
Верно, в жизни все смыслят отменно:
киллер, паинька, бомж, толстосум.
Кто твердит о процессах обмена,
кто — о «cogito», «ergo» и «sum».
«Жизнь проста», — говорит академик;
«Жизнь сложна», — возражает вахтёр.
Кто-то вывел: «Нет жизни без денег», —
но потом осмотрительно стёр.
Как же быть? С кем из них согласиться,
чтоб суметь разобраться в себе?
Нет, сегодня хоть что да случится —
так и воет, и воет в трубе!
Это ветер? Не смею ручаться.
Кем бы ни был ты — угомонись!
«Признак жизни — отсутствие счастья», —
пояснил мне один гуманист.
7
Я-то знаю: в трубе — Нострадамус,
он горазд завывать и рыдать:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Тот, кто мыслит, обязан страдать!
8
Да, я мыслю — пусть даже и смутно,
неприемлемо для большинства,
но как часто пылает под утро
от раздумий моя голова!
Был я с цифрами близок когда-то,
мистер X меня дружбой дарил —
он хотел обрести во мне брата,
но я в пику ему говорил:
«Не из тех я, кто, ногти глодая,
бродит ночью, как кот по цепи,
чтоб добавить, от счастья рыдая,
пару цифр к пресловутому пи!»
Непонятно, к добру ли, к печали
оборвался наш краткий союз,
но с тех пор я немыми ночами
размышленьям иным предаюсь.
На скрипучем диванном матрасе
всё верчусь, как в кипящем котле:
что мы спорим о жизни на Марсе?
Существует ли жизнь на Земле?!
9
То, как муха, жужжит Нострадамус,
то звенит, как полночный комар:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Да, раздвоенность — это кошмар.
10
О мой идол, великий компьютер!
Ты — отдушина средь мишуры.
Долго был я сетями опутан
алгоритмов и прочей муры.
Мне как чудо явился ассемблер,
весь прозрачный, как лес без листвы,
словно он завладеть был нацелен
всем пространством моей головы!
Я трудился до энного пота,
недосыпом себя изнурял —
сколько стоила эта работа?
Сколько времени я потерял?
Нет, пора поворачивать дышло!
Я, наверно, хватил через край.
Все равно — Билла Гейтса не вышло.
Питер Нортон, счастливо! гуд бай!
Мир двоичный, прекрасный и строгий,
отпусти меня, слышишь, добром!
В мире нет никаких технологий
прогрессивней бумаги с пером.
11
А в трубе знай поёт Нострадамус,
хоть башку ему прочь оторви:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Без того не бывает любви.
12
Я испробовал. Больше не надо:
расшибаешься, вздумав парить.
Эта сладость опаснее яда,
не хочу я о ней говорить.
Слишком дорого признаком жизни
это дело иметь за душой.
Не хочу уступать дешевизне,
но… чураюсь любви я большой!
Не хочу, не могу, не умею!
Повторение мне не с руки.
Я когда-то весь полон был ею,
а осталось — четыре строки:
«Ты, входя, уронила перчатки.
В дверь вливался раздвоенный свет.
На моей воспалённой сетчатке
отпечатался твой силуэт».
Вот и всё. И увольте от клада.
Этих слов мне вовек не забыть.
Их так мало, что больше не надо.
Я так счастлив, что впору завыть.
13
А в трубе верещит Нострадамус,
то мычит, то лопочет в бреду:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Не похмелье ль имеешь в виду?
14
Был я юн и не в меру беспечен
(тот азарт до сих пор не исчез).
Знают легкие, почки и печень,
сколько я обменял их, веществ!
Для здоровья не чая убытков,
не предвидя гремучей беды,
я, как тот, кто ушёл, из напитков
лишь сухой не отведал воды.
«Не люблю тонкозвончатых рюмок, —
возглашал я над гвалтом стола. —
Мужиков уважаю угрюмых,
что стеснительно пьют из горла».
А потом каждой клеточкой тела,
что стонала, вопила и жгла,
я мечтал, чтобы жизнь охладела,
отпустила, уснула, ушла.
Слишком жив был я в эти минуты,
слишком часто и трудно дышал
и тупое отчаянье смуты
слишком резко в себе ощущал…
15
Воет, воет в трубе Нострадамус
(чтоб ему от гангрены сгореть!):
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Это точно, ведь память — что плеть.
16
Признак жизни — отменная память.
Ни минуты не даст продохнуть!
Память вроде не принято хаять,
но куда с этой тяжестью в путь?
Вместо зелени — горечь проплешин.
На поляне — следы от кострищ.
Эх, сокровище! Ну тебя к лешим!
Только зря ты его костеришь.
Просто так не избыть эти шрамы,
не прикрыть никакой из личин.
Раны прошлого — цепки, упрямы,
как бы рьяно ты их ни лечил.
Даже в зной зазнобит, как от стужи.
Та, что скомкала жизнь, как платок,
смотрит вслед — это, знаешь ли, хуже,
чем свистящий вослед шепоток.
Только время — тропа к избавленью.
Дай годам над собой ворожить.
Признак смерти — способность к забвенью,
что даёт выпрямляться и жить.
17
Монотонно мычит Нострадамус
(Бог ты мой, как же он надоел!):
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Это всех неизбежный удел.
18
Надо пыли добавить к коллажу,
смятых фантиков, склянок пустых —
прежних чувств обозначить пропажу,
тех видений, что гаснут, остыв.
Забываются даты и лица,
словно патиной кроют стекло.
Паучком в янтаре сохранится
то, что прежде болело и жгло.
Если почерк забыт на конверте,
кто ответит — во благо? во вред?
Признак жизни — стремление к смерти,
говорил приснопамятный Фрейд.
Линька — это пора обновленья.
Тот, кто прежде считался тобой,
остаётся во власти забвенья,
но как больно утрачивать боль!
Словно тень допотопного года,
в мерзлоту запечатан моллюск…
Существуя за счёт их ухода,
я за тени свои помолюсь.
19
Не смолкает никак Нострадамус,
экстрасенсишко, нонсенс, зеро:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Ах, как мило! И столь же старо.
20
«Я живу с марсианином в доме.
Марсианину скоро семь лет.
У него в шоколадке ладони,
а передних зубариков нет».
Эти строки отвергли в газете,
как я помню, лет десять назад.
Признак жизни — конечно же, дети,
только что мне об этом сказать?
Кровь дарить — небольшая заслуга,
а вот духом делиться своим —
с этим делом, по-моему, туго:
лишь о будничном мы говорим.
Сопричастность считается чудом.
Разным воздухом дышим давно.
Быть с детьми капиллярным сосудом,
к сожаленью, немногим дано.
Их фарватер не вымерить лотом —
будет взгляд отчуждён и колюч.
Что мне им возразить, обормотам?
Сам с рождения заперт на ключ!
21
А в трубе, как всегда, Нострадамус
голосит, триумфально трубя:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь:
трудно высказать сердцу себя.
22
Ремесло моё, бремя, повинность —
раскрывать свою душу другим!
Лучше я заслонюсь, отодвинусь,
словно клоун, упрячусь под грим!
От природы уклончив и скрытен,
как могу я выказывать боль?
Спринтер, мчащий меж кочек и рытвин, —
равнозначная этому роль.
От природы застенчив и робок,
как могу я, бия себя в грудь,
обнажать, выводить из-за скобок
сокровенное — самую суть?
Быть увиденным в каждом изгибе,
на просвет, до пылинки, дотла —
это то, что когда-то эксгиби-
ционизмом латынь прозвала.
Так рождается стихотворенье…
Но никто не относит, увы,
к прочим признакам жизни — стремленье
прыгнуть выше своей головы!
23
Завывает в трубе Нострадамус,
аки тать, завывает в ночи:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Да, достали уже трепачи!
24
До чего же от них много шуму!
На экран беспристрастно взгляни —
и затеплится дума про Думу:
полно, вправду ли живы они?
Прикрываясь любовью к отчизне,
каждый хочет побольше урвать.
Нет, политику признаком жизни
я бы в жизни не вздумал назвать!
Порождая надежду в холопе,
что не вытянут полностью жил,
признак жизни бродил по Европе,
но, как призрак, своё отслужил.
Что осталось? Пожухлые мысли,
дребедень, ностальгический бред,
ибо старые вина прокисли,
ну а новых пока ещё нет.
Я не знаю занятия гаже,
чем всю жизнь проходить в призовых.
Мне сегодня подумалось даже,
что нельзя быть живее живых.
25
Не охрип до сих пор Нострадамус
(ах, прижечь бы его утюгом!):
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь,
но, поверь мне, совсем о другом…
26
От политики надо бы к сексу
неназойливый выстроить ряд,
но картинки весёлые сердцу
ничего уже не говорят.
И не то чтобы тестостерона
не хватало в крови моей, нет,
но я начал смотреть отстранённо
на всё это с течением лет.
Чтоб дойти до иного предела,
я себя понукаю: спеши!
Холод мой — не старение тела,
а, скорее, усталость души.
Лебедой порастает либидо.
Все победы пророчат беду.
Что поделать? Вздохнувши для вида,
я из Йейтса кусок приведу:
«Сердце вскормлено хлебом фантазий,
и жестокость отныне в крови;
вкус насилья, вражды, безобразий
притягательней пресной любви!»
27
Воет, воет в трубе Нострадамус,
прорицая большую беду:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Но с катушек уже не сойду!
28
В изуверы ушли пионеры —
видно, трудно им жить без затей.
Ни на грош не имею я веры
к тем, кто верой кичится своей!
Бог покончил с собою и с нами —
потому-то, не зная Христа,
я, блуждая меж зыбкими снами,
не молюсь, не целую креста.
Воскресенье сродни керосину:
от подушки лицо оторви —
никуда ты не денешь кручину,
ибо Спас — он всегда на крови.
Я не верю молитве, однако,
глядя в небо, всегда признаю:
признак жизни — ждать вещего знака
(неспроста мои пальцы в клею).
Знака нет. Значит, снова помстилось.
И, как встарь, с ожиданьем в груди,
я твержу: «Ничего не случилось?
Ничего, ещё всё впереди!»
29
Завывает в трубе Нострадамус,
раздуваются ноздри его:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Может, это моё естество!
30
Горизонт мой бетоном изгажен,
глыба серая встала впритык,
но и заживо срытым пейзажем
всё любуюсь я, ибо привык.
Так сказать, перед мысленным взором
до сих пор пламенеет листва
тех разросшихся яблонь, которым
трактора предъявили права.
Гор задымленных видно не стало,
прямо в стену вперилось окно,
но всё то, что оно открывало,
по привычке мне видеть дано.
О привычки, крепки ваши сети!
Не исправить горбатых, кривых…
Я живу-поживаю на свете —
и уже, понимаешь, привык!
От привычек настырных, капризных
отойти никому не суметь,
только вот что: чего это признак?
Это жизнь — или всё-таки смерть?
31
Голосит, голосит Нострадамус,
всё пророчит планиду мою:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь —
пятый день мои пальцы в клею.
32
Пятый день я тружусь над коллажем.
Встал размяться… Как много пустот!
Тот кусок как-то криво прилажен,
и, наверное, лишний — вон тот.
Ну так что же — я жил или не жил?
Из сплетенья случайных примет
средь бумаги и клея забрезжил
утвердительный вроде ответ.
Да, я жил. Но достанет ли пылу
удержаться на этом балу?
Ведь собачьи сомнения с тылу
норовят ухватить за полу.
Время — вор, я — предмет его кражи.
Напитаю собою траву…
Но пока есть пробелы в коллаже,
я, пожалуй, ещё поживу.
Дам обет — и его же нарушу,
оступлюсь — и запутаю след,
ибо часто сильнее, чем душу,
я в себе ощущаю скелет!
33
А в трубе все мычит Нострадамус,
остроумец, смурной юморист:
«Настрадаешься, мол!» Настрадаюсь?
Ты, ей-Богу, меня уморишь!
34
Подаём ли мы признаки жизни?
Где дыханье, давление, пульс?
Трубадуры на траурной тризне,
минус к минусу — это не плюс!
Минус к минусу — признак утраты.
Запотевшее зеркальце — бред.
Те, что были когда-то крылаты,
достаются червям на обед.
Все мы, словно цветы без поливки —
и политики, и голытьба.
Наши признаки — те же улики,
и по ним — наше дело труба.
Сердце медленно движется к краю…
Но пока мои пальцы в клею,
в ящик я нипочём не сыграю —
я ещё постою на краю!
Несмотря на распад и растрату,
чёрту нос не однажды утру!
Жизнь — вразнос, но, назло супостату:
— Я, мой друг, никогда не умру!
35
Отойди от меня, Нострадамус,
не лишай меня Божьего дня!
Отойди! Я сейчас разрыдаюсь,
и никто не утешит меня…
Хрустальный шар
Шар хрустальный — вот всё, что я помню о нём.
Он был небом завещан.
Опусти его в тигель, испробуй огнём —
ни царапин, ни трещин.
Шар я помню, в котором текли облака
с невесомым сияньем,
но с годами — упорно твердит мне строка —
я расстался с тем знаньем.
Невзирая на то, что так скоро умру,
что забвенье — химера,
я мотался, как ржавая жесть на ветру,
и летал, как фанера.
Где хрустальный мой шар? Хоть шаром покати —
ни числа, ни излучин.
Ветер жухлые листья прогнал по пути,
что до скуки изучен.
Всё равно! всё равно! — бьётся пульсом в висках.
Это было недаром.
Шар хрустальный в моих согревался руках.
Я владел этим шаром.
Реторта
Венок сонетов
Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе,
прилежит мне злое.
К Римлянам, 7:21
Иль небо не одно над ними?..
Ф. И. Тютчев
Розу белую с чёрной жабой
Я хотел на земле повенчать.
С. А. Есенин
1
Перекалилась, лопнула реторта!
Осколки, брызги — вот и весь итог.
А я варил состав такого сорта,
что чувствовал себя, как полубог.
От гордости дыханье было спёрто,
как у вороны, — вот и занемог.
Да, оплошал… О Боже, вот позор-то!
Какой теперь влачиться из дорог?
Обуглен пол. Витают хлопья сажи.
А на уме догадки нету даже:
в чём я ошибся, в чём я был не прав?
Соединяя небо с грудой хлама,
я истину хотел извлечь упрямо —
не удался чудесный новый сплав.
2
Не удался чудесный новый сплав —
а что ушло трудов, сомнений, муки!
Ведь я вложить пытался в тот состав
цвета и формы, запахи и звуки.
Среди ингредиентов — прель дубрав,
мерцанье волн на медленной излуке,
концлагерная печь и шелест трав,
влюблённый смех и выхлопы базуки…
Мой взор блуждал меж храмов и клоак:
«Не презирай предмета, автор!» — так
я б мог перефразировать Вордсворта.
Но жар был слишком крут, и ничего
из опыта не вышло моего.
Ещё одна надежда напрочь стёрта.
3
Ещё одна надежда напрочь стёрта,
но никому нет дела, как ни плачь, —
ни президенту с теннисного корта,
ни спикеру, гоняющему мяч.
У, завсегдатай модного курорта,
Свободы ты и Гения палач!
(Наверно, после первого аборта
вот так же матерится юный врач.)
Но, Бог ты мой, ведь в этой неудаче
не обвинишь того, кто пьёт на даче,
твои карманы нежно обобрав.
Упреки зряшно в воздухе повисли,
однако же мутит меня при мысли:
ещё одна мечта лишилась прав.
4
Ещё одна мечта лишилась прав,
не воплотившись в слове или деле.
Колонки цифр в клетушках тесных граф
беспомощно поблёкли, омертвели.
У замысла — непостижимый нрав,
он так и рвётся сгинуть в тёмной щели.
Кирка и лом, лопата и бурав
не помогли моей достигнуть цели.
Ну что ж — прощай? Ни пёрышка в руке…
Так бродит провожающий в тоске
средь гулкой толчеи аэропорта.
Увы, вполне знакомая беда!
Всю жизнь, заслышав слово «навсегда»,
я поминал то Господа, то черта.
5
Я поминал то Господа, то чёрта,
к вселенской тьме подмешивая свет,
но вся потусторонняя когорта
мне не дала избавиться от бед.
Я ангелам, трясясь от дискомфорта
душевного, страшился дать обет;
а бесы — те конвой взамен эскорта
наладить норовили мне вослед.
Бессонница, свои расставив сети,
морочила меня, а на рассвете
всегда являлся некий костоправ.
И я, во власти душного кошмара,
дрожа то от озноба, то от жара,
вопил, едва ли голос не сорвав.
6
Вопил, едва ли голос не сорвав,
я, словно бы в горячке абордажа:
вёз золото, ацтеков обобрав,
но псам морей достанется поклажа!
Безмозглая, нарушивши устав,
всё проспала — и вырезана стража;
вот боцман мой, на палубу упав,
остатки растерял хмельного ража.
И мой удел таков же, как ни ной:
«Весёлый Роджер» вьётся надо мной,
и труп мой шевелят носком ботфорта…
Зачем порой такие снятся сны?
Зачем тонуть под пенный вздох волны?
Сколь много может выдержать аорта?
7
Сколь много может выдержать аорта?
Нет-нет да и подумаешь: кранты.
А как иначе в этом виде спорта,
в котором одинок до тошноты?
Взгляд в сторону знакомого офорта
скользнул и замер: сфинксы да мосты —
всё спутано, и даль веков простерта,
рождая чувство полной пустоты.
Зачем всегда слепить стремимся монстра,
в котором бы куски мешались пёстро?
Зачем кадавр засунут в автоклав?
Алхимия дурацкая повсюду!
Нет, больше я склоняться к ней не буду:
за сорок мне — уже не до забав.
8
За сорок мне — уже не до забав.
Пора, мой друг, хоть как остепениться.
Не поздно ли кричать своё «пиф-паф»?
Пойми же: не появится Жар-птица.
Благоразумней, выдержанней став,
мотай на ус: всему своя граница.
Ведь возраст обвивает, как удав,
и всё быстрее мчится колесница!
Да, наступило время перемен,
куда ни глянь — жирует бизнесмен,
а я опять над виршами потею!
Передо мной воздвигнута стена,
и снова не добьюсь я ни рожна —
так, может быть, забыть сию затею?
9
Так, может быть, забыть сию затею?
В какое пекло сдуру я суюсь?
Такое не под силу и Антею,
пусть хоть Геракл составит с ним союз.
Не пожелаю чёрному злодею
принять на грудь такого рода груз!
В который раз от злости сатанею:
всё, полноте! С меня довольно муз!
Их обещанья — фикция и миф!
Но снова зарождается мотив,
и я опять собою не владею…
Меж тем как с оттопыренной губой
советуют мне все наперебой
оставить сумасбродную идею.
10
Оставить сумасбродную идею
и жить, как все, — от сих и вот до сих.
Пусть миражи являются халдею:
известно, что любой провидец — псих.
Сам от себя я искренне балдею:
кого достал мой выморочный стих?
Зачем уподобляться прохиндею?
Полно на свете промыслов простых!
Бывало, поклонялись Гесиоду,
а ныне он до лампочки народу:
разорвана давно столетий нить.
Труды мои — лишь дрязги да мытарства…
Но всё-таки: хоть кто-нибудь пытался
с землёю небо воссоединить?
11
С землёю небо воссоединить
стремятся те, кто метою особой
отмечен: невозможно объяснить,
как заболеть подобною хворобой.
Лети, Пегас, не жмись, что волчья сыть!
Была ли роза жабьею зазнобой?
Не устрашась безумцами прослыть,
мы тщимся красоту свести со злобой.
Удачи не видать, но всё равно
мы то, что знаем, мыслим как одно,
да вот прочна ли упряжь из мочала?
Увы, не может с правдой слиться ложь!
Ты с горечью когда-нибудь поймёшь:
душа с годами разве что мельчала.
12
Душа с годами разве что мельчала.
Приманивая горсткою монет,
дорога под уклон меня прельщала:
мол, будешь сыт, а прочее — во вред.
По счастию, пока что не дожала.
Где камень философский? Нет как нет.
А посему порой себя я шало
веду для сорока с лихвою лет.
Яичница — не то, что Божий дар!
Я снова разожгу в крови пожар,
хоть жизнь по голове ключом стучала.
Пускай меня не чтит ареопаг,
пускай никто, ничто и звать никак,
но я опять готов начать сначала!
13
Но я опять готов начать сначала —
с азов и бук, с безделицы, с нуля,
лишь только б снова музыка звучала
и палуба качалась корабля.
Тех, чья душа не пела, но молчала,
не разбудить, из гаубиц паля.
Грозитесь: не покинешь и причала,
но я вам не букашка и не тля.
Как ни штормило, шёл я всё же прямо,
а разбирая дело Хóлмов Хлама,
вдруг выказал неслыханную прыть!
А главное — себе сегодня новый
я из сонетов сплёл венок терновый…
Мне этого уже не изменить.
14
Мне этого уже не изменить:
по гроб гоняться буду за химерой.
Меня навек смогли-таки пленить
мензурками, огнём, бурой и серой.
Такую смесь хочу я учинить,
чтоб золото черпалось полной мерой,
ну а пока что некого винить —
ведь тот, кто нищ, своей утешен верой.
Банкир зазря хохочет надо мной:
довольствуюсь и коркою ржаной —
не надобно мне кремового торта!
Не ради распрекрасных чьих-то глаз
я этим занялся, но вот те раз —
перекалилась, лопнула реторта.
15
Перекалилась, лопнула реторта —
не удался чудесный новый сплав.
Ещё одна надежда напрочь стёрта,
ещё одна мечта лишилась прав.
Я поминал то Господа, то чёрта,
вопил, едва ли голос не сорвав.
Сколь много может выдержать аорта?
За сорок мне — уже не до забав.
Так, может быть, забыть сию затею,
оставить сумасбродную идею —
с землёю небо воссоединить?
Душа с годами разве что мельчала,
но я опять готов начать сначала —
мне этого уже не изменить.
* * *
У времени — скучный цикадный звук:
занудливое «тик-так».
Что, маятник, хочется сделать круг?
Но скован твой каждый шаг.
Когда замирает твой мерный мах,
даруя на миг покой,
мерещатся мне письмена впотьмах,
вот только язык — какой?
Секунды то вновь ускоряют бег,
то тянутся вспять во сне.
Я в жмурки вожу, почитай, весь век —
кто веки подымет мне?
Хочу наконец я увидеть всех,
кто рыщет вокруг меня,
чей так запредельно заливист смех,
что жжёт на манер огня.
Но лиц не видать, лишь слова слышны,
прогорклые, словно дым:
«Ни Богу, ни бесу мы не нужны,
ни даже себе самим».
Не ждут уже гурии в райский сад,
Иблис не ввергает в дрожь.
Вперед ли подвинулся аль назад —
в повязке не разберёшь.
Уж лучше в открытом сойтись бою,
чем маяться век вот так.
Всю жизнь крокодиловы слёзы лью,
а время зудит: «тик-так»
СпасиБо
Марьяне Высоцкой
Казалось, мелочь, но затем
дошло, взъерошило, прошибло.
Марьяне выдайте патент
на написание «спасиБо».
Пускай подчеркивает Word
разбуженное ею слово,
тому теперь не до зевот —
сияет полным блеском снова.
Его теперь нельзя бубнить —
в нём Бог увиден зорким оком;
оно — связующая нить,
проводка, что опять под током.