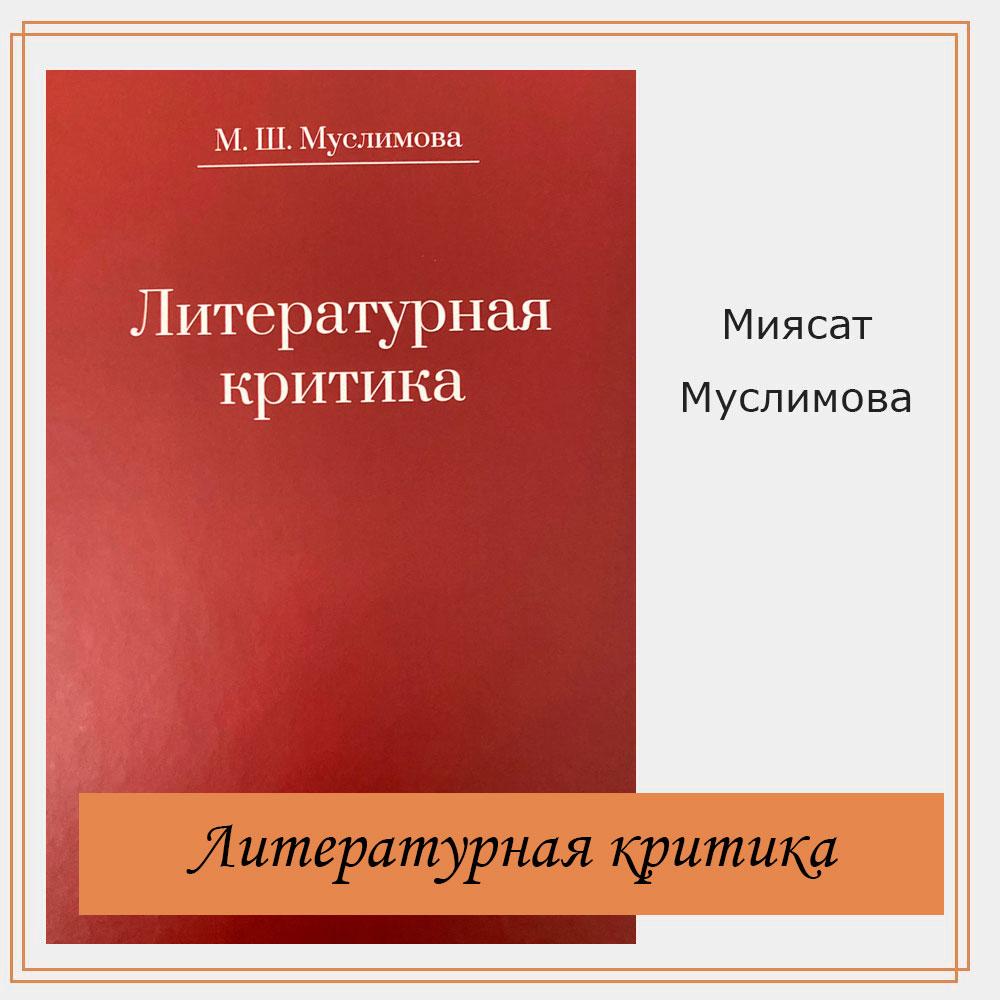-
Жанр: критика
-
Язык: русский
-
Страниц: 9
Чего хочет «Асан»?
В 8-9 номерах журнала «Знамя» за 2008 год опубликован роман Владимира Маканина «Асан». Очень скоро он вышел отдельной книгой. В аннотации издатель не скупится на эффектные рекламные слоганы, презентуя потенциальному покупателю товар, который и без того выгодно продан, став лауреатом национальной премии «Большая книга» в ушедшем году: «Классик современной русской литературы Владимир Маканин «закрывает» чеченский вопрос своим новым романом «Асан». Массовые штампы, картонные супергерои, любые спекуляции по поводу чеченской войны уходят в прошлое. После «Асана» остается только правда».
Лидия Довлеткиреева
Чего хочет «Асан»?
В 8-9 номерах журнала «Знамя» за 2008 год опубликован роман Владимира Маканина «Асан». Очень скоро он вышел отдельной книгой. В аннотации издатель не скупится на эффектные рекламные слоганы, презентуя потенциальному покупателю товар, который и без того выгодно продан, став лауреатом национальной премии «Большая книга» в ушедшем году: «Классик современной русской литературы Владимир Маканин «закрывает» чеченский вопрос своим новым романом «Асан». Массовые штампы, картонные супергерои, любые спекуляции по поводу чеченской войны уходят в прошлое. После «Асана» остается только правда».
Товар, покупатель, выгодно… – не случайный лексический ряд, характеризующий произведение, в котором чеченская и общероссийская трагедия низводится до уровня элементарного торгашества.
Война в Чечне – это бизнес, а герои ее с обеих враждующих сторон – Александр Сергеевич Жилин, Горный Ахмет и другие – те, кто на ней строят свое материальное благополучие. Такая вот нехитрая формула лежит в основе «Асана» Владимира Маканина, представляющего одну из граней войны как ее универсальную онтологическую черту.
«Хозяин войны» – майор Жилин – пользуется авторитетом как у федеральных военных, так и чеченцев. Потомственный строитель именно здесь «невольно превратился в человека, умеющего делать деньги»[1]. А возникло это «рыночное умение» как защитная реакция на всеобщее предательство: русские офицеры Фирсов и Федоров оставили его завскладом в неспокойной республике, чтобы после отдать судить за разворованное оружие или – альтернативный вариант – отдать «чеченам. Пусть его порвут»[2]; друг – чеченец Костыев – бросил на произвол судьбы в самый опасный момент разграбления складов. Что же остается маленькому человеку Жилину, как не самому позаботиться о себе? Щелчок в сознании (без подсказки Бога не обошлось), и спасительная мысль: не воюй – продавай! – преподносится как единственный способ не сгинуть. Включается инстинкт самосохранения. И первая, она же последняя, сделка с оружием становится потрясением. Не потерявший окончательно совести, Жилин не желает делать деньги на крови. А потому найдет оптимальный вариант: торговля горючим – и волки сыты, и овцы целы. Но не надо думать, что это повествование о том, как человек учится выживать в экстремальных условиях и даже извлекает из этого пользу. Ведь Жилин мог преспокойно уйти в отставку и доживать свой век в российской глубинке. Просто он сделал свой выбор. Война становится для него единственным местом в стране, где можно заработать и построить дом на берегу реки, обеспечить будущее жены и дочки. Кстати, идею построить дачку подкинул в тот самый первый миг «озарения» не кто-нибудь, а сам Дуда – мятежный чеченский генерал. Аппетит, как известно, приходит во время еды. И вот уже в планах героя – строительство третьего этажа. Бизнес расширяется, не ограничиваясь продажей солярки своим и чужим. «Гонорары» от Фонда солдатских матерей за посредничество при выкупе пленных, попытка сорвать куш со сделки за известную журналистку… Каждый прожитый на войне день измеряется для него в условных единицах. И сопровождается аутотренингом на самоотстранение: «Война отдельно – ты отдельно. Запомни… ты просто служишь. Ты просто служишь на Кавказе»[3]. Кому и чему служишь – непонятно, как и вся война, цели и задачи которой кадровому офицеру Российской армии неясны, а следовательно, собственная тактика оказывается единственно верной: «Не та война, майор, чтобы бросаться жизнью»[4].
Имя основного персонажа – Александр Сергеевич Жилин; второстепенного – Костыев; употребленное в нарицательном значении Хаджи-Мурат как метафора очередного застреленного боевика – аллюзия на чеченскую тему в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю Лермонтова, Л. Н. Толстого и Кавказскую войну XIX в. как историческое событие. Но ведь и тогда война для русской армии была «не той», т. е. не из разряда справедливых, когда защищаешь реальные ценности – родину, независимость, любимых. И о ней тоже можно сказать словами современного нам майора Жилина: «гнилая война» или эпизодической фигуры – боевика Маурбека: «гнусная штука эта война»[5]. Но спустя век Жилины и Хаджи-Мураты в изображении Маканина измельчали настолько, что превратились в мелких деляг. А героизм (не важно, с какой стороны) вообще не вписывается в картинку, зафиксированную воображением писателя, противоестественен его представлениям о войне в Чечне, а значит, заслуживает только сатирических красок. Потому нелеп, случаен и с перепугу героизм бойца Мудилы Мухина, который изменил ход, казалось бы, проигранного боя: сначала спьяну проспал, мучимый из-за этого угрызениями совести и не поняв, что ранен и остался без глаз, стал вслепую крушить занятого трофеями врага.
О том, что война в Чечне имела и грязную коммерческую сторону, никто не спорит. Многие контрактники не раз открыто признавались, что приезжают поправить свое финансовое положение. На деле это происходило не только за счет так называемых «боевых» и, конечно, бизнес с соляркой здесь вовсе ни при чем. Кустарный бензин всегда был доступен в республике, а в описываемые годы продавался открыто вдоль дорог через каждые десять метров простыми жителями (почти в каждом дворе можно было вырыть яму и получать конденсат). Так что в услугах завсклада Жилина ни боевики, ни федералы, естественно, не нуждались. Другое дело – массовые зачистки чеченских городов и сел, когда «зачищали» от всего: домашнего скарба, украшений, денег… Предметом торга становился и живой товар. Маканин в этом близок к реалиям: вооруженные банды на самом деле приторговывали пленными солдатами, журналистами или сотрудниками гуманитарных организаций. Однако торг был двусторонним. Федералы в свою очередь зарабатывали на заложниках из мирных чеченцев, которых брали на тех же зачистках, снимали с транспорта на блокпостах. После чего люди либо исчезали бесследно, либо попадали в фильтрационные лагеря, откуда возвращались инвалидами, либо их изуродованные трупы находили спустя время, либо их действительно выкупали родственники. Кстати, о трупах – их тоже умудрялись продавать безутешным близким. Обо всем этом писатель предпочитает ничего не знать либо сознательно умалчивает. Если уж возводить войну-бизнес в идею фикс, надо писать не о солярке, а о том, что было на самом деле.
Конечно, никто не вправе требовать от художника стопроцентного совпадения с действительностью, это не документальное повествование. «Мир произведения – это художественно освоенная и преображенная реальность», – размышляет в статье «По ту сторону вымысла» критик Наталья Иванова («Знамя», №11, 2005). Но может ли быть преображение до неузнаваемости? Писатель, избравший для себя реализм как тип художественного мышления, обязан изображать жизнь в соответствии с объективной реальностью. Непременным условием художественности в таких произведениях является узнаваемость вымышленного мира, его соответствие тем закономерностям, которые действуют в жизни, во взаимоотношениях человека и среды. Увидев в войне только бизнес и ничего больше, Маканин слеп так же, как и его герой Мудило Мухин. Кому война, кому мать родная – эта русская пословица не сейчас родилась. Война сопровождается мародерством с древних времен. Это не особенность современных сражений. Во времена Гомера победители грабили, разоряли города и страны, продавали побежденных, обращая их в рабов. Но, кажется, «Илиада» о другом. Одной коротенькой зарисовки, психологического мазка в «Набеге» хватило Льву Толстому, чтобы правдиво передать нравственный распад таких «выгодоприобретателей»: «Казак тащит куль и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю»[6] (курсив здесь и далее – Л. Д.). Это тоже правда войны, писатель ее видит, доносит до читателя. Но не этот солдат и не этот казак становятся героями рассказа. Героико-романтическое представление о войне развенчивается через самоощущение, осмысление ее главным героем – капитаном Хлоповым.
Владимир Маканин не отталкивается от реальности, приподнимаясь над ней, не преломляет ее сквозь призму писательского восприятия, предварительно тщательно изучив и обдумав, а подгоняет под свою теоретическую концепцию. Отбирает те факты действительности, которые лежат на поверхности (телерепортажи о пленниках, выкупах и т. д. довольно часто транслировались по ТВ в связи с чеченской кампанией), доводит их до гипертрофированной величины, возводя в абсолют и закрывая ими те стороны войны, которые требуют глубокого философского, психологического анализа, исторической зоркости и политического мышления, то есть полного, возможно болезненного, но беспристрастного погружения в реальность.
«Правда войны – «рынок. Иначе хаос»[7], – именно эту утрированную установку закладывает Маканин в фундамент выстраиваемого им здания. Весь остальной стройинвентарь подбирается в соответствии с этим посылом. А все, что выходит за рамки предложенной схемы, сознательно отметается.
Концептуальнообразующим ядром становится миф об Асане – языческом боге горцев, заглавном идоле в виде громадной двукрылой птицы: одной рукой воюет, другой – торгует. Возникло божество, по версии одного из героев романа генерала Базанова, во времена прохождения по Северному Кавказу Александра Македонского: когда войско завоевателя загнало чеченцев высоко в горы, те придумали своего героя – Асана, великого полководца, покорителя народов.
Языческий бог войны не дремлет и в конце XX века. Его имя становится главным позывным боевиков. Когда возникают проблемы, они передают по рации зловещее: «Асан хочет крови». Если же с федералами можно договориться: «Асан хочет денег». Таким образом, миф о доисламском божестве Асане вырастает до всеобъемлющей метафоры. А главный герой – Александр, имя которого редуцируется чеченскими стариками до Асан – претендует на роль главного героя войны.
Миф об Асане рассчитан на читателя, имеющего отдаленные представления о фольклоре чеченцев. Именно поэтому никто из критиков, отрицательно или положительно оценивших роман, даже не усомнился в наличии самого мифа. На случай если Фома Неверующий среди них все-таки встретится, по всему тексту разбросаны аргументы «за» и «в пользу» идола Асана. Например, происхождение имени Аслан, довольно частого у чеченцев (как, впрочем, и у кабардинцев, черкесов, ингушей и других народов), преподносится как след имени Александра Македонского наряду с Сандро, Искандер у грузин и абхазов. Хотя достаточно открыть любой антропонимический словарь, чтобы убедиться, что Аслан с Александром никак не пересекается, а является вариантом тюркского имени Арслан, которое переводится как «лев». Имени же Асан вообще нет в чеченской ономастике. Зато оно встречается у таджиков, казахов и означает с тюркского – «красивый». В поисках Асана у чеченцев Владимир Маканин обращается и к топонимике. Названия реки Асса и Ассиновского ущелья он также связывает с Асаном – богом, которого у чеченцев никогда не было. Почему бы не соотнести эти географические названия, например, с возгласом танцора в лезгинке? А дальше обратиться к библейскому: «И после того, как третий голубь вернулся с оливковой веточкой в клюве, Ной распахнул двери ковчега, ступил ногою своею на траву, распростер руки к солнцу и громогласно произнес: «Асса!» Это и было единственное донесенное до нас из тех допотопных времен слово, а вместе с ним передалась кому-то из нас их сила и чистота…». Если учесть, что Ной – пророк во всех трех религиях, признающих единобожие, а, по одному из предположений, самоназвание чеченцев «нохчи» восходит к его имени (в исламе – Нох), изложенные этимологические выкладки относительно Ассы, Ассиновского ущелья и национальнохореографического междометия более логичны. Но вступают в противоречие с авторским замыслом, в который никак не входило облагораживание чеченцев. Мстительный фантом Асан гораздо более соответствует заданной цели. Ведь он как калька ложится на образ чеченца-злодея, сформированный мощной пропагандистской машиной со времен Кавказской войны и заканчивая нынешней Российско-чеченской.
Видимо, без небольшого экскурса в чеченскую мифологию не обойтись. Ведь устное народное творчество любого народа содержит некий ментальный код, который при умелой дешифровке позволяет понять духовные устремления и образ мыслей, присущие данной этнической группе.
«У чеченцев мы встречаемся с двумя противоположными системами богов: с одной стороны, культ предков и народных героев, а с другой – поклонение обоготворенным силам природы»[8], – писал в 1893 году известный исследователь истории, языческих верований и фольклора вайнахских народов Башир Далгат. В первой системе встречались боги (патроны), общие всему племени, или главные, затем – патроны отдельных обществ (нескольких селений) и, наконец, – покровители отдельных аулов или родов. Главные в этой системе – Сели, бог огня, домашнего очага, и Тушоли – богиня деторождения и вообще всякого приплода. Патроны отдельных обществ назывались «ердами»: Пхомат-ерда, Алби-ерда, Мага-ерда, Тхаба-ерда. Наиболее почитаемые из ерд – братья: Амгали-ерда, Тамыжу-ерда, Мятцели-ерда – «боги, следящие за народной жизнью, посылающие все: и пищу, и здоровье, и счастье взамен жертвоприношений»[9]. Был и свой бог войны – Молдзы-ерда. Ему поклонялись в основном ингуши и просили помощи на войне.
В системе богов природы каждый управлял известным явлением, будучи в то же время его олицетворением: Хи-нана – Мать воды; Елта (чеч. – хлеб, зерно) – бог охоты и урожаев, всегда стоит на стороне людей хороших, помогает в охоте и покровительствует нуждающимся; Солнце и Луна также обожествляются, у них есть матери: Аза – Малх-нана (Мать Солнца) и Бета-нана (Мать Луны); встречается в чеченской мифологии и Мать ветров, и бог подземного царства – Эштра (Этера).
Сели – один из древнейших культов чеченцев – выступает одновременно божеством двух систем: культа предков и богов природы. Во второй системе Сели – могущественный бог неба, грома и молнии. «Это самый страшный для них бог и самый капризный, которого больше других нужно бывает умилостивить. <…> Он является карателем всякого, кто совершил или намерен совершить преступное, недоброе дело, по мнению народа. Это самый справедливый судья земной, принимающий близкое участие в жизни чеченцев, выступающий защитником или покровителем исправно приносящих ему жертву и, кроме того, всех слабых (женщин)»[10]. У Сели есть дочь Сата – богиня-покровительница девушек.
Дардза-нана («дарц» в переводе с чеченского – вьюга, метель) устраивает завалы в горах, пугает людей, дерзающих приблизиться к вершине Башлама (чеченское название горы Казбек). «В лице Дардза-наны мы впервые встречаемся у чеченцев с божеством по природе злым, враждебным человеку. Но и она не приносит вреда человеку, угодному Богу»[11].
Последняя ступень пантеона, венец народной мифологии – Верховный Бог – Дэла (Дела). Он всемогущ, творец мира, «поручил богам отдельные отрасли правления, как царь своим подчиненным министрам. Но и сам он неустанно следит за жизнью людей»[12].
Чеченские языческие божества человекоподобны, даже самые грозные из них исполнены благородства и являются виновниками всего благополучия и всего происходящего в мире. Сведения о них содержатся в мифах, дошедших до наших дней (например, «Миф о Сели и дочери его Сели-Сате»), в научных исследованиях известных этнографов (Б. К. Далгата, П. И. Головинского, А. П. Берже, У. Лаудаева, Ч. Ахриева и других), в народных песнях, сказках, пословицах и поговорках, названиях явлений природы, дней недели
или памятников народного зодчества (пIераска – пятница упоминается в древневайнахской мифологии, по сведениям Б. Далгата, как Периска – бог времени; Дэла до сих пор в активном словарном обиходе, на современном этапе развития языка эквивалентно русскому «бог». Например, благодарность выражается идиомой «Дела реза хуьлда» – Да будет доволен Бог; ТкъобIаь-Ерда – христиано-языческий храм в верховьях реки Ассы, букв.: двадцати сотен ерда). Обратим внимание на то, что божество, по общему признанию фольклористов и историков, относящееся к наиболее древнему культу чеченцев – Сели (Стела, Сиела), – в памяти народа, хранителем коей, безусловно, является язык, оказалось наиболее живым. Так, стелаIад (радуга) переводится как «лук Сели», а стелахьаштиг (молния) как «божественная головешка, факел из очага Сели».
Как видим, удобный и важный для романной концепции В. Маканина Асан к реальному пантеону языческих богов чеченцев никакого отношения не имеет. К тому же доисламские идолы были антропоморфны, орнитологических изображений не имелось, как, впрочем, и мутантов. Более того, божество, распространяющее распри, чуждо мифологическим представлениям чеченцев об ответственности за причиненное зло, о гармонии мироздания, в которой боги являют высшую ступень справедливости.
А. П. Берже в работе «Чечня и чеченцы» (1859 г.) особое внимание обратил на фольклор чеченского народа как на драгоценный исторический материал для основательного изучения быта и нравственных особенностей горцев. И без того богатый фолк-арсенал чеченцев не нуждается в «подарках», подобных маканинскому Асану, возможно существующему у какого-либо народа или являющемуся плодом исключительно творческой фантазии автора.
Не имея минимального представления о мифологии чеченцев, ее мировоззренческих ориентирах, писатель с завидным упорством навязывает им кровожадного идола: «Дяла… Галь-Ерда… Сиели… Самые когда-то известные и самые теперь забытые. Так проходит слава… Их нет. Даже в наскальных анналах… Увы! Их никто не помнит. <…> А вот идол Асан остался на слуху»[13], – настаивает он и заявляет, что «Асан хочет крови» – устойчивое сочетание слов в чеченском языке, а «старики-горцы, умирая, иногда произносят эти три слова. Этакий выхлоп подсознания». Чеченские старики, умирая, действительно обращаются к Богу, но не к неизвестному им языческому идолу, а к Всевышнему – с традиционной мусульманской максимой: «Ла иллахIа илла лахIа» (Нет Бога, кроме Аллаха). Противореча себе, писатель подстраховывается: «… сам идол Асан забыт. Нет его. <…> Генерал Базанов докопался. Он знает». То есть чеченцы в конце XX века представлены как народ темный, они свою историю забыли, а просвещенный русский генерал помнит. «В бездонной глубине сознания горцев его имя еще мерцает»[14], – не унимается автор. Понятно, что речь идет о художественном произведении, основной составляющей которого является вымысел. Но вымысел, когда речь идет о конкретном народе, затрагивается его история, менталитет, – недопустим и вреден.
К чему это фальсификаторство? Миф об Асане, если отнести его к чеченской этнопоэтике, становится для писателя тем самым паролем, с помощью которого он вскрывает онтологический метакод народа. Получается, что чеченцы, по Маканину, генетически алчны и жестоки, ведь Асан – это их подсознание, тайная сущность, олицетворение чеченского этноса. Да еще без божества воровства и вражды авторская концепция войны-бизнеса, и без того примитивная, теряет всякую художественную привлекательность. А Асан Жилин оказывается вариацией того самого безымянного толстовского казака-мародера, достойного лишь одной строчки текста, не тянет ни на нового романного героя, каким его окрестили некоторые критики, ни на героя нашего времени, по замыслу самого писателя. Коль у чеченцев нет Асана, им надо его во что бы то ни стало приписать. Если выразиться словами Джордано Бруно, «se non e vero, e ben trovato» (где нет истины, торжествует фантазия). А посему и с историческим материалом незазорно небрежное обращение.
Великий македонец якобы загнал чеченцев высоко в горы. Но пребывание Александра на Северном Кавказе – лишь версия, принадлежащая римскому писателю Курцию Руфу. Еще современники сильно сомневались в том, что он воздавал должное правде[15]. Курций Руф пишет, что армия полководца участвовала в битвах на реке Танаис (древнегреческое название Дона), имеются сообщения о битвах македонских войск при северной стороне Каспийского моря, где стоит древний кавказский город Дербент (приграничный с Азербайджаном район Дагестана). Но ни в одном источнике – историческом и легендарном – даже намека нет на пребывание македонян на нынешней территории Чеченской Республики. Большинство же ученых убеждены, что под Кавказом Индийским, через который пролегал маршрут завоевателя, подразумевается не Северный Кавказ, а современные Афганистан и Туркмения, о чем свидетельствует и карта похода Александра, составленная античным историком Арианом[16].
Предоставим же споры о военной кампании Александра Великого почитателям Клио и вернемся к нашим асанам.
Читатель окунается в атмосферу ложных представлений писателя и о войне, и о психологии воина (с обеих сторон), личности вообще, и об особенностях национального характера чеченцев.
Эпизод с прибытием на вокзал необстрелянного пополнения, открывающий роман, искусственен во всем. И дело даже не в том, что писатель не знает, в отличие от Аркадия Бабченко, воевавшего здесь, что «на вокзал в Грозном сроду никого не привозили – он был разбит в первый же день войны»[17]. Не в том, что молодняк без офицерского сопровождения (очень сомнительная с точки зрения жизненной правды ситуация) – неуклюжая попытка продемонстрировать действительно имевшую место неразбериху в армии, безразличие к солдатским жизням комсостава, военных чинов, а следовательно, и всего государства. Эту же идею обслуживает и техника кинокадра, подчеркивающая заброшенность бедолаг: «На опустевших рельсах… На открывшемся пространстве только и толпились они, новоиспеченные солдаты…»[18] Не в том, что старичок-чеченец с форменной бляхой носильщика на груди на перроне в условиях войны – нонсенс. А в искусственности самой психологической атмосферы в среде салаг: «новобранцы счастливы», «рвутся воевать прямо здесь и сейчас»[19]. Идет не первый день чудовищной мясорубки, на Большую землю один за другим отправляют груз 200, а пацаны маканинские, словно с другой планеты свалились, ничего такого не слышали – им «чеченов» подавай, войну. Писатель осторожен – солдатики-то хмельные. А пьяному, как говорится, море по колено. Однако используемые литературные средства тоже содержат внутренние нестыковки: у пьяной «орды» «такие ясные, такие восхищенные жизнью глаза»[20].
Авантюризм, романтика, брызжущая через край энергия молодости – все это понятно, когда речь идет не о войне в Чечне. Может быть, единицы срочников мечтали о таком «приключении», но в массе-то своей осознавали, что являются «пушечным мясом». Поэтому взгляд ни у пьяненьких, ни у трезвеньких, ни у новобранцев, ни у «стариков» восторженным не был. Поначалу – затравленный, пугливый, а после – опустошенный, усталый: умирать-то, когда жизнь только-только начинается, мало кому хочется. И страховка писателя, мол, «водки нажрались», малоубедительна.
Ощущение неправдоподобия усиливается по мере дальнейшего развития действия. Если в рассмотренном эпизоде – абсолютное непонимание психологии солдата-срочника, оказавшегося на войне, то в следующем – полное незнание законов войны, а также характера и темперамента горцев.
А. Бабченко комментирует торг за пьяных срочников с позиции участника событий: «Ситуацию, когда боевики спускаются к колонне, вместо того, чтобы расстрелять ее из зеленки, нельзя назвать даже гипотетической»[21]. Реально подобные операции проводились без китайских церемоний и дипломатических расшаркиваний, описанных В. Маканиным, – внезапно, молниеносно, на поражение. Не знать этого писатель не мог: расстрел федеральной колонны под Ярыш-Марды и подобные «акции» боевиков широко освещались в СМИ. Но писателю эта правда не нужна, она не вписывается в создаваемую конструкцию. Поэтому сначала противник одаряется комплиментом: «Надо отдать должное чести чеченцев <…> Не торопились отличиться, убивая буйных пьяных»[22]. А затем низвергается с пьедестала: нет, не благородные они ребята, а алчные, денег хотят: «Ачх!» (Кстати, деньги по-чеченски все-таки «ахч». Однако заглядывать в русско-чеченский разговорник увлеченному воплощением своей идеи автору недосуг). И вот уже готовы враги ради вожделенных «ачх» перенести любое оскорбление – открытую демонстрацию голых ягодиц одуревшей от водки солдатни и издаваемые трубные звуки предпочитают не замечать.
Изображение боевиков и вообще чеченцев в романе не только не выходит за пределы сложившегося идеологического штампа, но и направлено на создание негативного представления о всей нации.
Боевики у писателя – сплошь примитивные, подлые, жестокие, жадные – «все они, в общем, были одинаковы. Жутковаты»[23].
Чеченцы-крестьяне – недалекие по уму, как первый информатор Жилина, который вместо того, чтобы сообщать ему стратегические сведения о передвижениях чеченских боевиков, «сливает» в мобильник всякий мусор: «Салавды кашляет <…> Аслан кашляет, у соседки дяди Висхана потерялась в горах коза»[24]. И не потому что не хочет сдавать «своих», просто тупой «недоумок», как все «косить-копать» – именно такое обобщающее наименование получили труженики.
Чеченские рабочие вечно причитают, что нет денег, а «замуж дочкам надо!» Вообще-то, в традиционной национальной этике тема замужества дочери, обеспечения ее приданым для отца – табу вне семьи, в разговорах с посторонними. Но соответствие чеченским обычаям не входило в интересы автора – лишь бы задуманному отвечало.
Чеченские старики в романе – «жалкие», «пахучие», подобострастные, заискивающие, постоянно что-то канючат. Вот из-за частых бомбежек они умоляют генерала Базанова закрыть школу. Во время активных военных действий ни школы, ни другие учреждения не работали не потому, что они получили на то разрешение федерального командования, а потому что жить обычной жизнью, когда взрываются бомбы и снаряды, невозможно. Может ли человек, каким бы далеким он ни был от войны, не понимать элементарного?
А вот очередные пилигримы снимают папахи и держат их в руках в знак уважения – к кому? – к «интендантской крысе» А. Жилину. Дальше – больше: теперь они, стеная, ползают перед ним на коленях (!). И стоит за таким недостойным поведением аксакалов увесистая пачка денег. И это на Кавказе, где уважение к старшим, а отсюда и их высокая самооценка, и чувство собственного достоинства – верхняя ступень этической лестницы!
Писатель усердствует в закреплении в сознании читателя представления о чеченце как о малограмотном, с низким уровнем интеллекта, опасном хищнике. Практически все высказывания о чеченцах, встречающиеся в тексте, готовят именно к такому восприятию представителей этой нации. И потому гротескно-гиперболизированный портрет «воинственных националистов», грабящих склады с оружием, прочитывается уже как метафора всего народа: «Одноглазые. С заячьей губой. Или с росточком едва за метр. И через одного каждый с нервным тиком на лице. И как пугающе дергалась его шея. <…> Трясясь сами, они еще и трясли малограмотными бумажками. <…> Были даже горбуны. <…> Одно плечо выше другого сантиметров на десять. За счет искривленного позвоночника»[25].
Собирательный портрет чеченского народа, на который писатель не жалеет красок на протяжении всего романа, с этической точки зрения не с лучшей стороны характеризует его самого – чем он лучше описанных «воинственных националистов»? С политической –это некорректно, с художественной – фальшиво. А вопрос – чем руководствовался оргкомитет «Большой книги», позиционирующей себя как национальная премия, при выборе победителя? – становится риторическим и рождает следующий: так премия – национальная или националистическая?
И к чему было против такой «убогой нации» выставлять российскую армаду? Применять глубинные бомбы, мощную артиллерию? Ведь достаточно было предложить их лидерам «ачхи» – других правил, следуя В. Маканину, на этой войне нет.
Не мог претерпеть такую глобальную метаморфозу народ, с которым воевал и Лермонтов, и Толстой, открывшие всему миру не трафаретный образ чеченца, эксплуатируемый до сих пор, и не только Маканиным, а чеченца, сильного духом, мужественного, непокорного, страдающего, вынужденного взяться за оружие, так как честь превыше всего. Таким он и останется, потому что «Валерик» и «Хаджи-Мурат» переживут еще не одно поколение Маканиных.
Приведем несколько высказываний, принадлежащих тем, кто сложил свое мнение не на умозрительных теориях.
«Чеченцы, как мужчины, так и женщины, наружностью чрезвычайно красивый народ. <…> Физиономии их, а в особенности глаза, выразительны, в движениях чеченцы проворны, ловки. По характеру очень впечатлительны, веселы и остроумны, за что их называют «французами Кавказа». Вместе с тем чеченцы неукротимы. Выносливы необыкновенно, храбры в нападении, защите и преследовании»[26], – таков портрет чеченцев, составленный А. А. Каспари. Он может показаться несколько романтизированным, но смогли бы чеченцы выстоять под ударами относительно недавней истории – Кавказская война XIX в., неприкрытый геноцид XX в. (депортация, Российско-чеченская война), не обладай они перечисленными Каспари ментальными качествами: жизнерадостностью, выносливостью, мужеством?!
А. Бестужев восхищенно признается: «Я топтал снега Кавказа, я дрался с сынами его. Как искусно они умеют сражаться, как героически решаются умирать!»[27]
И подобных оценок множество. Даже ненавидевший всей душой чеченцев, стерший с лица земли не один аул, признававшийся, что не успокоится до тех пор, пока своими глазами не увидит скелет последнего чеченца, генерал Ермолов и тот отдавал должное истине: «Чеченцы – сильный народ»[28].
Сама ситуация со складами в романе также не соответствует правде. В 1991 г., за три года до начала войны, дислоцировавшиеся на территории республики военные части спешно покинули свои гарнизоны. Естественно, это могло произойти только по приказу сверху. Несмотря на начавшийся развал Союза, дисциплина в армии по инерции еще сохранялась. Ничто не могло воспрепятствовать вывозу арсенала, ведь население на тот момент было абсолютно безоружным, а приехавший из Прибалтики генерал Дудаев еще не имел достаточного веса и сторонников. Оружие было оставлено намеренно. И, по закону жанра, оно должно было выстрелить. Так был разыгран пролог драмы, сценарий которой изощренно разрабатывали режиссеры военного спектакля. Они учли все: культ оружия в среде горцев, вековую устремленность к свободе, историческую память, на которой благодатно взрастут брошенные семена раздора, ослабленность страны из-за коренной ломки государственного строя, другие факторы. Война на Кавказе как отвлекающий маневр от происходящего в стране политического и экономического передела, как «трусливое бегство от проблем мирного времени»[29]. Всем известно, какую кровавую цену заплатили за свою наивность чеченцы и свое равнодушие и легковерие остальные россияне. Наиболее точное определение даст войне еще в 1994 году политик Саламбек Хаджиев: «Криминальная Россия воюет с чеченским народом». Имеются в виду, конечно, не мелкие деляги типа маканинского Асана Жилина.
Художественного осмысления действительной трагедии в романе нет. Есть однобокое представление о войне, апологетом которого является языческое божество воровства и ненависти. И к нему протянуты все белые ниточки: идеи, персоналии, эпизоды, безыскусные образные средства… Перед нами проходит вереница действующих лиц – слепков Асана, главный из них – Жилин, остальные – его двойники: Николай Гусарцев, Руслан, Рослик, боевик Абусалим… Даже Хворь – «интуитивный проводник колонн», «заговоренный», которого отправляют «по тем самым опасным маршрутам, откуда назад не возвращаются. А капитан возвращался. <…> И с подобранными ранеными»[30] – тоже Асан, ведь зовут его Александр.
Пренебрегая глубоким реалистичным творческим анализом действительности, Владимир Маканин идет простейшим путем: для придания достоверности использует внешние атрибуты: точную привязку к местности (роман пестрит чеченскими географическими и административными названиями, зачастую искаженными); мимолетное упоминание реальных фигур чеченской кампании (Рохлин); художественную интерпретацию смерти Дудаева – «его подставил, предал собственный мобильный телефон»[31]; измененные, но легко узнаваемые фамилии – Шуманов (Шаманов), Трошин (Трошев), Удыгов (Удугов), Дубровкин (частичная анаграмма: Буданов); гибель «генерала ништо» Базанова «на знакомой дороге» – намек на теракт в грозненском тоннеле против генерала Романова; пошлое смакование истории с выкупом известной журналистки, в которой и по портрету, и по сарказму в отношении ее коллег с оппозиционного тогда канала угадывается корреспондент НТВ…
Но все перечисленные и прочие потуги привнесения реалити-шарма картине, далекой от реальности, оказываются непродуктивными, когда художник имитирует жизнь. Более того, они создают обратный эффект, обостряя ощущение бутафорности романного мира.
Контуженные солдатики Олег и Алик, солдатская мать Анюта в настоящем, а не искусственном повествовании о войне в Чечне могли бы стать персонажами, через которые, при наличии тонкого психологизма, читателю открылась ее истинная отвратная сущность. Но в данном действе они всего лишь исполняют роль статистов.
Помимо того, что сюжетная линия двух контуженных неуверенно поддерживает композиционный скелет романа, она также работает на идею романа: война – лишь бизнес, человеческим чувствам на ней нет места. Жалость к «лупоглазым» стала «ахиллесовой пятой» бога войны Жилина: спасал их и от них же принял смерть – очень киношный финал, украшенный деньгами, расстеленными по траве.
Неоправданна и манера повествования с постоянными сбивками с третьего лица на первое, а то и одновременно – от обоих лиц, как-то: «Майор Жилин знал своих (Я знал)». Прием, вроде бы, объясняется устами героя: «И, как всегда в минуту опасности, я перестал видеть себя (и ощущать себя) майором Жилиным – просто «я»[32]. А в кульминационный момент (гибель Жилина) автор опять противоречит себе, повествуя от третьего лица, хотя направленный на Александра Сергеевича автомат контуженного солдата – ситуация более чем опасная. Вряд ли неумелая манипуляция с лицами связана с тем, что автору с самого начала известно: герой умрет, не может же мертвец описать свою смерть. Но в литературе множество примеров обратного. Относительно свежий образец: прием рондо, использованный Ясмином Хадра в романе «Теракт»[33], когда главный герой описывает свою смерть в начале и в конце повествования, причем столь натурально, что никаких сомнений не возникает.
Обычно повествование от первого лица позволяет максимально снять барьер между читателем и героем, придавая исповедальность, открытость, а следовательно, вызывая ответное доверие реципиента. Здесь же – не это главное. В. Маканин таким образом снимает с себя часть ответственности, прячется за высказываниями своего персонажа: мол, это не я, это в восприятии Жилина такова военная реальность.
«Война», «насилованные» (пленные солдаты, их матери, солдатики на складах, заложница-журналистка), «Восток» (базар ведь все это) – наиболее частотная лексика, выполняющая роль 25-го кадра. Чтобы не забывали, что речь идет о войне-рынке. Вот и набивает писатель оскомину, чуть ли не в каждом абзаце повторяя – «война»: «Временами наш с ним бизнес опасен, война!»; «Ранить могут каждого, война!»; «Но что поделать, дорогой, война!» и т. д.
Стиль изложения с уменьшительно-ласкательными суффиксами призван, очевидно, на языковой ткани показать мелочность происходящего (старичок, книжонка, женушка, солдатики, офицерики, грузовичок, собачонка, юморок, чувствишечко…). Но вместо этого бесконечные -ок-, -ушк-, -енк-, -ик- придают кряхтящий, стариковский, нединамичный темп описаниям.
Некоторые литературные приемы – за гранью нравственности. Как план с вертолета – иллюстрация фантасмагорической действительности: спасающиеся от бомбежки десяток детей-калек ползают по дорге, «кто без руки, кто без ноги», «жуткий и страшный выползок»[34].
И все это, не считая всевозможных неточностей, которыми напичкан роман (Промысловский район Грозного вместо Старопромысловский, северо-осетинский Моздок, названный чуть ли не «чеченской глубинкой»[35], мобильная связь в Чечне в 90-е гг. (!))
Концепция, построенная на несуществующем у чеченцев языческом божестве Асане; ложное и одностороннее понимание закономерностей войны; отсутствие философского и психологического анализа действительности; вызывающая отторжение оскорбительная с морально-этической точки зрения подоплека произведения; неполноценность и внутренний конфликт применяемых методов; всевозможные штампы; отсутствие разноплановых, «живых» лиц, а вместо них – клонированные Асаны; легкость, с которой совершенно неподготовленный автор, заблуждающийся искренне или намеренно, берется за столь болезненную для общества тему – все это в совокупности создает полную антихудожественную составляющую романа.
В интервью «Газете» В. Маканин объясняет, почему он взялся за «чеченский вопрос»: «В свое время я написал рассказ «Кавказский пленный». У него была необычайно счастливая судьба, он был переведен во всех странах очень скоро. <…> И у меня, конечно, сохранилось ощущение этой удачи»[36]. То есть честолюбие, творческая амбиция, а не боль, без которой невозможно правдивое высказывание о войне, подвигли к созданию «Асана».
Восторженный рецензент Лев Данилкин отмечает: «… применительно к этой войне «толстовская матрица» уже не работает»[37]. Но что значит «толстовская матрица»? Это отказ от романтических традиций в изображении картины боя; это реальное лицо войны, жестокость, бесчеловечность; характерные детали, раскрывающие состояние отдельного человека в бою; проникновение в сущность человеческих отношений; постижение трагических противоречий в жизни; это отрицание войны как явления резко враждебного человеку, дисгармонизирующего с силой вечно живой и прекрасной природы; это обращение к человеческому в человеке – поверх расового, сословного, этнического. Это рассказы «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный», повести «Казаки», «Хаджи-Мурат», «Севастопольские рассказы», которые и сейчас дают ключ к пониманию не только Кавказской или Крымской войн XIX века, но и войн современных – человек-то остался прежним по своей сути, а война – колониальная ли, отечественная или «другого типа» – все равно несправедлива (и это главный закон любой войны), потому что «воевать справедливо нельзя, даже если воюешь за справедливость»[38].
Владимир же Маканин предлагает вольную интерпретацию войны, о которой ничего не знает и не пытается узнать. Перестав быть в этом романе художником и мыслителем, он руководствуется древним испытанным принципом: semper aliquid haeret – что-нибудь да приклеится.
[1] Маканин В. Асан. Роман // Знамя. 2008. №8. С. 67.
[2] Там же. С. 116.
[3] Там же. С. 22.
[4] Там же.
[5] Там же. С. 28.
[6] Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х т. – М.: Художественная литература, 1979, Т. 2. С. 26, 27.
[7] Маканин В. Асан. Роман // Знамя. 2008. №8. С. 33.
[8] Далгат Б. К. Первобытная религия чеченцев и ингушей. – М.: Наука, 2004. С. 99.
[9] Там же. С. 140.
[10] Там же. С. 167, 168.
[11] Там же. С. 159.
[12] Там же. С. 173.
[13] Маканин В. Асан. Роман // Знамя. 2008. №8. С. 74.
[14] Там же. С. 38.
[15] Фишер-Фабиан С. Александр Великий. – Смоленск: Русич, 1998. С. 216.
[16] Там же. С. 235.
[17] Бабченко А. Фэнтези о войне на тему «Чечня» // www. artofwar.ru
[18] Маканин В. Асан. Роман // Знамя. 2008. №8. С. 13.
[19] Там же. С. 15.
[20] Там же. С. 14.
[21] Бабченко А. Фэнтези о войне на тему «Чечня» // www. artofwar.ru
[22] Маканин В. Асан. Роман // Знамя. 2008. №8. С. 21.
[23] Там же. С. 19.
[24] Там же.
[25] Там же. С. 114, 115.
[26] Каспари А. А. Покоренный Кавказ. Очерки исторического прошлого и современного Кавказа. – СПб. 1904г.
[27] Цит. по: Казиев Ш. Имам Шамиль. – М.: Молодая гвардия, 2001. 191 с. // read.newlibrary.ru
[28] Записки А. П. Ермолова. 1798–1826 гг. – М.: Высшая школа, 1991 // militera.lib.ru
[29] Томас Манн // Душенко К. В. Большая книга афоризмов. – М.: Эксмо, 2004. С. 120.
[30] Маканин В. Асан. Роман // Знамя. 2008. №8. С. 83.
[31] Там же. С. 130.
[32] Там же. С. 18.
[33] Ясмина Хадра. Теракт. Роман // Иностранная литература. 2008. №8. С. 3 – 114.
[34] Маканин В. Асан. Роман // Знамя. 2008. №8. С. 47.
[35] Маканин В. Асан. Роман // Знамя. 2008. №9. С. 57.
[36] www.gzt.ru/culture/2008/11/19/223022.
[37] Данилкин Л. // www.afisha.ru
[38] Тадеуш Котарбиньский // Душенко К. В. Большая книга афоризмов. – М.: Эксмо, 2004. С. 121.