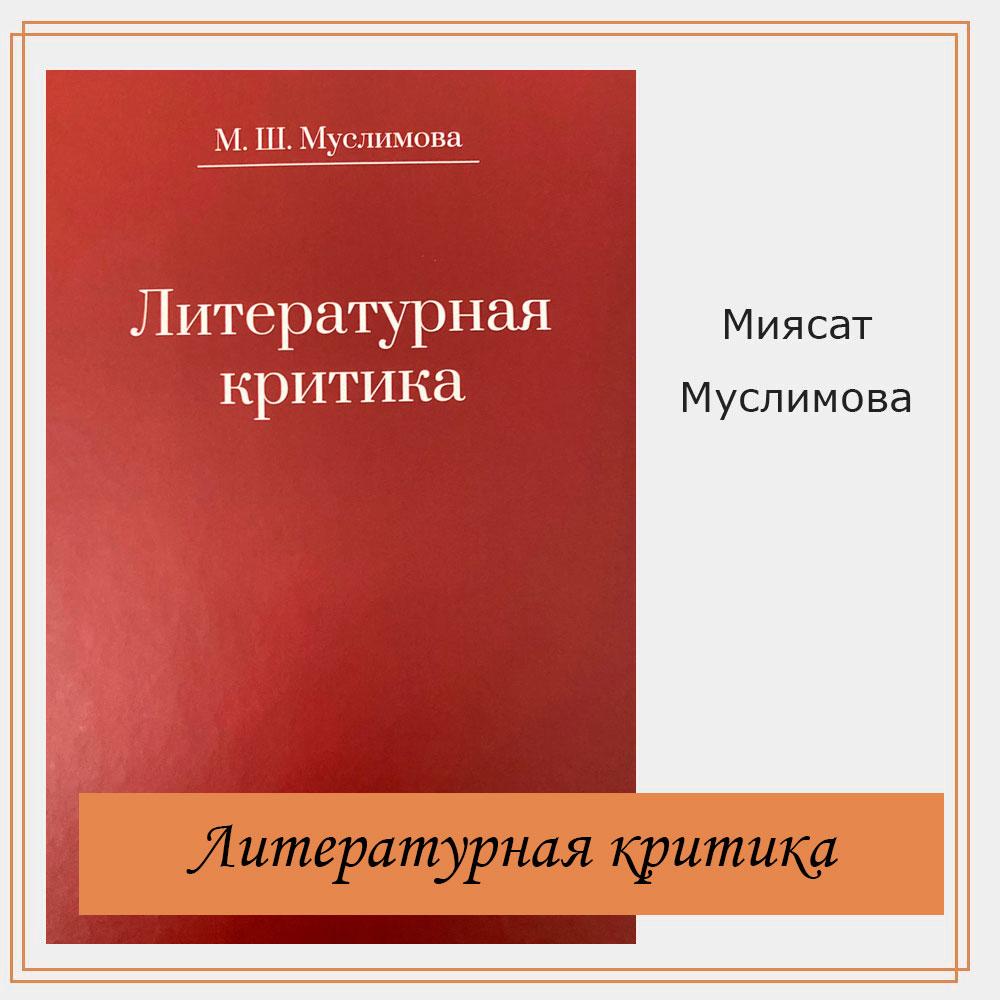-
Жанр: поэзия
-
Язык: русский
-
Страниц: 123
Мурадин Ольмезов
ВРЕМЯ, СЖАТОЕ В ТОЧКУ
•
Тайна времени
в камне сокрыта.
Нет мгновенья,
чтоб шло в одиночку.
Кто не видел
осколков гранита?
В каждом –
время спрессовано в точку!
Мурадин Ольмезов
ВРЕМЯ, СЖАТОЕ В ТОЧКУ
•
Тайна времени
в камне сокрыта.
Нет мгновенья,
чтоб шло в одиночку.
Кто не видел
осколков гранита?
В каждом –
время спрессовано в точку!
Стихи
Перевел с балкарского
Георгий Яропольский
ВМЕСТО БИОГРАФИИ
Родители мои, как все балкарцы,
подверглись Сталинскому геноциду:
их с высочайших гор Кавказа разом
в пустынные изгнать посмели степи,
где и родился я – считай, в неволе.
Никто рожденья даты не запомнил:
родителям до этого ли было,
вседневными трудами изнуренным,
измученным бичами издевательств?
Мать говорит, что я родился в пору,
когда сажали сахарную свеклу.
Мне пуповину резала Чину,
недавно умершая повитуха,
чья долгая и тягостная жизнь
все ж не дала дождаться мужа с фронта.
С тех самых пор меня передает
ночь дню, а день – опять вручает ночи,
все происходит как по расписанью,
под пенье петухов и под охраной
суровых стражей, черных или белых,
я чувствую себя как заключенный
в наручниках и кандалах ножных,
и о побеге речи быть не может.
Так продолжается и по сегодня:
ночь дню меня передает, а день
меня поспешно ночи возвращает.
Куда ж попасть из ночи, как не в день!
Ну, разве лишь в объятья вечной ночи…
Вот так я и живу, как и родился, –
в неволе, в заточенье, под надзором.
Но все-таки лелею я надежду,
что где-то существует вечный день
(а почему не может день быть вечным,
коль достоверна сущность вечной ночи?)
и я туда когда-нибудь проникну.
Потери и обретения
Я однажды
себя потерял.
Средь людей
я искал себя долго…
Но нашел,
как ни странно,
средь птиц.
•
– Ты,
по скалам карабкаясь,
лезешь все выше,
безрассудный,
рискуешь ты в пропасть сорваться,
но – зачем?
Чтобы новой достигнуть вершины,
покорить новый склон,
до тех пор неприступный,
и за это
похлопать себя по плечу?..
– Нет.
По скалам карабкаясь,
лезу все выше
и рискую в смертельную пропасть сорваться,
я затем,
чтоб суметь
дотянуться до звезд!
Зависть
Камень
к дереву зависть питает,
потому что не может расти.
Ну а дерево
стать речкой хотело б:
та течет – сколько ж видит она!
А вот речка
завидует ветру –
тот летает по воле своей,
не стесненный границами русла.
День Звезды
Скоро, скоро
дотянется Ушба
до висящей над нею звезды
(этот день
Днем Звезды зваться будет)
и вручит ей в подарок
не камень
драгоценный из самого сердца,
но живой эдельвейс –
от души.
Гнев
Взглянув в огонь,
я дерево увидел,
которое приют
дарует птицам,
но осенью,
разгневавшись,
их гонит,
швыряя россыпь листьев
им вослед.
Взглянув на реку,
я вдруг дождь увидел,
который щедро
насыщает землю,
измученную засухой,
но в гневе
дома несчастных
может напрочь смыть.
Взглянув на камень,
я увидел искру.
Огонь ли в очаге
она сумеет
разжечь,
чтоб защитить меня от стужи?
Или – спалит жилище,
впавши в гнев?
Ушедший в небо
Вновь –
черный день.
Опять погиб мой друг.
Еще один
сорвался со скалы…
А он любил
взрывное слово
«вдруг»,
всю жизнь любил он
острые углы!
Не надышавшись
воздухом высот,
он, падая,
прощальный бросил взгляд
на мир внизу,
где нечисти – почет,
где каждый дышит затхлостью болот,
где страх в душе у каждого живет,
где думают лишь то, что им велят.
А в мире скал –
такая чистота!
Таким бесстрашьем
веет все вокруг!
Его всю жизнь
влекла лишь высота,
таким он был,
ушедший в небо
друг.
•
Остановился б вовремя, художник!
Ну кто же продолжать тебя неволит?
Первоначальный замысел ты губишь
усердием излишним.
Ты на страницах жизни нас рисуешь,
мешая щедро радость материнства
и радуги цвета со звездным светом,
но точки не поставишь.
Остановился б вовремя, художник!
Ну кто же продолжать тебя неволит?
Первоначальный замысел ты губишь
усердием излишним.
Ты на страницах жизни нас рисуешь,
смешать умея молнии стремленье
с великолепной музыкой цветочной
на солнечных полянах.
Остановился б вовремя, художник!
Ну кто же продолжать тебя неволит?
Первоначальный замысел ты губишь
усердием излишним.
Ты на страницах жизни нас рисуешь,
мешая грустной старости морщины
с ночною тьмой, глухой, немой, холодной, –
к чему нам эти краски?
Остановился б вовремя, художник!
Ну кто же продолжать тебя неволит?
Первоначальный замысел ты губишь
усердием излишним…
Тропинка на небо
Такой мороз, что звезды коченеют.
Озябшие лучи ко мне стучатся
в окно, и я, конечно, открываю.
Я говорю им: «Милости прошу,
гостям издалека я рад, входите,
скорее проходите к очагу».
Держу застолье с ними до рассвета –
мы пьем бузу и говорим о разном:
они ведут беседу по-балкарски,
я говорю на звездном языке.
А на прощанье тайную тропинку
одна из них на небо мне покажет
и пригласит захаживать к ней в гости,
в чем я, пожалуй, ей не откажу.
Зеркало
Зеркало состарилось
и больше
не смеется звонко, как когда-то.
От него улыбки не дождешься –
глаз бездонных родники иссякли
и мутны от скорби и печали.
Кожа, прежде гладкая, в морщинах,
что твоя древесная кора.
Зеркало состарилось
и дремлет,
дремлет дни и ночи напролет.
А во сне, наверно, видит детство,
юности орлиный видит взлет.
Зеркало состарилось,
и что же?
Зубы поредели, а на пряди
изморозью пала седина.
Почему же зеркало, бедняга,
не себя жалеет,
а меня?
•
Красавица знакомая все чаще
пугается у зеркала: морщинки
в нем множатся, как трещинки в стекле,
ее туманя светоносный лик.
А дочь ее подросшая все чаще
у зеркала постаивает, видя,
как лунным светом груди набухают,
готовые подобьем белых роз
раскрыться.
Но вот бабушка и вовсе
пренебрегает зеркалом, в котором
ведется неотступно наблюденье
за всем, что происходит у них в доме.
Она-то знает: то – колдунья злая,
которая, заворожив однажды,
навек твоей душой завладевает,
а тело, словно старую собаку,
безжалостно прочь гонит со двора.
•
Взяв на ладони
с холодного неба,
звездочку зябнущую обогрел я
жарким дыханием.
(Так согревают
ручки любимым,
когда они мерзнут.)
Что же случилось?
Лучи золотые
стали длинны,
как ресницы любимой.
Мягко с небес мне она улыбнулась,
взор мне напомнив,
в сердце хранимый.
•
Эльбрус наш
сложен из упавших звезд.
Когда же научились предки ткать
из лунных нежно-трепетных лучей –
озера Голубые появились.
90%
Как облако в дождь превратится,
так дерево станет огнем.
Дождинки вновь облаком станут,
вот только огонь никогда
зеленую сень не раскинет…
А в наших с тобой организмах
воды девяносто процентов,
и, стало быть, нам возвращаться
положено снова и снова –
дождем, облаками ли, снегом!
•
На ладонь ко мне птица спустилась.
«Стань таким же, – она попросила. –
Ведь душа твоя, знаю, крылата,
а в глазах твоих – отсвет небесный».
Отказался.
Крылатость мечтаний
не оспорил, но вот утвержденье,
что глаза у меня голубые,
счел насмешкой.
Она улетела.
«Знаешь, странно, –
сказала в тот вечер
мне любимая. – Я замечаю,
что порою из глаз твоих карих
синий свет
излучается вдруг».
Ветер
Там, где струится свет,
лечь тень должна.
Для света смерти нет,
и тьма вечна.
Изнанка жизни – смерть,
а люльки – гроб.
Изнанка ласки – плеть,
циклопа – клоп.
Изнанка правды – бред,
сиянья – мрак…
Но вот у ветра нет
изнанки, так?
•
В кромешной тьме, безбрежной тьме, безмерной
иду на ощупь.
Руки так раскинул,
как будто бы ступаю по канату,
как будто обратятся руки в крылья
в тот миг, как из-под ног уйдет земля.
Иду…
Хотя б одну звезду увидеть!
Иначе растворюсь я в этой тьме.
•
И падал снег…
И мальчик чуть не пел
от радости: ведь снег, как сахар, бел!
Коня седлает парень молодой:
«Снег мягок, как возлюбленной ладонь!»
«Снег сед, как я, как старый человек», –
вздохнул седой старик.
…И падал снег.
Зеркало к зеркалу
1
Заплачет под грохот двуствольный
олень, как порой – человек.
Как людям, и горько и больно
вершинам, теряющим снег.
Бежит ручеек суматошно,
как бегаем мы по делам.
Деревья растут – они тоже
подобны и родственны нам.
Как мы, светят звезды – их гроздья
бесстрашно сияют средь тьмы,
а камни, идя на надгробья,
скорбят и тоскуют, как мы.
2
Я плачу – ошибся я в друге,
как плачет подранок-олень,
и кто разберется – в разлуке
вершине ли, мне ли больней.
Бегу, как ручей, спотыкаясь
о камни, бурлю и киплю,
тянусь, бурелому на зависть,
как дерево, к свету, теплу.
Как звезды в ночи, я сверкаю,
но если сгорю до поры,
то горько мне станет, что камню,
летящему в омут с горы.
•
Лишь в будущем и настоящем
есть подлинность, а что прошло,
вслед за собою не утащим:
его пушинкой унесло.
Вот, кстати, что вчера-то было?
Не сгинуло ли все во сне?
Под вечер, помню, подарила
цветочница улыбку мне.
Исчезла, что ли, вроде грезы?
Перевернул почти весь дом –
и лишь тогда в бутоне розы
я отыскал ее с трудом.
А что еще? Да все, пожалуй…
Бросаюсь я к календарю:
прощай, вчера, товар лежалый!
Себя дню новому дарю!
Но настоящее несется
в прошедшее – не потому ль
ничем не скованный ход солнца
страшит нас, точно посвист пуль?
Не потому ль Сахара, сочных
растений некогда полна,
по прихоти часов песочных
теперь – песчаная страна?
Лишь в будущем и настоящем
есть подлинность, а что прошло,
то ветром времени гудящим
прочь паутинкою смело.
Но с нами ль нынешнее время,
когда (зови их, не зови)
скрываются его мгновенья –
встревоженные муравьи?
Лишь в будущем – исток восторга!
Все остальное – грезы, бред…
Цари же, будущее! (Только
того, что будет, тоже нет.)
•
Дождь проходит торопливый –
и уносит часть меня.
С ветки лист летит на землю –
и уносит часть меня.
Журавли вдали курлычут –
и уносят часть меня.
Каждый времени отрезок
забирает часть меня;
ветер, дерево ли, птица –
все уносит часть меня;
сны, вы тоже по крупицам
разбираете меня…
Но пока – я буду падать
вместе с каждую звездою!
И взмывать в нагое небо
вместе с каждой птицей буду!
Да – покуда не растаю
как туман, как сновиденье!
Слова на ветер
Сколько слов я убил ни за что
за те годы, что прожиты?
Улей?
Или десять?
А может, все сто?
Те слова, что сказал просто так, –
словно дождь над бесплодной пустыней,
словно зерна, что всходов не дали.
«Я люблю тебя», – в шутку сказал –
и три слова безвинно убиты.
«Не волнуйся, дружище, улажу», –
так сказав, позабыл обещанье.
«Непременно приду, дорогая!» –
и опять же не сдержано слово…
Те слова, что сказал просто так, –
это осы, что жала вонзают
не в других, а в себя, без пощады.
(Точно так, в западню угодив,
убивают себя скорпионы.)
Под ногами не листья шуршат –
это трупики слов умерщвленных.
Очень скоро костры запалят –
и развеется прах их по ветру.
Отмщение
В огромном доме
с окнами в решетках,
с массивными железными дверьми
все стало пропадать:
столы и стулья,
ковры, картины,
золото и деньги…
И люди – тоже.
Ровно через месяц
дом опустел:
в нем больше ни вещицы
и ни души.
Еще же через месяц
на месте дома
лишь одно трюмо
под моросью осенней холодело,
подобное печальному надгробью
в небытие скатившемуся дню.
Когда бы не настенные часы,
что тикали в бесплотном зазеркалье,
идя в другую сторону,
никто бы
не смог узнать,
чтó здесь произошло.
В один из дней
рассыпалось стекло
на мелкие осколки,
из которых
одна слезинка выкатилась.
То
была слеза невинного ребенка.
Тяжкая ноша
Взвесь
слезу сироты…
Есть ли ноша на свете,
что тяжче?
Эта капля соленая
неба огромней,
весомей земли.
Умирающий дом
Ревет Баксан, и Андырчи-скала
взмывает к небу так же, как бывало,
но, словно век, минута тяжела
для дома умирающего стала.
Здесь никаким подпоркам не помочь,
вся крыша прохудилась, набок свесясь,
с опаской сквозь сгустившуюся ночь
заглядывает в дом печальный месяц.
Живет хозяин в городе давно.
Как бельма, паутина застит окна.
Здесь смех звучал, здесь пенилось вино –
но память о том времени поблёкла.
Весь двор порос крапивой, лебедой,
и кажется, вот-вот, в волненье диком,
крыльцо, такой пришиблено бедой,
от дома убежит с протяжным криком.
Тропа же, что то радость, то печаль
к порогу приводила то и дело,
уже давно, скуля, уходит вдаль –
собакой, что навек осиротела.
Не возвратить ушедшего навек…
Дом старый – точно старый человек.
Немая девочка
Во дворе, где остывают тени
истомленных знойным днем деревьев,
девочка играет, черноглаза,
девочка танцует, черноброва.
Птицы, словно дождь, на землю льются,
но ее молчания не нарушат;
бабочка – порхающая радость –
у нее не вымолит словечка.
…Бедные трепещущие руки –
те, что перед зеркалом впервые
девушку расцветшую укроют,
девушку заплаканную спрячут!
Цветы
По зеленой лужайке
девчонка бежит.
Ее радостный смех разноцветен,
как букетик цветов
у нее в кулачке.
Майской улицей
девушка споро идет,
и улыбка ее лучезарна,
словно розы,
что нежно прижаты к груди.
Под неоновым светом
девица стоит,
сеть любовную снова сплетая
из неверных лучей
подгулявшей луны.
Приторочена роза
к холодной груди –
то, понятно, бумажная роза,
да, фальшивая роза,
как сердце ее.
На асфальте
понуро старуха сидит,
ей в ладони стекают монеты –
это слезы ее,
что иссохли давно.
О цветах
речи нет и в помине.
•
Дождь оставил
прозрачную лужу
с краем облака,
в ней отраженным
рядом с веткою вишни
зеленой,
и на ней
задремал ветерок.
Эта лужа
была бы стеклянной,
не найди в ней приют
лягушонок,
пучеглазый
и гордый собой.
•
Прозрачно утро.
Луг покрыт росою.
Застыв
на пламенеющей гвоздике,
спит бабочка.
Как бархат, ее крылья.
Лишь тишину
я вижу пред собою.
Повсюду слышу
только тишину.
•
Суровые снежные скалы –
навеки застывшие волны
в недвижимом кружеве пены…
Все это – прошедшее время.
Взлететь возжелавшее море,
как крылья, воздевшее волны,
чья пена кружится, мерцая, –
вот ты, настоящее время.
А небо, где звездные реки
со скоростью света пронзают
ракеты, ведомы мечтою,
мы будущим временем значим.
Слеза
Земля задрожала…
Утес обвалился?!
Земля задрожала…
Обрушились скалы?!
Земля задрожала…
Не гром ли грохочет?!
Нет.
Просто
на землю
упала
слеза.
•
Наглые
хищные птицы
зависти,
подлости,
злобы,
алчности,
хитрости,
лести, –
вместе с огромною птицей,
птицей взъерошенной страха
гнезд своих
вы не совьете,
нет, никогда не совьете
гнезд
в этой кроне ветвистой…
Птица любви вдохновенно
здесь
песню розе слагает –
значит,
вам рядом не место,
так что
летите-ка прочь!
•
Весь мир засыпает…
Весь мир утопает во мраке,
и я со вселенной
один на один остаюсь.
Один на один –
а быть может, один во вселенной.
Гор белых – и тех
не видать средь кромешного мрака,
и гул водопада рокочущий
тоже исчез.
Один во вселенной,
так стиснут я плотною тьмою,
так сжат темнотою,
что сам начинаю светиться!
А что, разве звезды не люди,
не братья мои?
Святой
Шел человек,
и тень за ним шагала.
Спешил он,
и бежала тень вослед.
Шел долго человек,
и тень, шатаясь,
молила
подождать ее немного.
Шел человек без тени,
и все люди
кивали понимающе:
святой.
Измученная тень его,
в лохмотьях,
со сбитыми и стертыми ногами,
решила
дожидаться человека –
ведь должен он вернуться
в дом родной?
Но человек
не думал возвращаться,
и под лучами
яростного солнца
тень умерла,
как раненая птица.
А люди полагали –
он святой.
•
Река, устав
все течь да течь,
взлететь хотела б
в поднебесье,
махая
крыльями-волнами.
А дерево,
устав стоять,
хотело б
вырвать свои корни
и побежать,
помчать за ветром.
Уставший от молчанья
камень
хотел бы,
хохоча,
плескаться
в воде,
как женщина нагая.
А я,
устав от нищеты,
хотел бы
банк суметь ограбить,
чтоб жажду жизни
ощутить.
Война
Доводилось
взглянуть в глаза птице,
у которой
обрезаны крылья?
Доводилось
бродячей собаке
посмотреть хоть однажды
в глаза?
А в глаза
не смотрели ребенку,
от которого
мать отказалась?
Замолчите тогда!
Не твердите,
будто выигран бой
беспощадный –
тот, который
ведется с собою, –
и что нет в этом мире
войны!
•
Камень птицей
хотел бы родиться
и спустя десять лет
умереть.
Камень деревом
стать бы хотел,
чтобы рухнуть
столетье спустя.
Камень с радостью
стал бы рекою,
через тысячу лет
пересохнуть.
Но ни птицей,
ни деревом
камню
не бывать.
Не бывать и рекою.
Камень сам –
время,
сжатое в точку.
•
Как-то звездочка,
с неба упав,
задыхаться в безветрии
стала.
Как птенца,
я ее подобрал,
осторожно подбросил
на небо.
Пожила она
в звездной семье,
и теперь ее крылья
окрепли.
Каждый вечер
ко мне на плечо
эта звездочка
с неба слетает.
И щебечет мне песню
свою,
свою звездную песню
щебечет.
Всякий раз,
когда слышу ее,
понимаю,
что счастье безмерно.
•
В эту лунную ночь
не одни лишь лягушки в пруду
заливаются –
звезды
сегодня им вторят усердно.
•
Жизнь – утоленье вечной жажды.
Что будет, коль она пройдет?
Все знают, что умрут однажды.
Никто не верит, что умрет.
Ветвь над обрывом
Ветвь дерева, над пропастью повиснув,
птенца в ладони ласковой качает.
Простор пред ним распахнут, весь как вызов,
а ветвь его бесстрашью обучает –
сперва вот так, раскачиваясь плавно
в лучах едва проснувшегося солнца…
Коль все живое в мире равноправно,
птенец взлетит – и в пропасть не сорвется!
•
Свесив ноги,
сидит над обрывом
молчаливый, задумчивый
ветер.
Не колышут листвою
деревья,
облака в небесах
неподвижны,
и не плещутся
синие волны,
Не пылит,
как ни странно,
дорога.
Свесив ноги,
сидит над обрывом
ветер,
думая грустную думу:
«Вековые деревья
с корнями
вырываю,
но в этом ли прихоть? –
я хочу,
чтоб меня увидали.
Потому-то
вздымаю я волны,
окрыляя
бескрылое море.
Но меня-то
как раз и не видят –
видят
грозные пенные волны
да деревья,
что вырваны с корнем…»
Замер мир
в бесконечном стоп-кадре.
Шелохнуться не может
травинка.
Свесив ноги,
сидит над обрывом,
молчаливый, задумчивый
ветер.
•
Настенные часы,
как будто мыши,
над черствой коркой
трудятся усердно
моей бессонной ночи.
До утра.
•
Дождь снова над городом льется,
и люди опять убегают,
как будто от града картечи,
хоть знают: дождинки ни разу
убить никого не пытались.
Дождь снова над городом льется,
и люди бегут, как от роя
пчелиного, зная при этом,
что ни одного человека
дождинки ужалить не смели.
Дождь снова над городом льется –
до нитки промокли деревья,
бурчат недовольно машины.
Дождь снова над городом льется…
Постойте, бежать не спешите!
Ведь это его обижает.
Ну разве так трудно заметить,
что он не смеется, а плачет?
Дерево над кручей
Над кручей дерево стоит.
Свисают вниз нагие корни.
Под ним – река, над ним – гранит…
А ветер злобный все хрипит,
да так, что, верно, саднит в горле!
Есть много крон куда пышней…
Но между смертью неминучей
и жизнью краткой мне видней –
как между жерновами дней –
вот это дерево над кручей!
•
Как грецкий орех,
эту долгую ночь расколол я,
и тьма, как смола,
потекла из нее,
убывая,
как реки стекают с вершин,
чье молчание вечно.
Как озеро, тьма,
начиная со звезд,
опускалась,
как будто бы шлюзы
открылись внезапно.
По мере
ее убыванья
и Эльбрус, и Ушба, и Шхельда
вошли в наше зренье,
как будто бы в нем проявились.
А тьма все стекала
по склонам,
отрогам,
ущельям,
балкарские древние села
вверху оставляя:
Шики, Ышканты, Булунгу и Холам…
Так, покуда
не вытекла вся
из расколотой ночи
наружу.
И только потом
над горами воспрянуло солнце
подобием горна,
Дебетом когда-то раздутым,
за что Златоликим был прозван он…
Только потом.
•
У нас с тобой
когда-то были крылья.
Уверен, что
когда-то мы летали.
Иначе чем
печальную ту зависть,
что к птицам мы питаем,
объяснить?
У нас с тобой
когда-то были крылья…
•
Время
дни превращает в муку.
Наша жизнь, как вода,
убывает –
драгоценная влага
во фляжке
у того,
кто блуждает в пустыне.
Время
дни превращает в муку,
а мука
исчезает бесследно…
Где она,
жизнь ушедших навеки?
Перемолота!
Снег на дорогах…
Каменный мост
Построен я давно для добрых дел
умелыми и добрыми руками,
но столько испытать уже успел,
что со стыда мои сгорают камни.
Копытный стук я чувствовал спиной,
когда враги в селение врывались,
и закипал неравный смертный бой,
и семьи без кормильцев оставались.
Не позабыть мне ни в один из дней
той девушки, что раз сюда явилась, –
сомкнулась равнодушная над ней
вода, а солнце – странно! – не затмилось.
Удар кинжала! Рухнул человек
безвинный. Мчится прочь его убийца,
и облегчаю я ему побег…
Злодеям многим смог я пригодиться!
Задумал парень в пасмурную ночь
невесту умыкнуть, но конь сорвался
с меня, и я не смог ему помочь,
ничем не смог помочь, как ни старался.
Но я ли в этом всем виновен? Нет!
Горюю я, хоть нет вины нисколько…
Равно для всех и солнце льет свой свет –
неужто и ему вот так же горько?
Утро в горах
Сегодня сверху мне судьба дала
взирать на солнце, на полет орла.
Ты спрашиваешь, что же я обрел?
Узнал, что к людям чувствует орел
(больших различий, выяснилось, нет),
узнал, зачем нам солнце дарит свет.
Встреча
Это кто здесь
так радости полон?
Родничок мой любимый,
так, значит,
ты меня не забыл?
Вот и я
вспоминал тебя
все эти годы!
•
Пока ждем,
чтоб весна наступила,
в птичьих гнездах
мечтанья их спят.
•
Всю эту ночь
я выводил деревья
из города.
Они совсем оглохли
от рева,
но не псов цепных –
моторов,
рычащих на прохожих
озверело;
а лампы галогенные,
пылая,
вконец их ослепили,
бедолаг.
Всю эту ночь
я выводил деревья
из города.
Они давно скучают
по птичьим гнездам
и по трелям птичьим,
по хлестким ливням
да шальным ветрам.
Я выводил
из города деревья,
а там они
уже шагали сами,
собратьев
не рискуя дожидаться, –
уж больно
они, бедные, боялись,
что их настигнут,
выследят,
вернут.
Всю эту ночь
я выводил деревья
из города.
До самого утра.
Верните!
У неба
отняли птицу,
и грусть
овладела небом.
У неба
отняли тучку,
и небо
полно печали.
У неба
звезду отняли,
и слезы
роняет небо.
Верните звезду,
верните!
Иначе
лишат и солнца.
Верните звезду
на небо!
Верните звезду!
Верните…
Что там?
Над нами
возвышаются деревья,
над теми
тут и там порхают птицы,
над птицами
клубятся облака,
а выше облаков
сияют звезды.
Но что, скажи,
за звездами таится?
за пологом,
расшитым ими, –
что?
Предел ли жизни?
Пустота, и только?
Тьма без просвета –
или что похлеще?
Что там, скажи,
за звездными очами,
за синими, за белыми очами,
за красными, за желтыми очами,
что так на нас
таинственно взирают
в ночь летнюю?
Кто может дать ответ?
Кто скажет,
что за звездными очами?
За пологом,
расшитым ими, –
что?
Неужто тот,
кто в ярости срывает
их с неба,
чтоб на землю
их швырнуть?!
Тишина
1
Тишина – это облако.
Тишина – это снег.
И звезда – тишина.
И луна – тишина.
Тишина – это ночь.
Тишина – это дождь.
И роса – тишина.
И слеза – тишина.
Я не знал,
что слеза…
И – слеза.
2
Тишина – одиночества омут,
дна которому нет и не будет.
Тишина – это мать, что напрасно
сына ждет и не видит просвета.
Тишина – это наши надежды,
те, которым вовеки не сбыться.
Но ладонь твоя, что засыпает
меж моих осторожных ладоней, –
тишина.
Тишины!
С тишиною…
•
Нарушили строгий завет
Эльбруса мы, с детства родного,
и вот уже множество лет
он нам не промолвит ни слова.
Вечер
Роса упала на цветы.
Роса упала на траву.
Деревья вымокли в росе.
Роса собой покрыла камень.
И камень стал нежней цветка,
и камень мягче стал травы,
деревьев камень стал добрей.
Роса цветы собой покрыла.
•
Разве время идет?
Разве время течет?
Разве время летит?
Нет!
Я думаю, время –
безбрежное море,
в котором
челноки наши утлые
кружат и кружат без цели –
и чьи волны подчас
убаюкать пытаются нас.
А порою оно
разъяренным становится зверем,
норовя поглотить нас,
разинув беззубые пасти
грозных впадин меж волнами,
выросшими до небес.
Не идет,
не течет,
не летит,
не ползет
это время –
лишь мы сами несемся
по волнам безбрежного моря,
что зовется так вкрадчиво:
время, –
несемся, пока
не настигнет челнок наш
беззубая жадная пасть.
Веселый дождь
Зашуршало все вокруг:
раз, два, три, четыре, пять…
Это дождь задумал луг
по травинкам сосчитать.
•
Как сердце ночи,
светится луна,
сжимаясь-разжимаясь
в месяц раз.
О, как же это медленно для нас!..
Вот почему
она так холодна.
Мечта
Жило-было дерево.
У дерева был любимый листок,
который мечтал летать,
как птичка,
что прилетала к нему
и рассказывала о самой далекой
и самой прекрасной звезде,
где снятся по ночам только розы.
Настала осень.
Опали листья в лесу,
как кем-то обрезанные крылья.
Птичка улетела к своей далекой звезде,
где снятся по ночам только розы, розы.
На голой ветке остался висеть
только тот уже золотой листок,
который мечтал летать,
как птичка.
Жило-было дерево.
У дерева был любимый листок,
который мечтал летать,
и однажды ясным утром
он вспорхнул с ветки
и полетел вслед за птичкой
к той далекой звезде,
где снятся по ночам
только розы, розы, розы.
Диалог об одиночестве
– Если одиночество доймет,
то доверюсь лунному лучу.
Думаю, что он меня поймет:
я на нем к хозяйке долечу.
– Ну а мне вот кажется: не мед
петь ее холодную красу…
Если одиночество доймет,
лучше ветер в гости приглашу.
•
Я – сеятель!
Взошедшая луна –
лукошко,
что полнó заветных звезд…
Их на сердцá
посею вам сполна
я вечером –
пойдут сейчас же в рост!
Я – сеятель.
Племен спрошу я рать:
зачем на свет
явился оратай?
…Чтоб поутру
любой бы мог собрать
доселе небывалый
урожай!
•
Когда я мальчуганом был,
и время было мальчуганом.
Азарт делили мы и пыл,
носясь по солнечным полянам.
Мы, несмышленыши, вдвоем
играли в прятки, в догонялки;
живя одним текущим днем,
вступали часто в перепалки.
Поныне в памяти моей,
как яблоки мы воровали,
и палкой убивали змей,
и – даже! – гнезда разоряли…
Когда же молодость пришла,
пришло и молодое время.
Сменили мы свои дела,
сердца себе надеждой грея.
Учились мы (пусть «как-нибудь»,
по выражению поэта),
и грезы горячили грудь –
про что? Естественно, про это!
«Теперь вы седы!» – все подряд
нам зеркала с кривой усмешкой,
как ни посмотрим в них, твердят.
Да: распростились мы со спешкой.
Трезвее стали и мудрей
(хоть это – рядом с суесловьем).
Неукротимым бегом дней
ряд изменений обусловлен.
На возраст нечего пенять.
Мы знаем: все на свете бренно.
Но вот хотелось бы понять:
кто – человек здесь? кто здесь – время?
•
Увидеть время хочешь?
Что ж, садись,
на скорый поезд – и займи глаза
столбами телеграфными.
Запомни:
то не столбы за окнами мелькают,
а жизни быстротечные мгновенья,
в столбах овеществленные теперь.
•
Снежинка,
на землю упав,
в цветок превращается позже.
Дождинка,
что пала на землю,
становится свежей травинкой.
Звезда же,
на землю слетев,
восходит сверкающим солнцем.
•
Словами можно отодвинуть мрак,
мгновенно одолеть любые дали,
но те, что обронил ты просто так,
подобны зернам, что ростков не дали.
На них как будто пролит травобой –
вовеки им не сделаться кустами,
не вытянуться свежею травой,
не вспыхнуть благодарными цветами.
Как однодневки-бабочки, они
под вечер машут крылышками еле,
пока не сгинут в сумрачной тени,
оставшись без задачи и без цели.
Слова же те, в которых пышет гнев,
которым промах отроду не ведом,
впиваются в сердца, осатанев,
ехидствуя и злобствуя при этом.
Где падают они на землю, там
колючек зверских тотчас зреет завязь,
босые ножки раня ветеркам,
в крыла рассвета яростно вонзаясь.
•
Как давно стрекозы я не видел,
неподвижно зависшей над прудом!
Как давно не видал я улитки,
что скользит по травинке, похожа
на верблюда в бескрайней пустыне…
Если б звезды о летнюю пору
перестали на головы падать,
мы б их тоже, наверно, забыли.
•
Чья ты улыбка, цветок?
Кто тебя здесь обронил?
Девочка?
Птичка?
Песенка чья ты, родник?
Кто тебя здесь обронил?
Мальчик ли?
Дождик?
•
Заветные мои мечты!
Мы столько лет играем в прятки…
Хотя б одна из вас нашлась.
•
Даже если
побываешь на луне,
принесешь в охапке
лунные цветы,
даже если
хоть до солнца долетишь,
сноп из солнечных лучей
подаришь нам,
но однажды
сможешь вдруг переступить
через птенчика,
что выпал из гнезда, –
все и каждый
разгадают сей же миг:
не поэт ты, не поэт ты…
Не поэт!
•
Дивись –
цветку, утесу, пчелке, птахе…
Увидь, на берег выйдя:
там и тут
речные камни,
словно черепахи,
вверх по реке
старательно ползут.
Ветерок
1
Ветерок, себе свивший гнездо
средь терновых кустов, каждый вечер
возвращается, мягко ступая,
словно дикая кошка, домой.
Узнаю, что он снова вернулся,
когда в зыбких, как сон, паутинках
лунный свет начинает дробиться,
расщепляться, искриться, дрожать.
2
Лунный свет, паутинки, роса –
вот какие стройматериалы
взял у доброй и щедрой природы
ветерок на постройку гнезда.
3
Вижу, ветка качнулась внезапно –
это к небу вспорхнул ветерок.
Когда с дерева птица взлетает,
точно так же качается ветка.
•
Тень, словно черный пес, идет то сбоку,
то впереди, а то плетется сзади.
А в полдень съеживается она,
становится невзрачной собачонкой,
скулит и прижимается к ногам.
Она чего-то, видимо, боится,
но как понять доподлинно – чего?
•
Лужа у дороги
высыхает.
Девочка зачерпывает воду –
и ее на травы выливает…
Так птенцов пускают
на свободу.
О любви
•
Это вовсе не стихотворенье,
это ясный твой взгляд – тот, который
лучезарною радостью полон,
крыльев бабочки пестрой касаясь,
что присела на легком цветке.
Это вовсе не стихотворенье,
это россыпь волос твоих теплых,
что, подобно июньскому ливню,
по открытым струятся плечам.
Это вовсе не стихотворенье,
это руки твои дорогие,
что, подобно крылам журавлиным,
каждый вечер желанно ложатся
на упругие плечи мои.
Это вовсе не стихотворенье,
а гранатовых губ твоих трепет,
что мне шепчут, как листья лесные,
о твоей безграничной любви.
Это вовсе не стихотворенье.
Вовсе нет.
•
Весною
ночь звездами пахнет.
Лежит она, вся разметавшись,
и снится ей ласковый ветер –
глаза у него голубые, –
который, как фокусник, быстро
и с легкостью освобождают
ее от всего, чем укрыта
ее драгоценная сущность, –
стыдливости, скромности, платья…
Сияют горячие груди
сквозь длинные темные пряди.
И дождь, удивительно теплый
и лунному свету подобный,
ей плечи и сонные руки,
и бедра, и грудь, что трепещет,
сияя сквозь темные пряди,
касаньями нежными гладит.
А ветер, охальник и ухарь,
целует ей плечи и груди,
и губы, что чуть приоткрыты,
и в лоно ее проникает…
Лежит она, вся разметавшись,
убитая страстью нездешней
и радуясь собственной смерти.
Ночь звездами пахнет
весною.
•
Нагое море, разбежавшись,
нагую девушку хватает,
но пальцы скользкие не могут
на скользкой коже удержаться
и вновь срываются оплошно.
А девушка глядит в даль моря.
Как птица, что в силки попала,
так ветер в прядях золотистых
все мечется, но безуспешно –
ему не выбраться наружу.
А солнце нежными лучами
златоволосую ласкает,
ее просоленные плечи
целует ласково и долго.
Она стоит и молча смотрит
на горизонт, где море с небом
слились в объятье осторожном.
Ей дела нет до волн, до солнца,
до ветерка, что в прядях бился,
а ныне выбрался оттуда
и меж грудей гнездо свивает,
которые и сами гнезда
для грез любовных и томленья.
Она стоит и молча смотрит
на горизонт, где непременно
шелк парусов возникнет алых.
Я знаю – скоро он возникнет.
•
Я обидел тебя.
Я, наверно,
был с тобою немыслимо грубым,
потому что слова,
словно птицы,
с уст моих улетели…
Куда?
Вот обида прошла.
Ты, как прежде,
весела и красива,
подобно
после бури пронесшейся –
солнцу,
после лютых морозов –
весне.
Не могу я сказать:
«Моя радость!
До чего ты
сегодня прекрасна!»
Не могу
рассказать тебе сказку,
сочиненную мной для того
малыша,
что еще не родился,
для того,
кто бессчетные годы
нас с тобой
так настойчиво ищет,
чтобы в мир наш
однажды прийти.
Не могу я
промолвить отныне
ни полслова,
ни четверти даже –
все слова,
как осенние птицы,
улетели незнамо куда.
А любимая не понимает,
да и как ей понять,
моей милой,
почему я гляжу
так печально,
почему постоянно
молчу.
Я могу теперь
только кивками
изъясняться –
да жестами разве.
А слова мои,
все разноперы,
порасселись на ветках деревьев –
тех, чьи листья
давно улетели, –
и в окно мое
нагло галдят:
улететь им?
А может, вернуться?
Возвратиться ко мне?
Улететь?
Теплый ливень
Ты – в летнем легком платье.
Теплый ливень
тебя обнял –
и ты, как фотоснимок,
вдруг стала
осторожно проявляться.
Соски твои
сначала проявились,
затем и сами груди,
что казались
любви и света лунного
полны…
Пупок возник вдруг
темным углубленьем,
с ума меня сводя,
и – все, что ниже…
Ты словно родилась,
как Афродита,
пришла на свет
из этой теплой влаги,
но не морской,
а льющейся с небес.
Тогда ты обняла меня.
впервые.
Ведь только так
от глаз моих укрыться
могла ты –
от моих огнем горящих
и грешных глаз.
Объятье было робким
и нежным
дуновеньем ветерка.
В тот день
мы навсегда могли расстаться,
когда б не струи
ласкового ливня,
толкнувшего тебя
в мои объятья.
•
Не одни только крылья
у ветра –
у него есть
огромное сердце,
шар воздушный,
что летом наполнен
добротой,
а зимою – лишь злобой.
Но о том,
что у ветра
есть губы,
есть отчаянно
страстные руки
и бездонные
синие очи, –
я об этом
узнал лишь сегодня
от тебя,
дорогая шалунья!
Ты обнаженней струй родниковых
Марине
1
Как ни старайся
платьем укрыться, –
обнажена ты,
словно росинка.
Взгляд обнаженный
напоминает
ливень, что хлынул,
спасши от зноя.
Обнажена ты
сердцем невинным –
так и сияет,
так и лучится
сквозь изумленье
глаз азиатских,
полных томленья,
медленной неги.
Голос твой тоже
наг, и он звонок,
как колокольчик
дочери неба –
звездной шалуньи.
Каждое слово
робких признаний –
тоже нагое.
Ты обнаженней
струй родниковых!
Странник в лохмотьях,
вечно стремлюсь я
к струям приникнуть,
но – безуспешно…
Солнце и жажда.
Жажда и солнце.
2
Жажда отпустит,
если однажды
руку протянешь
ты обнажено.
Впрочем, грустна ты…
Грусть твоя тоже –
словно нагая
лунная осень.
Вся твоя сущность –
быть обнаженной.
Груди же, Боже! –
словно две птицы,
что упорхнули б,
если б кто вздумал
к ним прикоснуться
неосторожно…
Ты – словно утро.
Так ты хрустальна,
что я хотел бы
вместе с тобою
в дальние дали
по ветру мчаться,
чтобы оттуда
не возвратиться.
•
Лениво
с себя стягивает сон,
прекрасный сон,
что снился этой ночью,
задумчивая девушка.
Неспешно
она себя в заботы облачает,
из коих утро соткано
и день.
Она глядит,
как будто бы впервые,
на то, как круты
собственные бедра,
белы едва ль не до свеченья
руки,
как тонок и подвижен
гибкий стан.
Так налиты
ее тугие груди,
как будто нежат
сильные их руки,
коснувшиеся женщины
впервые.
Она – в воспоминаньях
прошлой ночи,
пронизанной
любовной лихорадкой.
Лениво
с себя стягивая сон,
с улыбкой
надевает утро –
с солнцем,
с птиц неумолчным пеньем
и с желаньем,
что сбудется опять
и в эту ночь.
Последний дождь
Последний дождь
в глазах струится наших.
В глазах друг друга
тонем мы в молчанье –
молчанье
содержательнее слов.
Последний дождь
струится перед нами,
Последний дождь,
последний, потому что
за мною ты,
вчера со школьной парты,
не поспеваешь,
как бы ни старалась,
а я не в силах больше
ждать тебя.
Последний дождь
нас в чем-то укоряет,
а мы молчим –
к словам его печальным
нам нечего добавить.
Мы – молчим.
И вдруг ты начинаешь
тихо плакать.
лицо в ладони спрятав.
Я растерян –
ведь это наш
последний в жизни дождь.
Внезапно
отрываешь ты ладони
от мокрого лица,
смеешься звонко,
и улыбаюсь
я тебе в ответ.
Пока что
фонарей не зажигали,
по лужам там и сям
снуют машины,
мрак
световыми бивнями пронзая.
Как в первый раз,
тебя я обнимаю
и слышу шепот
губ твоих соленых:
«Прощай,
ведь это наш последний дождь…»
«Прощай,
моя шалунья, – отвечаю. –
Да, этот дождь
у нас с тобой последний,
и он уже
закончится вот-вот…»
•
Как-то раз
ты явилась ко мне
из цветка,
только зеркала цепкое око
поступило со мною жестоко:
увело тебя прочь,
в свой хрустальный дворец,
где хрустальные плещут
фонтаны.
А однажды
пришла ты
из светлой волны,
но зеркальная гладь неуемна —
увела тебя вновь вероломно
от меня в свой полон,
в свой хрустальный дворец,
где хрустальные плещут
фонтаны.
Но теперь ты,
наверно,
из солнца придешь,
чтобы зеркало вновь не сумело
совершить свое черное дело –
увести тебя прочь,
в свой хрустальный дворец,
где хрустальные плещут
фонтаны…
Да, красавица,
лучше из солнца приди,
ослепи это зеркало, чтобы
оно треснуло тут же от злобы,
не упрятав тебя
в свой хрустальный дворец,
где хрустальные плещут
фонтаны!
•
А я-то думал:
зависти не знаю…
Но посмотри,
как нежно обнимает
молоденькую девушку
Апрель!
•
Бродя вдоль берега реки,
с древесным другом повстречался.
Вот радость!
«Здравствуй», – говорю.
(Я под его приветной сенью
читал стихи свои когда-то
красивой девушке.
Однако
отец ее, как туча хмурый,
ее увез.
С тех пор – ни встречи.)
«Где пропадал,
друг-стихотворец? –
спросило дерево и тут же,
ответных слов не дожидаясь,
добавило:
– А я похоже
на журавля!
Скажи, похоже?
Летать я даже научилось,
смотри!»
И с этими словами
примкнуло к стае журавлиной,
ветвями взмахивая шумно.
А через несколько мгновений
с небес листок упал мне в руки –
блестящий, что перо Жар-птицы.
Теперь поводырем он служит
мне среди улиц незнакомых
большого города:
исправно
туда меня ведет,
где тусклый
льет свет печальное окно.
•
Ни блага не желай, ни зла –
ничем не победить остуду,
ничем не возвратить тепла.
Сегодня я тебя забуду.
Права ты или не права,
уже не повториться чуду.
Твои медовые слова
я все равно навек забуду.
Не надо, пальцы теребя,
меня разжалобить пытаться.
Пойми: забуду я тебя,
пойми: пришла пора расстаться.
Ни блага не желай, ни зла –
все решено судьбою мудро.
Не возродить ничем тепла –
тебя забуду я… Наутро.
•
Дж. А.
Душа приемлет только тишину.
Я слушаю теперь ее одну.
Дуб кажется похожим мне сейчас
на старика, творящего намаз.
Слова бессильны в этой тишине.
Язык дождя отныне ближе мне.
Не нужен ни вопрос и ни ответ:
в твоих глазах небесный виден свет.
•
Летом ночи прозрачней стекла.
Россыпь звезд – что луну раскрошить.
Скоро полночь, а ты не пришла.
Я устал ожиданием жить.
Не томи ты меня и не мучь –
дни и так ожиданий полны…
В дверь открытую тянется луч,
как улыбка лукавой луны.
•
Ну вот и новая зима!
Я без зимы сходил с ума,
я думал: может, ты сама
мне лишь приснилась?
Но – запорошены поля…
Вот ива, вся из хрусталя…
И снег идет, опять суля
мне сделать милость!
Я помню: ты была легка,
как облачко… Издалека
приди скорей ко мне, пока
наш снег кружится.
Взгляни-ка: снова из-за туч,
как бабочка, трепещет луч!
Неужто наш потерян ключ?
Долой, граница!
Приди скорей издалека,
светла, как снег, как снег, мягка!
К тебе протянута рука,
но ты незрима.
Вот, вижу, девушка идет,
похожа на тебя, да вот
беда: меня не узнает,
проходит мимо…
•
Ожидая тебя, я устал, истомился смертельно.
Озираясь, приметил я дерево на берегу:
вижу, ветер, такой же усталый, улегся на ветви,
рядом птица присела, тумана лохмотья повисли.
Голубыми, прозрачными, перышка легче словами
на бумаге то дерево бережно запечатлел:
ветерок растворил я в лучах золотистого света
и, смешав его с собственной речью, сумел воссоздать
я в тетради его целиком – перенес всё до ветки.
Ожидая тебя, я устал, ну когда же ты вспомнишь…
Растворив птичьи трели в зарницах на краешке неба,
подмешал синих слов – и на дереве выросли листья.
Настоящее дерево машет ветвями с бумаги.
Ожидая тебя, я устал. Нет мне жизни, родная!
А теперь нарисую дорогу, дорогу разлуки –
та завистница злая тебя у меня забрала,
уведя за собою в обманные дальние дали.
Наберу желтых слов и с курлыканьем грустным смешаю
журавлей, от родимой земли улетающих прочь.
Ожидая тебя, я устал. Так убей же надежду!
Нет! Надежда умрет – и сгорит мое дерево тут же,
не дожив и до осени: сердце его разорвется.
Лучше слов наберу я крылатых, с сиянием Божьим
их смешаю – и трепетный тот ветерок нарисую,
что запутался в прядях твоих и не хочет наружу.
Ожидая тебя, я безмерно устал, дорогая.
•
Как волчья стая, вьюга завывает,
все мечется по горному селу,
стремительна, как тот, кто поспевает
с тревогой, прикипев в ночи к седлу.
Не вьюга ль прерывает сон твой сладкий?
Любимая, чем вызван твой испуг?
Снежинок рой, на свет, как мошки, падкий,
слетелся к фонарю, виясь вокруг…
Нет, милая! Ничуть не вьюга это!
Внимательней прислушайся-ка вновь –
и ты поймешь: оставшись без ответа,
терзается в ночи моя любовь.
Она, любовь, рыданиям и вою
все предается, спятивши почти…
Я так измучен, милая, тобою,
что впору, как Меджнуну, в степь уйти.
Свобода
Войти бы в зеркало, как в сон,
найти бы день вчерашний.
Пускай секунд умолкнет звон,
пусть всходы станут пашней.
К себе ты, детство, призови,
чтоб, одолев природу,
от ненависти и любви
я вновь обрел свободу.
•
На берегу –
потаенное место…
Девочка,
платье короткое скинув,
в теплую воду вбегает,
нагая.
Груди ее переполнены солнцем –
взор ослепляют они зеркалами
мальчику, что, обмирая в засаде,
смотрит на девочку, завороженный.
Не шелохнуться бы,
думает мальчик,
если спугну ее – будет как в сказке:
вмиг обратится она в голубицу…
И улетит,
опереньем блистая!
Одинокий волк
Я рыщу одиноким волком
среди лесов, распадков, гор,
высматривая хищным оком
себе добычу с давних пор.
Волк одинокий, не желаю
твоих касаться нежных губ –
ведь сам доподлинно я знаю,
как необуздан, грозен, груб.
Волк одинокий, жутко вою
по мрачным зимним вечерам.
Я сам тому не рад порою,
что псов тревожу по дворам.
Напуганы, как страшной сказкой,
скулят они, поджав хвосты…
Я не хочу своею лаской
навек твои спалить мечты!
Твой образ сердце рвет на части,
жизнь в одиночестве – тюрьма…
Но если дам тебе я счастье,
оно сведет тебя с ума.
Я – волк в любое из мгновений,
непостижим я и жесток.
Не от моих прикосновений
ты распахнешься, как цветок.
Ты рождена морской волною
и горным ветром голубым.
Вовек не быть тебе со мною,
такие помыслы – что дым.
Я не хочу, чтоб на рассвете
запев любви твоей умолк.
Я на другой живу планете,
я – только одинокий волк…
•
Я свирель разломал – ту, в которой
пела музыка звезд и соцветий.
Ухожу я навек, потому что
в этом мире убили любовь.
Этот мир стал немым и холодным,
стал глухим он – и серым – и сирым,
как замерзшее зимнее небо,
отраженное в стылом пруду,
а игривые волны морские
превратились в барханы пустыни.
Ухожу я. Я здесь не останусь –
в этом мире убили любовь,
пристрелили ее словно песню,
только рана не кровоточила –
на застывшие в ужасе травы
изливался божественный свет.
Здесь убили любовь, пристрелили,
словно радугу в небе, и утро
разлетелось на кучу осколков,
как стекло ветровое, а солнце
занавесилось тучами в страхе.
Я свирель разломал свою ныне –
в этом мире убили любовь.
В ночном баре
В ночном опустевшем баре
сидела она с бокалом –
одна, ни с одним не в паре,
хотя от нее накалом
желанья, тоски и пыла
так веяло, что волненье
всего меня охватило…
Звучало чуть слышно пенье –
грустил Адамо жестоко…
И я пригласил на танец
ее, отказала, только
так вежливо, что – растаешь!
Я долго стоял с ней рядом:
была она так прекрасна,
что не прикоснуться взглядом
к ней – значит, прожить напрасно.
Во мне вдруг проснулась дерзость,
ну как к ней не напроситься –
на чашечку кофе, дескать?
Сказала: «Прошу садиться».
Я молвил в ответ: «Спасибо».
Вздохнула она устало.
Была она так красива
и мысли мои читала.
Была, как мечта, прекрасна,
в глазах – ни вражды, ни яда.
Ей было, как видно, ясно,
чего мне сегодня надо.
Она говорила тихо,
взор изредка поднимая.
Наверно, хлебнула лиха
в разгаре шального мая.
«Пора», – вдруг она сказала
и к выходу устремилась.
Хромая, она шагала…
Калека? Скажи на милость!
У двери она, помедлив,
призывный мне взгляд метнула,
но, как бы и не заметив,
я так и не встал со стула.
А все потому, что бармен
смотрел на меня с ухмылкой!
Да лучше б ему я вдарил
по наглым зубам бутылкой!
Сижу вот в своей квартире,
корплю над своим блокнотом.
Несчастней ее нет в мире…
Каким я был идиотом!
Строки-обереги
Венок стихотворений
I
Над баксанскими скалами рея,
над долиной Курму, Карала
сыплет снег, усыпляя и грея,
и земля первозданно бела.
Снег, идешь ты откуда-то с выси,
ты так вольно и чисто летишь,
ты спокоен, как ясные мысли
старика, что пришел на ныгыш.
Нас двоих осеняя собою,
что-то шепчешь ты там, в вышине…
Я сегодня любуюсь судьбою,
что любовь даровала и мне.
II
С той поры, как пути мы связали,
жизнь порой улыбалась и нам.
Не скажу, чтоб невзгод мы не знали:
мед и горечь – всегда пополам.
Ну так что ж! Кто на этой дороге
не цеплялся за камень порой?
Как и всем, нам знакомы тревоги,
и грозила нам зависть пургой.
Были молоды мы, но стерпели
все удары судьбы непростой.
По-над пропастью шли мы и пели,
твердый взгляд отвечал на пустой!
III
Жизнь глядит на нас с тихою лаской
по достоинству – так ты нежна.
Звезды с неба – исполненной сказкой –
для любимых срывали сполна.
Я же выбрал звезду, что сочилась
светом, словно водою – родник.
В ней твоя красота проявилась –
вот откуда твой свет к нам проник!
Я нарек ее именем милым,
укрепляя бесспорную связь.
Будь подругой небесным светилам
ты, что там, в небесах, родилась!
IV
То в малине идем, то в крапиве,
а с пути не свернем все равно.
Если горе бушует в разливе,
остается терпенье одно.
Взгляд твой – счастье. Оно первозданно:
всякий раз – словно снова познал.
Счастье – смех моего мальчугана
или грусть, коль игрушку сломал.
Год от года любовь к тебе крепнет:
получает, кто больше отдаст.
Время чувства ни в жизнь не истреплет,
что ценнее любых из богатств.
V
Мы пятнадцать вершин одолели,
не хвалясь: мол, не гаснет очаг!
Наши ангелы тоже при деле –
восседают у нас на плечах.
Слева – черный насупленный ангел,
справа – белый, пречистый сидит.
Белый ангел – о, как же он плакал
от тебе нанесенных обид!
Я и сам провалиться под землю
от стыда и от муки готов,
если вздоху тяжелому внемлю,
где упрек различим и без слов.
VI
Неужели дорогой окольной
предпочту я к тебе добрести,
поддаваясь опаске невольной
бури, ждущей на честном пути?
Нет! Отправлюсь дорогой прямою!
Пусть меня она плетью ожжет –
совладать ли той буре со мною,
если знаю: любимая ждет?!
Лик твой – свет для меня путеводный,
что мне ночи теснящая тьма?
Я с тобой и в неволе – свободный,
без тебя же и воля – тюрьма…
VII
Время, сводишь ли с нами ты счеты?
Под уклон уже гонишь: бегом!
Юность – золото… только его ты
разменяло висков серебром.
Но, хоть градом исхлестан отменно,
не скажу: больше незачем жить.
Серебро, как мужчина, степенно,
что же золотом зря дорожить?
И Меджнун не сравнится со мною –
так я сильно и нежно любил.
Пусть простился давно я с весною,
но любви моей пыл не остыл!
VIII
Быть случалось во власти обмана,
я сбивался подчас с колеи,
взор мой застили струи тумана,
но – снимали оковы свои.
Ты у зеркала грустно застыла:
время, время! обузы не снять.
Не смиряясь с неправедным «было»,
гребнем волосы чешешь опять.
Да, под старость, заботы итожа,
всяк грустит, быстротечность кляня…
На тебя наша дочка похожа,
ну а мальчики наши – в меня.
IX
Мы пятнадцать морей переплыли,
продолжаем свой путь и сейчас.
У иных мы безумцами слыли,
но другие приветили нас.
О поляна Азау! Я не помню
дня, когда бы тебя позабыл.
Черной полночи, яркому полдню
не затмить тебя, прочный мой тыл.
И таков же любви моей трепет –
ей владеть и служить мы вольны…
Больше солнца такого не встретить,
ни такой бесподобной луны!
X
Мы огромные волны стерпели,
что вздымались и рушились вниз,
но душою мы не обмелели,
равнодушию не поддались.
Достоянье мое – твои руки,
ничего драгоценнее нет.
Лишь они избавляют от муки
и спасают от тысячи бед.
И сегодня, считаю, уместно
благодарность воздать без затей
им, месящим без устали тесто,
им, кладущим в кроватки детей!
XI
Нынче брови насупили горы –
брови-тучи, что сажи черней.
Льется дождь на родные просторы,
и они с каждым часом родней.
Я любуюсь дождем, и ты тоже
полюбила его с неких пор.
На него твои пряди похожи,
хоть явился он к нам из-за гор.
Пробирался он к скалам Баксана
по-над кручами, там, в вышине,
и теперь подает неустанно
весть о скорой и спорой весне.
XII
На оттаявшем солнечном склоне
самый первый подснежник расцвел.
Утомленные, как от погони,
журавли возвратились в Терскол.
А я снова подумал о том, как
год за годом, негаданно, вдруг
исчезают в тягучих потемках –
журавлями, что рвутся на юг!
Да, не будешь трубить ты победно
в спину году, летящему прочь.
Да, они исчезают бесследно…
Но – взгляни на подросшую дочь!
XIII
Вся долина – сплошное цветенье.
Над Курму разливается свет…
Словно оберег, стихотворенье
я дарю тебе ныне – от бед!
Я искал тебя долго по свету.
«Где, – гадал я, – в какой из сторон?..»
Но пришла ты, опутала сетью –
и я словно бы снова рожден!
Признаюсь в своем счастье прилюдно
и по праву могу повторять:
в этом мире любовь найти трудно,
но труднее – найдя, не терять!..
XIV
Водопады волос твоих – чудо!
Ранит сердце твой солнечный лик…
Гошаях! Но скажи мне, откуда
в этот стих Черный камень проник?
Из веками сокрытого века
долетел до нас грустный упрек:
«Нет несчастней того человека,
кто любви своей не уберег.
Каншаубий мой в далекие страны
ускакал – я невзвидела дня.
Мои слезы и камню, что раны,
а душа не покинет меня…»
XV
Из пятнадцати стихотворений
я дарю тебе ныне венок.
Моя жизнь – это добрый мой гений;
повстречаться с тобою я смог.
Как бы дальше судьба ни сложилась,
для меня несомненно одно:
та любовь, что во мне зародилась,
и в столетьях не канет на дно.
Пусть успею сгореть и истлеть я,
но любовь не уйдет на погост –
будет жить она тысячелетья,
словно свет давно умерших звезд.
•
Кто обратит на облако вниманье,
пока не скроет солнца пеленой?
А о дожде какое поминанье,
пока не изнурит проклятый зной?
Кому взбредет судачить о здоровье,
пока его не одолеет хворь?
Кто думает о смерти, хмуря брови,
пока не хватит старости с лихвой?
Кто станет слезы лить и носом хлюпать,
пока его все длится торжество?
Никто не хочет верить в свою глупость,
пока не бросит женщина его.
•
У слов твоих
гостить всегда я рад.
В неволе я
у черных глаз твоих.
Как сладостен
изгиб припухлых губ!
Повязан я
цепями пышных кос.
А ямочка
на розовой щеке
меня лишила разума…
Навеки.