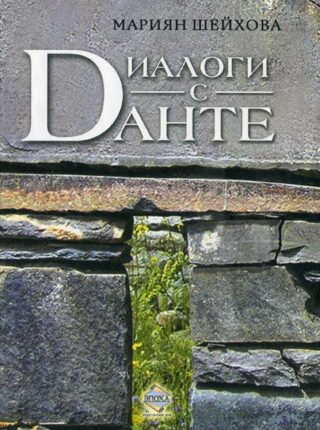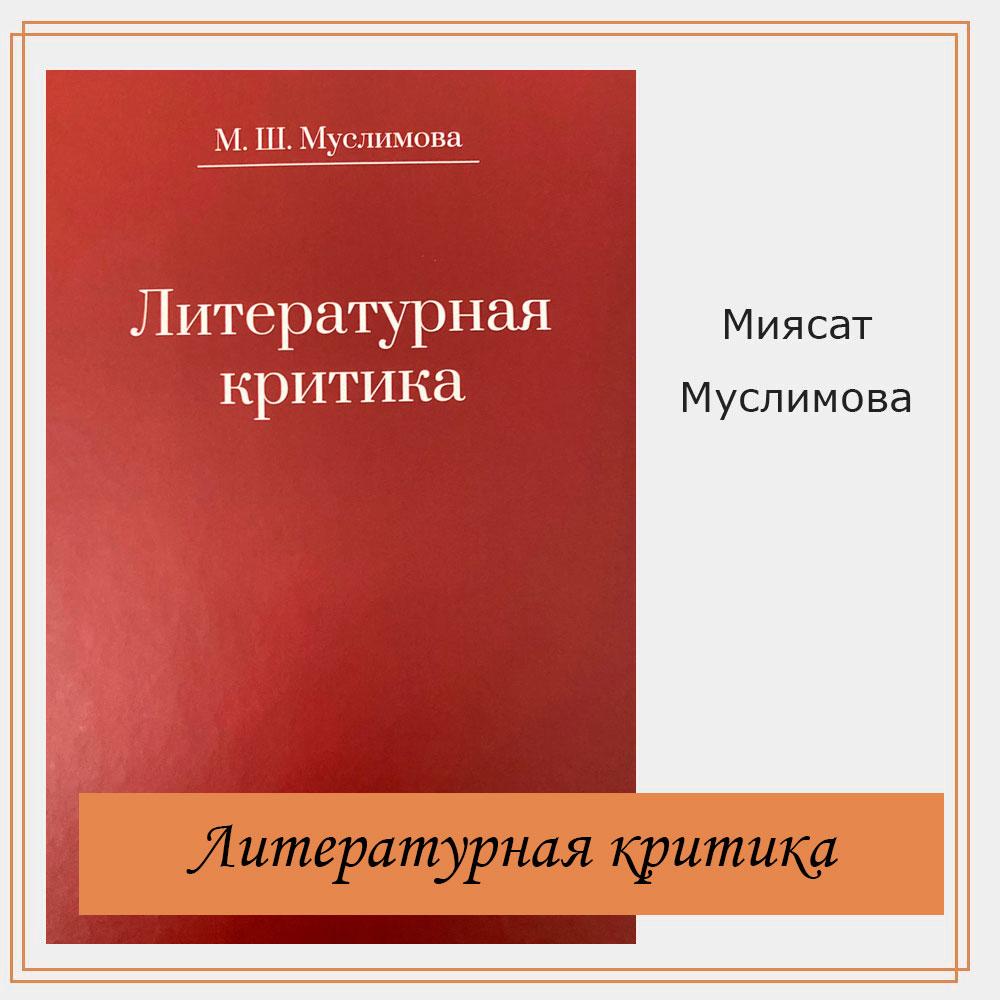-
Жанр: поэзия
-
Язык: русский
-
Страниц: 190
О, моя усталая родина…
Еще никогда я не была так беспомощна перед белым листом бумаги. Мне предстоит ввести читателя в мир поэзии Мариян Шейховой, но всякая попытка рецензента быть вровень с самим автором в этом случае обречена на провал. Ее поэзия – распаханное болью поле. Здесь безысходность и надежда, обличение и сострадание, восторг и нежность. Сила строк поэта равна величию Кавказа, и это не ложный пафос, а констатация. «Понять горы можно только став вровень с ними» – написала Мариян.
О, моя усталая родина…
Еще никогда я не была так беспомощна перед белым листом бумаги. Мне предстоит ввести читателя в мир поэзии Мариян Шейховой, но всякая попытка рецензента быть вровень с самим автором в этом случае обречена на провал. Ее поэзия – распаханное болью поле. Здесь безысходность и надежда, обличение и сострадание, восторг и нежность. Сила строк поэта равна величию Кавказа, и это не ложный пафос, а констатация. «Понять горы можно только став вровень с ними» – написала Мариян. Имеет ли право на такую высокую планку женщина? Поэт Мариян Шейхова осилила большее: она поднялась над вершинами своей родины и там в чистом, разряженном пространстве ее голос обрел такой диапазон звучания, что не услышать его невозможно. Сам поэтический текст мощнее всяких слов о нем. Мне остается только укрыться за строчками ее стихов и собрать воедино все реакции на них в интернете, потому что там у Мариян Шейховой давно уже есть своя аудитория. Ей пишут самые разные люди из множества стран и городов, ожидая новых строк поэта, и с благодарным восхищением постигают другой Кавказ. В этом свободном от указующего перста интернет — пространстве Мариян для них как проводник в мир Кавказа, в его бунтующую энергию, в его правду и растерянность, в его живую плоть. Там она создала кавказский дом для всех, готов понять его хозяев. Через Дагестан мостит Мариян путь ко всему Кавказу. В этом доме оживают камни родины, вещие горы, «пчелиные соты в засохшем меду на ветру рассыпаются пылью», «сакли лепные дремлют в ладонях вершин», «скалы клубятся былью», «травами лечит ветер морщины глубоких лощин». В этом доме «аулов лакских имена стучатся памятью былинной, в них жажда выси и огня и мука доблести старинной». «Все это жаждет воплотиться, все силится вспомнить, вопия к небу: жизнь без памяти – пыль», — напишет Мариян Владимир Мялин из Москвы. «Горы, горы… Они юдоль и ГОРдости высокой, и немалого ГОРя, но как же держат Ваши стихи», — отзовется из Израиля Яков Рабинер.
В этом кавказском доме голос крови, голос родины преодолевает любые границы, ибо гармония духа и слова есть высшая форма общения. Ну кто же может не принять эти строки:
На каменных трезубцах Турчидага струится сок гранатовых рассветов,
Упругий день взбирается по кручам, чтобы спустить с вершины облака.
У каждого есть какие-то особые признаки своей малой родины, ее символы, впитанные с детства. Их много у Мариян, и среди них – камни ее родины, «разбросанные там, где нет запретов». Они — память о прошлом, хранители разрушенного очага и мудрости гор, они ее молчаливые собеседники.
Ваше молчание напоминает мне надгробные плиты
на старинных кладбищах лакцев,
оставивших мне в наследство
искусство резьбы на клинописи ветра,
искусство насечки на серебре стали
и тайну слезы, запертой в темнице глазниц.
Кладки речного камня родины рождают поэзию, сохраняющую красоту исчезающих миров. Эти миры исчезают так незаметно, что мы не успеваем даже зафиксировать их тихий уход. Как и у Маркеса, у каждого есть свое Макондо — малая родина, об угасании которой с такой грустью он поведал миру. Для Мариян Шейховой это родное село Убра, волшебная крыша дома, где «мама в кувшине день с молоком взбивала. Желтое масло в лощины густо стекало».
Старый Сурхай за оградой землю костями греет,
Кладкой речного камня сакля глядится в Койсу.
Это твое Макондо в чреве у времени зреет,
Чтобы кормить тобою памяти пыль и тоску.
«Я когда читаю о мире малом твоем, просто вижу его. Просто понимаю душой, что он есть, и мне от этого тепло. Ты закрываешь своими ладонями дух предков от скверны, как пламя свечи от ветра. «И рукопись Муххамеда Убри, и кладбище, заброшенное в небо громадой гор, хранящих свет зари»,- так откликнется на эти стихи Анна Черно из Ростова. Маленькая Лакия расширилась до вселенских масштабов – так щедро поделилась ею Мариян в своих пейзажно-психологических зарисовках. Малая родина возвысилась крепостью своей традиции над иллюзорным миром сегодняшнего бытия, где люди утратили свои обязательства друг перед другом. «На этом высохло перо» — еще совсем недавно этой былинной фразой скрепляли общественный договор. И в ней было больше ответственности, чем в подписях нынешних политиков.
«На этом высохло перо». – Старинный акт закроет тяжбу.
Арабской вязью крепит предок времен тончайшие пласты.
Неторопливость слов старейшин, седая стать кавказских кряжей
Смирили распри навсегда меж Шангода и меж Бухты.
Но дом кавказской традиции был разрушен. На его пепелище возник новый, который тоже снесло ветром истории. Дом, который мы строим сегодня, «враждой и страхом изувечен – в нем веру и любовь скрепляют плетью», «растут раздорами мечети», «ни мира, ни войны: волкам в угоду люди. В угоду лисам – нравы, бесам – судьи. Ни покаянья, ни вины — душа горит, не грея…»
В свой дом зову великих и прошу
Ответа, чтоб родина моя не стала адом —
Я ею, как святыней, дорожу —
Как сохранить дух доблести Кавказа,
И честь его седин, и воинство наказов?
Я боль его сынов в груди ношу.
***
Об этой кавказской драме — цикл «Диалоги с Данте», самый сильный из всего, что написано поэтом. Мариян Шейхова здесь в роли Виргилия. Она – проводник в бездну, где упокоено прошлое Кавказа и уготовано место его новейшей истории, в которой уже трудно различить, «где доблесть, где вина», и «кто народ над пропастью поставил».
Будь проклята сыновняя орда,
Что мать свою сдала на поруганье.
…
Ваш дом во тьме. Объявлена война
Селеньям, памяти, истории родной.
Кто матерью рожден, не будет безучастен
К судьбе земли своей – но каждый к злу причастен.
Кавказский дом разрушит не чужой.
Стихи этого цикла звучат, как фуги Баха. (Не Моцарт, автор «Реквиема», не элегический Шопен, не жизнерадостный Штраус, не мрачный Вагнер, хотя все они вместе соединились в поэзии Мариян Шейховой). А именно органный Бах созвучен ей по тональности и полифонии, потому что соло Мариян – многозвучно. Да и нет в нашей кавказской традиционной культуре адекватного ее голосу инструмента. Разве что печальный и задумчивый дудук, но геополитика расписывает для Кавказа такую партитуру, что нашим зурне и барабану не осилить. Не готова наша традиция к таким вызовам. В нюансировке этой партитуры предстоит разбираться следующим поколениям. Мы здесь бессильны, потому что близость событий ослепляет, рождая сиюминутные оценки. Но долг наш – подготовить почву для осмысления, сформулировав самые важные вопросы дня сегодняшнего. О, сколько их в поэзии Мариян Шейховой – жестких, прямых, безжалостных и разоблачающих уже самой постановкой вопроса: «И сколько еще будет пролито крови, И сколько на брата поднимется рук?».
Кавказ сегодня – земля войны! За что сражаемся? Против кого? Раньше было ясно: за свободу, за отчий дом. А сегодня? Кто вздыбил эту землю? Кто осмелился «тронуть рукою ее впалую грудь и зияние вырванных дней? Кто втоптал ее косы в песок и кровавой строкою Пишет черную книгу безумья и смерти ее сыновей?»
«Наверное, в наше время это и есть мужество – задать самые трудные, больные вопросы, не надеясь получить ответ. Достойно эпоса и достойно земли Кавказа: «Кто вернет ей могущество духа, честь и славу отцов, о братстве завет и приказ? Глухо ропщет суровая быль и доносит до слуха Прометеево имя в горах и священное слово «Кавказ». И все же вы недаром помните об огне Прометея. Хорошо, что он возник в конце», — напишет Галит из Израиля.
«И снова Кавказ. И снова боль. Видно, это судьба и любовь на все времена от рождения до тризны. Господи! Спаси и благослови этот край!» Мила Светлова.
«Кровь и честь, вера и мужество. И над ними – память, память, память. Тот Кавказ, который никогда не уйдет». Катерина Канаки, Греция.
«А я верю, что могущество духа Кавказа вернется. И голос настоящей Вашей поэзии поет ему славу. Такие, как Вы, возвращают ему честь. Столько в его истории величия, и величия в природе его, красоты в известных миру сынах и дочерях, что с любовью желаешь выздоровления». Ирина Безрукова, Приморье.
«В моих глазах у Кавказа – твое лицо. Я верю вместе с тобой – если у Кавказа есть такие дочери, то будут у Кавказа и здоровые дети. Ты не молчишь, ты противостоишь уничтожению доброго имени Кавказа…Ты упорно даешь импульсы к новому мышлению, к переосмыслению и осознанию. Ты взываешь голосом земли прародителей ко всем, кто способен слышать. Я желала бы, чтобы твой голос услышали и те, кто не желает». Лолитта Новак, Германия.
Сколько их, этих посланий солидарности, сочувствия и восхищения на сайте Мариян Шейховой! Они – свидетельство того, что может один человек, если свою родину, свою боль и тревогу вписывает во вселенский масштаб, избегая обособленности, «эксклюзивности» национальных проблем. И тогда чья-то локальная боль становится всеобщей. «Горечь, боль, скорбь, тревога – симфония звучащей Поэзии. Я нахожу в ней звуки души своей», — откликнется Рута Марьяш из Латвии, а на стихи Мариян «Здесь в ад никто не сходит, — в нем живут» Галина Докса из Петербурга напишет: «Грозные, бунтующие строки. При чтении их сжимаются кулаки»
Эти отклики – ответ на наши долгие попытки создания привлекательного имиджа Кавказа: пока идут кондовые мысли, мертвые проекты. А ведь ничего не может быть плодотворнее в этом смысле, чем общее культурное пространство. Политики лишь конструируют эпоху, люди культуры фиксируют ее, связывая события в пространстве и времени. Через их творчество прошлое подпитывает настоящее, и вместе они указуют ориентир будущему. «Распалась связь времен, и в этот мир заброшен я, чтоб все восстановить», — так Шекспир устами Гамлета определил роль личности в истории культуры.
Молчание кавказской культуры затянулось. Слово и образ больше не формируют реальность, инициативу создания смыслов и ценностей перехватило оружие. Слепые ведут слепых. Опасно пускаться в путь по горной дороге, не зная, куда она приведет. В конце ее может ждать пропасть. Проторенные предками тропы заросли, новые не проложены. Определение маршрута невозможно без Духа поиска. На его пробуждение почти не осталось времени. Уже «нет родины для тех, кто в ней рожден, И тот, кто полон сил, ума, стремлений, Искать чужбины будет обречен», «нет юношам дорог и множество сетей грозит цветенью новых поколений Отчизна».
О, где укроют матери детей,
Когда их здесь уводят на закланье,
А там готовят к тяжким испытаньям,
За то что речь чужда и цвет волос темней?
Прости, Кавказ, за то, что скорбью ада
Наполнился твой дом. Но есть одна отрада:
Дух поиска твоим огнем рожден.
Это даже не поэзия в обычном ее понимании. И слово «лирика» здесь менее всего уместно – оно звучит каким-то бестелесным определением жанра, избранного Мариян Шейховой. Ее «Диалоги с Данте» — скорее философские трактаты и политические памфлеты. «У Ваших стихов совершенно особенное звучание – мощное, насыщенное силой. Впечатление силы Микеланджело — такие монументальность и драматизм образов, трагические ноты Голоса! Вы лепите в читателе новое пространство», — так определит своеобразие цикла в интернет-обсуждении Ирина Безрукова.
«Здесь перемен нет даже и помина. Мельчает дух? – И это не впервой. Все так же к власти страсть неистребима, И так же платят подданным с лихвой Решения бессмертных феодалов: Распродано жнивье и урожай склевало Воронье. – И только воздух мой».
Цикл «Диалоги с Данте» — самый дерзкий замысел Мариян Шейховой, ибо велик риск потеряться рядом с тем, кого провел Виргилий по всем кругам ада. Но кто же еще мог стать ее собеседником в монологах о Кавказе, где «в ад никто не сходит – в нем живут? Здесь пыткой похищенья и тюрьмой Твердыни гор и реки отравили, Выпрашивают матери с мольбой своих детей и обмывая раны обманутых сынов тоской Корана, как боль земли стоят передо мной». Анализировать этот цикл почти невозможно – перехватывает дыхание. Имеющий разум и сердце переживет тот же катарсис, что и сам автор. Самое неподвластное объяснению – то, как рождался этот цикл: стремительно, почти день за днем, выстраивались диалоги. Скорость таких мощных эпических выбросов за пределами рационального понимания. Как будто сам Данте водил рукой поэта: тридцать три драматических сюжета, тридцать три диалога, завершившихся последним «Когда Виргилий мне являл воочью», в котором голос был: «Открой печаль своей земли и дух непобежденный»; «открой скорбь горестной земли, ее заветы»; «и плач младенца слыша за спиной, в стихах отозвалась земле родной». И услышали в Израиле, Казахстане, Австралии, Германии, Греции, Чехии, в российских городах. Только Дагестан пока не слышит голос своего Поэта. Воистину нет пророка в своем отечестве. Подлинная боль становится общей. Любовь к своей земле всегда в цене, поэзия вненациональна. Поэтому цикл ошеломил ее постоянных интернет- читателей. «Ваша поэзия – это явление культуры…. Это страница истории культуры и Кавказа, и всечеловеческой». « «Какая величественная, провидческая поэзия. Такой Кавказ прекрасен – «органной мощью горы дню внимают, рождая песнь высокого искусства». «Корни мировой поэзии шумят кроной твоих стихов над родным тебе Кавказом», «Чем твой цикл действительно замечателен – что он не только к Кавказу обращен. И такие ты скорбные вещи говоришь, находя для них не слова-вздохи, а экспрессивные слова — цвета.
Да и только ли о Кавказе стихи Мариян? Время раскололо мир не только по нациям и религиям. В 21 веке плоть победила Дух, цивилизация поглотила культуру, а именно Дух культуры скрепляет человеческую общность. Сумеем ли подняться над своей духовной немощью и разобщенностью? Кто из имеющих разум и сердце не обеспокоен сегодня этим судьбоносным вопросом? В чем найти опору? Как удержаться на плаву народу, если корни подрублены? В этом смысле Кавказ уникален. Истории удалось срубить на его стволе только ветки, сама корневая система мощно вросла в землю. Только поэтому кавказское древо жизни еще зеленеет: оно питается соками традиции, так мощно законсервированной в нашей генетике.
***
Эта живучесть Кавказа, его открытость, настроенность на диалог, как бы это парадоксально сегодня ни звучало, всегда притягивали людей долга и служения. К сожалению, чаще всего они приходили сюда дорогами войны. По дорогам кавказских войн последних десятилетий прошла Эльвира Горюхина, педагог, журналист, автор книг «Путешествие учительницы на Кавказ» и «Не разделяй нас, Господи, не разделяй!»
Книги Эльвиры были изданы маленьким тиражом. Мариян решила, что человеческий подвиг удивительной русской женщины, ставящей выше всех регалий звание учительницы, и правда о войне должны стать известны как можно большему количеству людей. Так родился цикл «Путешествие русской учительницы на Кавказ» как компактное переложение отдельных рассказов Эльвиры формой белого стиха.
«Это моя боль и мой стыд — говоришь ты, — и на седьмом десятке лет идешь странницей по военным дорогам Чечни, Ингушетии, Грузии, Абхазии, Осетии. Идешь к неизвестным и чужим тебе людям, чтобы протянуть руку и сказать: «Здравствуйте. Я с вами». Маленькая русская женщина, учительница русской литературы, ты для меня – символ великой России, ее огромного сердца, ее бескорыстия, ее сострадания, ее терпения, любви и веры. Там, где ослепшая мощь государства пропускает через жернова человеческие судьбы, ты стала прибежищем Бога, скрывающегося от тех, кто его именем на исходе 20 века резал горло своему брату».
Обе книги Эльвиры Горюхиной звучат как покаяние русской женщины за содеянное государством именем ее народа. Русский солдат Саша, принявший ислам в Чечне, «заговорил о грехах народа, к которому принадлежал. — Вы были когда-нибудь в Самашках?» — спросил меня Саша. – Вам не было стыдно, что вы русская? – Хотя надо отделять действия народа от государства, я сказала: «Да». А разве нет вины самих кавказских народов за варварство, допущенное на их земле? Конечно, Эльвира понимала это, но нравственная щепетильность не позволила сказать то, что должен был произнести кто-то из самих кавказцев. Лишь однажды она деликатно написала об этом: «Ощущает ли чеченец свою вину в том, что происходит на протяжении веков с его народом? Спросить об этом невозможно, когда видишь разоренный дом, убитые горем лица. Но блуждая десятилетиями по горячим точкам, я заметила: уровень самосознания отдельной личности много значит для судьбы нации». Среди ее героев были те, кто понимал, что случившееся есть самоуничтожение. «Покаянные слова на дорогах войны дорого стоят», — пишет она, приводя стихи неизвестного чеченского поэта: «Как состарившийся волк, облезла ты, Чечня. Как заброшенный участок земли, заросла ты. Взрывами и орудиями разрушена ты, Чечня. Обманом и клятвопреступлением поражена ты. Когда на земле делили честь — тебе досталась война, Когда делили море учености — тебе досталась шашка. Напугав собой весь мир, ты всем стала кровником. Пока молилась на волков, сама одичала…» Это лишь малая часть подстрочника.
Один из интернет — откликов заставил Мариян изменить первоначальный замысел. Русская женщина из Москвы написала: «Простите, я не понимаю ничего в Кавказе и в войне, но вот не сходится у меня картина. Уж если понимать, то давайте всех. Потому что того разделения на людей, надевших форму, и на мирных жителей в партизанской/народной/бандитской войне, нет. А коли так, то и мирных жителей тоже нет… Все правы и все хороши, и только страшные офицеры российские хуже людоедов, и вот, простите, не верю, упорно кажется оно мне полуправдой, страшной, несмягченной, но неполной и искажённой. Я буду ждать». И тогда рассказы Эльвиры Горюхиной Мариян завершила прямым обращением к ней: «Эльвира… Вершины Кавказа ослепляют меня, чтобы я не видела раны, нанесенные ему сыновьями, алчными, жестокими убийцами, захмелевшими от человеческой крови и распутной свободы. Это моя боль и мой стыд.
Эльвира…. Слушая шум горных рек, я не могу объяснить им, как матери Чечни спокойно проходили мимо зинданов, выстроенных их сыновьями. И я не могу объяснить, молоком каких матерей вскормлены те юноши в Дагестане, которые каждый день расстреливают своих братьев. Я не могу смотреть в глаза матерей, чьи сыновья одели их в черное. Это моя боль и мой стыд…
Когда на экранах государственных каналов день и ночь обожествляют телесность и разрушают национальный дух, не удивительно, что зло рождает зло в стране, забывшей, что у нее есть великая культура, в стране, честь которой пока еще спасают учителя русской литературы. Эльвира, кто это остановит? Чья это боль и чей стыд?»
И Надежда из Москвы снова откликнулась: «Мариян, теперь этот цикл и правда закончен. Потрясающей силы слова, к ним не надо ничего добавлять, а только молчать, чтобы их эхо слышать до боли в сердце».
***
.
Как рождается первая строка? Откуда являются Вам сюжеты?– спросила я Мариян.
— Я еще ничего не знаю, когда сажусь за белый лист бумаги, но чувствую, как будто кто-то ждет меня. Такое ощущение, что вокруг моей головы собрались слова. Они живые. Они словно ждут первую строчку, и когда я беру верный тон, я чувствую их облегчение. А дальше стих идет сам.
В «Диалогах с Данте» каждое стихотворение начинается со строки самого Данте: «Скажи, в Романье мир ли война?», или «Где сын мой? Почему он не с тобой?», или «Зачем они несчастны, мой учитель?» Дальше они потянули за собой все стихотворения цикла.
Пиросмани- это мой потерянный кавказский рай. Тридцать лет назад я купила книгу о нем, и с тех пор ни разу не взяла ее в руки. А сейчас начала читать и поняла, что время встречи с Пиросмани пришло. Мне уже было чем ему ответить. Этот одинокий, нищий человек создал свой красочный, радостный мир, которого сегодня так не хватает нам. Этот мир можно создать в себе самом. Он знал тоску и боль, но даже их раскрашивал в яркие цвета. Так появился цикл о Пиросмани. Я писала о том, как можно быть несчастным и счастливым одновременно: «Истекает бурдюк хлебосольем и форель в серебре нежно тает, Кукурузной лепешкой луна заглянула в чужое окно. Маляра не искали, батоно? Солнце сходит в пустые ладони, Чтобы черное небо печали превратить в золотое руно».
А вот цикл «Камни моей родины» сложился неожиданно. Там много стихов, написанных в разное время. Некоторые из них я никогда бы не решилась предложить читателю еще год назад. Это очень личные стихи. О моей старенькой маме, которую до сих пор мучают воспоминания о ее тяжелой жизни. «Сегодня, когда она опять будет склоняться над венами, в которых после инсульта каждую ночь тромбо АСС разжижает стынущую кровь, над руками с раздувшимися суставами, которыми она на восьмом десятке лет пишет арабский алфавит детским падающим почерком, я знаю – в это время за ее спиной со склоненными головами будут стоять ангелы, которых становится все больше и больше. И я буду прятать от них глаза, потому что, выучив алфавит в пять лет, я не знаю ни их имен, ни своего прошлого, ни своего языка». О своем отце, трагически погибшем тридцать лет назад, «который так и не понял, что ходить с кинжалом, носить черкеску и любить коней нельзя в двадцатом веке, что дух не должен быть таким жестким, поэтому дети не помнят его лица». Теперь я не стесняюсь писать об этом, потому что эпос времени это и есть маленькая человеческая судьба. Я хочу услышать, как звучит в горах выражение «любовь к родине». Вслед мне смотрят старинные плиты кладбища, где покоятся прах великого ученого Муххамеда Убри и тени моих предков. И тогда стихи об этом сложились в цикл «Камни моей родины»
«Я хочу быть маленьким камешком в ладонях твоих желаний, о моя усталая родина!» — так скромно определила свою роль в поэзии Мариян Шейхова. А стала вровень с ней. А потом, словно усомнившись в своей надобности родине, она горько произнесла: «Продано, продано, продано. Преданных просят уйти. Родина, родина, родина, Нет к тебе больше пути». Но перо само отделило родину от тех, кто ею правит: «Лекари, пастыри, лидеры… — сколько овец и братвы. Заказчики, скупщики, киллеры – «элита» несчастной страны». Словно обуздывая громкость своего голоса, она произнесла: «Звуки — мальчишество речи, горы не требуют слов». А голос снова прорвался и завершил стих: «Забвение речи – рабство, жизнь без памяти – пыль».
И в этом есть великое таинство поэзии, когда пишущая рука только начинает первую строчку. Дальше ею водит уже нечто, что объяснению не подлежит. Как сказал Александр Блок: «Поэт приходит, чтобы всему дать свое имя».
Сулиета Кусова
Николо Пиросмани
Пир вселенский
Медно-желтая земля трубным звуком в бой зовет —
Эркемали*, оглянись.
Цепь хозяина крепка, рог крутой по небу бьет —
Пой, Тифлис.
Бой баранов – пир вселенский, зуд в подпиленных рогах,
Откормили, опоили – барабаны выбьют страх
На лугу овечка бродит,
За собой ягненка водит,
Первой травкой машет высь:
Эркемали, оглянись
Черный глаз барана ярче алой удали толпы,
(Эркемали, отзовись!)
Бьются лбы, теснятся рьяно в дикой ярости мольбы
(Эркемали, сторонись!)
На арене – бой баранов, бьет хозяин чужака,
Цепь свободна для удара, кровь темней у вожака.
***
На лугу овечек в белом
Ночь упрятать не сумела.
У потехи – долгий час,
Время прячет красный глаз.
Спят пасхальные ягнята,
Ночь раскаяньем объята.
Бой баранов — гнет рогов,
Ночь и утро — кровь и кров,
Кров и кровь,
Старь и новь…
____________________
*Эркемали – трехлеток, бойцовый баран
Шамиръ са свего карауломъ
Горы снегом заковала хищной удалью клинка
Рука.
В клочья небо разорвали, в реки сбросив облака —
Века.
Взмах кинжала – пропасть в черном, кручи- каменным кольцом —
Гром.
Саблей горы рисовали, скалы высекли резцом —
Дом.
Две мечети с минаретом, полумесяцем – петля, трое в черном, в несогретом, в белом — тайна Шамиля, борода, папаха — чернью, тенью — ружья за спиной, над обрывом потемневшим караул стоит стеной. Там, поодаль, смутно тают крыши сакли, чтоб аул в тайной думе ожиданий над печалью снов вздохнул. Миг раздумий в черно-белом, над обрывом ждет имам, горы тонут в светлом, в светлом, свет струится по горам. Лошадь движется по кругу, ждет приказа тишина. Жест короткий и упругий — черным двинулась война.
Тенью лица штриховали, шрамы вывели свинцом,
Камнем тени провожали, свет хранили чабрецом.
Небо – в белом, землю — в белом нарисуй опять, Нико,
Миг раздумий будет белым, как парное молоко.
Из-под белой перевязки каплет красная петля, к сапогам, от крови вязким, черной данью льнет земля, спи, могучий, белый витязь, воин, горец, спи, солдат, белым саваном прощанья дни прощения летят, обними, ушедший, память — нерожденное дитя, чтобы винной каплей славить долю скорбного питья.
Он только во сне золотистый
Он только во сне золотистый – три птицы кружатся над ним,
Трава изумрудным батистом скользит, словно сказочный грим.
Мой тезка, Жираф цветоносный,
Весь в пчелах, в занозистых осах —
Он только во сне золотистый – три птицы кружатся над ним.
А явь колыхалась травою и синью небес растеклась,
Волнистой, как воздух, тропою, забытой, как кроткая бязь.
Мой тезка, Жираф черно-белый,
Пятнисто-напуганным телом
Серпами зрачков оробело
Навстречу шагнул корабельно,
А явь колыхнулась травою
и синью небес растеклась.
А черное – было, и белое есть, и солнце мне больше не снится,
Послал мне художник далекую весть, простую, как платье из ситца,
И грация зверя качнулась углом,
И быть ему явью, и быть ему сном,
В изгибе хвоста улыбался питон,
И шейная боль обвивала винтом,
И в яблоке глаза дрожащий затон
Округло роняет ресничный бутон…
Нет у ответа вопросов. Здравствуй, Жираф золотистый,
Бархат спины пятнистой тронет рука моя – пристань
Яви и сна
Кисти.
Да здравствует хлебосольный человек
Да здравствует хлебосольный человек!
На скатерти его ожиданий
Соль вырастает до солнца.
Лучи погружаются в пену
Туманных волнений утра.
Кланяюсь новому дню.
Махаробели, махаробели,
Овцы с травинкой во рту оробели.
Алая лента, на черном — трава.
Да здравствует хлебосольный человек!
Олень на кончике взгляда
Испариной чует утро.
По обе стороны двери
Зияет белая скатерть.
В поклоне немеют уста.
Махаробели, махаробели,
Сердце овечки бьётся форелью.
Ручка кувшина тепла.
Здравствуй, хлебосольный человек!
Солонка на скатерти белой
Последнее слово знает.
Сына встречай и помни:
Вкус поменяют вИна.
Кланяйся новому дню.
Махаробели, махаробели,
Землю веселым напитком согрели.
Просят ладони хлеба.
Сладко ли быть травою
И, расстилаясь в вечность,
Встретиться с саблей ветра?
Чашей бездонного блюда
Небо дождинки кормит.
Ах, как хлеба всходили…
Махаробели, махаробели,
Горы под тяжестью снега осели,
Махаробели…
_________________
Махаробели — (груз.) вестник радости
Мимо белого духана
Мимо белого духана мчатся кони, как во сне,
Вечер в небе полыхает, словно ягода в вине,
И деревья озорные гнутся гибко, как лоза,
У кутил усы шальные и суровые глаза.
О чем споет им Маргарита, взлетая в белом над землей?
Что не случилось — то забыто, что было — хлынуло волной.
Прими блаженство неземное поляной белых роз к ногам,
Рисую красками, как жизнью, чтоб возвратить ее богам.
Блики желтого скольженья, взлет над зеленью холма,
Черным высится возница, в тень упрятаны дома.
У кутил серьезны лица — сердце держат на замке,
Руки вскинет Маргарита, словно птица, в кабаке.
О чем поет им Маргарита? Бровь полумесяцем летит,
Земля букетами укрыта, а кисть ласкает и горит…
Прощай, неведомый художник, луна взметнулась нотой «си»,
Шарманщик, горести виновник, у песни слова не проси.
…Мимо белого духана мчатся кони, как во сне,
Бредят руки кистью белой, красной плачут о вине…
Мрак подвала, пол холодный, груда битых кирпичей,
Вздох последний… крошку хлеба…никому… никто… ничей….
Янтарный шарик на запястье, и в стайке желтых птиц — лицо,
У белых роз — права на счастье, у невозможности — кольцо.
Не пой о прошлом, Маргарита, в ладони пряча лепестки,
Душа прощению открыта, но нет спасенья от тоски…
Ты — самое большое чудо Божье
Кто-то скупил на корню пять садов целиком, пять садов —
От застенчивых роз до безумных камелий и лилий.
Над поверженной ночью селений, огнями больших городов
Он читает любимой стихи, он читает Бараташвили.
«Ты — самое большое чудо Божье»,
От ожерелий глаз светло, как днем.
Нет рук нежней, улыбки нет дороже,
Нет большего блаженства — быть вдвоем
Кто-то увидел навек — и повержен, повержен печалью,
Осторожные скрипки запнулись, и цветы эту песнь завершили.
Над Мтацминдой — горой голоса, как цикады, звучали —
Маргарита, послушай Нико: он читает Бараташвили.
«Ты — самое большое чудо Божье».
Как угадал поэт мои слова?
Я до утра не жизнь, а песню прожил,
Осталась на столетия молва.
Кто-то скупил на корню пять садов целиком, пять садов,
Лепестками смущенных камелий цветы о надежде молили.
Над молчанием спящих селений, огнями больших городов
Он читает любимой стихи, он читает Бараташвили.
«Ты — самое большое чудо Божье»,
Распахнут мир сиянью карих глаз,
Нет ничего любви земной дороже,
Нет никого вокруг счастливей нас.
Ты — самое большое чудо Божье…
Ты самое большое чудо Божье…
Ты самое большое чудо Божье…
Четыре лилии на черном
Четыре лилии на черном, на белом — женская рука,
Над бурой пашней дышит паром усталость спящего быка.
Спят ортачальские мадонны, и оголенных плеч тепло
Ягненком белым на колени вздремнувшей ночи прилегло.
Птица желтая в бубен бьет,
Осень сотая мед нальет.
Заходи в мой дом, Солнце красное,
На пиру моем небо ясное.
В мускатных гроздьях винограда тучнеет жертвенно река,
Алеет винный язычок над горловиной бурдюка,
И скатерть таинством травы легла под тени песнопений,
Лучи закатные запнулись о белоснежные колени.
Заходи в мой дом, Солнце красное,
На пиру моем небо ясное,
Дрогнет ночь от птиц
На плече моем,
Будем крылья шить
Мы с тобой вдвоем.
Прощаю — белым, красным — плачу, а желтым — рушатся века.
Четыре лилии на черном… Какая в зрелище тоска…
На небе — только небо в белом, на черном — почва и цветы,
И день доверчиво глядится в полет звенящей темноты
Птица желтая утро пьет,
Осень верная хмель нальет,
Дрогнет ночь от слов —
День расступится,
Я сорву покров —
Свет потупится.
Заходи в мой дом, Солнце красное,
На пиру моем небо ясное.
Я в три цвета люблю
Дай клеенку, тифлисский духанщик, — разбитая скрипка смешна.
За окном уплывает мой век, запряженный верблюжьей печалью.
Я в три цвета люблю и в три песни скучаю, княжна,
В ожиданьи холстов над слонами из охры дичаю.
Ах, духанщик с усами лихими, зачем тебе львы?
За порогом толпятся овечки в ожидании рук торопливых,
А орнамент белеет на пяльцах, а пальцы нежнее халвы…
О, простите, княжна, живописцев голодных и льстивых.
Черной костью пишу и зеленой землей, серой пылью от неба укроюсь,
Рог ветвистый на вывеске блекнет, а лаваш истончился, как нож.
У духанщика щепки в горсти — я со временем, пери, не ссорюсь,
И в три цвета кричу, да в три песни молчу, чтоб продать свое солнце за грош.
Я в застолье попал на века, виноград в Мирзаани янтарен.
Продавец моих дров над жирафом смеется — я рад,
Уплывает олень, князь поет над пирами развалин,
И пасхальный ягненок оплачет щедроты утрат.
О, простите мой дым.. этот старый мангал.. о, Нино,
Твои печи полны благодатного жара и тени…
Разве хлеб выпекают еще? .. разве льется вино?..
Разве есть еще миг, чтобы плакать в чужие колени…
Восхождение
Вереница белых звуков в рог охотничий трубит,
Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица спит.
Восхождение дымится, рог ветвится до небес,
Между пнями бродит пьяно голубой, как утро, лес.
Дом без кровли, конь без сбруи,
Пой, Нико, и пей до дна,
Утро льет в ладони струи
Пенной прыти молока.
Ветерком трава играет, перекатываясь всласть,
Две косули в поле тают, воды сбрасывает снасть,
Бьет серебряная рыба воздух росписью хвоста,
По воде рыбак шагает, улыбаясь неспроста.
Ночь без дня, а день без ночи,
Пой, Нико, и пей до дна.
Краски с неба льются звонче
Алой повести вина.
Непричесанное солнце львенком нежится во сне,
Ломтик дыни прячет нежность у оленя на спине,
Сбросят краски покрывала, схвачен заяц синевой,
По отрогам Авлабара бродит мальчик сам не свой.
Дом без кровли, ночь без дома,
Пой, Нико, и пей до дна.
Жизнь — предсмертная истома,
Смерть — рожденье и судьба.
Прощание с оленем
Прохладу белого с синим ловит зигзаг коромысла,
Солнце распишет лучами сорванный с неба день.
Нет в оперении тайны, в тени нет спящего смысла,
Шею земных желаний к водам склоняет олень .
Снова кормилица в белом
Держит кулич пасхальный,
Вырос ягненок спелым
И уронил дыханье.
Копья охоты безглазой гриву травы догоняют,
Замер на линии слуха в небо летящий тур,
Лани недремлющим ухом русло реки укоряют,
Мальчик взмахнет хворостиной, желтым заплачет чонгур*.
Руку ищи на сердце,
Белым земля ответит.
Мальчик откроет дверцу,
Всадника встретят дети.
Выбежит пес навстречу, мальчик откроет калитку,
Черный пунктир дороги листает ржавчину сур.
Смотрит олень удивленно, как уплывает рыбка,
Млечным путем уходит в звездное поле тур.
Снова женщина в белом
Вскинет над полем руки,
Станет младенец телом,
Чтобы уйти от разлуки.
___________________________
*Чонгур- струнный музыкальный инструмент
Возвращение Оленя
Щекой к щеке два персика на блюде, разгульный рог по кругу брызжет алым —
Я готов тебя пить, кахетинское солнце, плыви!
Освежающий дождь из зеленого лука, редиска — как связка кораллов,
И ликующий свет виноградных напевов в крови.
Вазиани, Мукузани, Цинандали,
Гурджаани, Мелаани, Мирзаани
А-я-я,
А-я-я,
оооооо
Бродит в марани* вино.
Чуреки полумесяцем на блюде, плывет хоралом рог, искрятся рыбы,
Кахетинские реки прольются в застолье дождем.
На ореховых листьях мацони, сулгуни, унаби* —
Вновь Саркиз наливает вино над победным, как охра, жнивьем.
Молочник, жестянщик и дворник,
Крестьянин, духанщик и шорник-
А-я-я,
А-я-я,
ооо
Лучший кутила – кинто*.
Баранина, припудренная перцем, под барбарисом празднично дымится,
Щекочет ноздри воздух песнопений, мастеровые знают ремесло.
Назначим встречу на земле — плывут подносы вереницей,
В твои владения, художник, нас дивной кистью занесло.
Сапожник, угольщик, возница,
Маляр, лудильщик и певица —
А-я-я,
А-я-я
ооо
сытым не ходит никто.
***
Пирамида сыров в помидорной осаде, как столетье, грозится распадом,
В кахетинские травы осенние листья летят.
Светлый угол в подвале сниму, а пока разделю солнце с братом,
Над щекастой тоской зурначей опьяненные птицы кружат.
У лисицы — нора и у птицы — гнездо,
У косули — родник, у Тифлиса — Нико.
Грациозно верблюды бубенцами звенят,
Мясники на майдане обнимают ягнят.
Истекает бурдюк хлебосольем и форель в серебре нежно тонет,
Кукурузной лепешкой луна заглянула в чужое окно.
Маляра не искали, батоно? Солнце сходит в пустые ладони,
Чтобы черное небо печали превратить в золотое руно.
Онемели уста и глаза широко распахнулись,
Над вершинами гор на прогулку выходит Олень.
Донна Анна права — пусть всегда возвращается Улисс,
Ибо к ночи навстречу спускается день,
Ибо белым хранит трава одолень,
Ибо сходятся руки за тостом в кругу,
Ибо белое утро в ночи стерегу,
Ибо озеро спит на росистой траве,
Ибо песня моя о тебе, о тебе…
__
Марани – (груз.) — винохранилище
Унаби — плод наподобие фиников
Кинто- бродячий торговец, балагур, остряк
Выступление Нико Пиросмани на заседании Общества художников Тбилиси 1916г
Братья!
Построим дом деревянный,
в сердце города – дом без затей.
В нем большой самовар — от веселия пьяный
и счастливый от новых гостей —
на столе будет жаром дышать, горячиться,
а вокруг – лишь друзья, лишь любимые лица.
Пусть за чаем горячим поведает каждый,
как от красок вокруг обезумел однажды.
Об искусстве вести разговоры – услада…
О чем я? ..
……
Простите…
…….
Кому это надо?
…Да, да…
Пропустите,
братья…
Камни моей родины
Каменный триптих
Есть ли кто здесь?..
Тишина оседает на крышах,
глиной першит между стен и струится песчаной тоской.
Молчаливая весть
поднимается выше и выше
и ищет свой камень, чтоб вымолить вечный покой.
Пчелиные соты в засохшем меду
на ветру рассыпаются пылью —
это сакли лепные дремлют в ладонях вершин.
Эге-ге-гей!.. Есть ли кто здесь? ..
Только скалы клубятся былью,
Да травами лечит ветер морщины глубоких лощин…
***
Здесь хлеб с чабрецом не пекут и дым не горчит над селом,
Убринские жены кувшин к роднику не поднимут на плечи.
В пахучие травы коровы не ткнутся шершавым теплом,
И вечер не выйдет навстречу отарам овечьим
Под говор реки и напевы родной лакской речи.
Был ли кто здесь?..
Постаревшая нежность, затаенная в камне, стынет в горсти,
на губах запорошенной пылью последний горчит поцелуй.
Примет ли высь запоздалое слово «прости»,
когда скорбь переполнит молчанье святой Вацилу,
чтоб отчаянье дней провести бороздой по лицу?..
Будет ли кто?..
***
Звуки — мальчишество речи,
горы не требуют слов,
здесь говорящий увечен,
как конь без подков.
Звуки — воинство речи,
молодость древних слов —
памятью раны лечат
и возвращают кров.
Материнское слово,
здравствуй!
Живи, отцовская быль.
Забвение речи — рабство,
Жизнь без памяти — пыль.
___________
* ВацилУ- священная гора в Лакском районе Дагестана
Аулов лакских имена…
Аулов лакских имена стучатся памятью былинной,
В них жажда выси и огня и мука доблести старинной:
Кази-КумУх, АхАр, БалхАр, ХосрЕх, ХанАр и ХурукрА,
ЧуртАх, ВиртАх и КамахАл, ТухчАр, ХайхИ и Хулисма…
УбрА…
В них эхо верного собрата и гордый зов через века,
И хрип предсмертного заката, сталь амузгинского клинка,
КатрУх, ХурхИ, БухцанахИ, Убра, КубрА и СухиЯх,
ЛахИр, ВихлИ и ХанахИ, УрИ, ЧуртАх и ГамиЯх…
Убра…
И древней стойкостью развалин, и гордой вздыбленностью гор
Звучат названья перекличкой судьбе людской наперекор:
ШалИ, ШовкрА, ШунИ, ЩарА, БуршИ, ЦущАр и ШушиЯ,
ЩаднИ, ЦийшА и КарашА, КацрАн, КуцИ и ШахувА,
Убра…
О, исчезающие звезды, святые россыпи камней,
О, родников звенящих грезы и жажда брошенных коней!
Мольба несдавшихся развалин, самостояние корней-
Их имена – благословенье и зов летящих журавлей —
КанИ, КукнИ, КурклИ, КурлА,
ЧукнА, ЧарА, УллучарА,
Убра…
Это твое Макондо
Не пашет раб землю, за плугом не ходит, не сеет,
По воловьим следам тоскует в полях чернозем.
Бурый день, как отшельник, по оврагам дымится и тлеет,
И ущелья с тоскою глядятся в небесный проем.
На крыше мама с кувшином
День с молоком взбивала,
Желтое масло в лощины
Густо стекало.
В спину толкает ветер, тминной обидой веет,
На подошвах крестьянских ног уносим останки земли,
Станут ладони мягче и души чуть-чуть слабее,
Чтобы не слышать, как в поле ищут зерно ковыли
Мама в хлеву пахучем
Корову травой кормила —
Чабрец на зеленой круче
Не знает ила.
Старый Сурхай за оградой землю костями греет.
Кладкой речного камня сакля глядится в Койсу*.
Это твое Макондо в чреве у времени зреет,
Чтобы кормить тобою памяти пыль и тоску.
Посохом были тропы
И колыбелью горы,
Ты не услышишь ропот —
Камни укроют поле.
________
*Койсу — горная река в Дагестане
Камни моей родины
Разбросанные там, где нет запретов,
как вы счастливы возможностью
смотреть вверх
и видеть бесконечность щедрого неба.
Это единственное место, куда вы не можете упасть.
Ваше молчание
может высекать искры,
когда вас сталкивают лбами.
Хранимые в ладонях, чтобы ударить после ощущения тепла
и вынимаемые из-за пазухи на холод,
почему так часто падаете к ногам
удивленного человека?
Настигая его бьющееся сердце
или попадая между его лопатками,
почему не занимаете освободившееся место,
уступая его сквозному ветру,
не оставляющему щелей
там, где нет корней?
Приникая ребром к груде своих собратьев
или храня одиночество в пустыне
чужих желаний,
умеющие всегда оставаться собой
и ценить свободу ожидания,
почему вы строите крепости
для тех, кто рушит дома?
Умеющие быть такими маленькими,
чтобы умещаться на ладонях человека,
превратившего мое сердце в развалины замка,
почему храните его право
бросать вас в спину моей любви,
строящей новые замки
на песке, никогда не знавшем
вашей тяжести?
Ваше молчание
напоминает мне надгробные плиты
на старинных кладбищах лакцев,
оставивших мне в наследство
искусство резьбы на клинописи ветра,
искусство насечки на серебре стали,
и тайну слезы, запертой в темнице глазниц,
слезы, знающей единственный способ увидеть этот мир,-
разделить с вами возможность смотреть вверх
и видеть бесконечность щедрого неба.
Это единственный способ не упасть.
Я хочу быть маленьким камешком
в ладонях твоих желаний,
о, моя усталая родина!
Прощайте, вчерашние братья
Прощайте, вчерашние братья!
Легка ли была дорога?
Чабрец придорожной ратью
Приник к пустоте порога.
О чем ночью птицы пели,
И кто их теперь встречает?
В Убра пусты колыбели,
Лишь ветер траву качает.
Ночь гложет слоистые скалы
Над кладом руин и камней,
Старинные плиты устало
Встречают остывших гостей.
Их лбы холодны, как стража,
И путь стерегут ветра.
Для родины смерть не кража —
Последний поклон Убра.
Убра
Черепки родной речи в ущелье Убра собирала,
на тминных кустах поскользнулась,
за чабрец ухватилась рукой.
Всего-то — трава,
над обрывом в горах удержала.
… Я с тех пор потеряла покой.
На этом высохло перо
«На этом высохло перо»- старинный акт закроет тяжбу.
Арабской вязью крепит предок времен тончайшие пласты.
Неторопливость слов старейших, седая стать кавказских кряжей
Смирили распри навсегда меж Шангода и меж Бухты.
Чеканно ввысь уходит след завета:
«Во имя милосердия Аллаха, —
Что сотворил на тесноту — свой выход,
На каждый труд- забвенье и покой,
В присутствии Мухаммада, Салмана и Исхака
Скрепляем силу Слова на столетья,
Провозглашаем общее владение дорОгой
И закрываем рознь своей строкой.
Да будет мир по воле Сурхай-хана!
Я, Усманбаг, Хаджимахмуда сын,
Скрепляю мир согласием сторон,
Веленьем сердца и порукой брата.
Храни, Всевышний, каждое село!»
Заветы предков — как строка Корана,
Как семя в ранах свежей борозды.
Звучи в горах, незыблемый Закон,
Стучи в сердца, как точка невозврата:
«На этом высохло перо».
Договор общины селения Убра
И рукопись Мухаммада Убри,
И кладбище, заброшенное в небо
Громадой гор, хранящих зов зари,
И быль веков, отправленная в небыль, —
Спят в узловатых думах воскресенья,
Чтобы сберечь былое от забвенья
И передать потомкам джамаата*
Свободного Убра его адаты
С отвагой друга и любовью брата:
«Да сохранит Всевышний от раздоров обитель предков – гордый дух Убра!
Чтоб защитить селенье от поборов, от козней хана и его раба,
Долг каждого убринца – встать стеной. И если он убьет врага иль ранит —
Ответит джамаат перед бедой. Кто договор не выполнит, обманет,
И с поля брани спрячет свое тело — тот в пользу общества отдаст быка.
Пусть доблесть всех равняет в общем деле. Кто договор отринет свысока,
И сдаст быка без боя, добровольно — того лишить на годы, на века
Полей и пастбища за слабость своеволья, имущества. – Пусть будет жизнь легка
Тому, кто крепость единенья счел тяжестью перед землей Убра.
Да сохранит Всевышний от сомнений в делах защиты правды и добра».
***
Мой дальний предок дерзость проверял
Высоким помыслом и равенством ответа.
Ныне
Хранит Убра, уснувшее в руинах,
Кладбищенское воинство камней.
Нет ближе неба, нет земли родней, —
Напомнят нам старинные заветы.
_________________
* джамаат — вольное общество крестьян-горцев
Договор общины квартала Цувади
В тот год в аулах правила чума
И ханские пиры лились бедой.
Чтоб мир не поглотили брань и тьма,
Скрепляя бремя жизни чередой,
В Кази-Кумухе собралась община
Квартала Цувади.
И было решено в кругу мужчин,
Единством братьев преданных свободе,
Хранить свой дом и с думой о народе
Презреть пиры тщеславия тиранов.
Так на страницах мудрого Корана,
Венчая Слово, за свой дом в ответе,
На вечное хранение в мечети
Оставили потомкам соглашенье
Старейшины,
Презрев поклон прошений:
«И будет так: Во имя милосердия Аллаха,
До окончанья смертных в судный день,
До воскрешенья каждого из праха —
Не будет хан свирепствовать. Уздень,
Свободный хлебопашец, каждый горец
Уздой закона сдержат хищный нрав:
Коль ханские рабы иль царедворец
Дух воли оскорбят, на наш квартал напав,
Иль одному из нас обиду нанесут,
Тесня общину вольных цувадинцев,
То будет скорым праведный наш суд:
За смерть обидчика из ханского двора
Вознаградит заступника община:
Из каждой сакли, что, как мир, стара,
Или бедна, как тусклые лощины,
Где теплится едва иль пылко бьется
Святое пламя крова, очага,
Получит он аббаси — счетом десять, а коль прольется
Из раны кровь у ханского раба —
Заступнику платить одной монетой.
Так каждый дом становится залогом
Защиты всех и каждого. К ответу
Так будет призван тот, кто не заплатит долга:
«Велением кумухцев и общины
Дом должника принадлежит отныне
Заступнику». Да будет так в веках.
Скрепили Слово именем Аллаха
Муххамед, сын Ахмеда,
Нажа, сын Шейх-Ахмада,
Мудун Хасан – хаджи, Юсупа сын,
Сын Ибрагима – Абидин,
Чинтур-Омар, Гуду-Шахбан –наследники Маммы,
И сын Муртаза – Мухаммед-Мирза,
И сын Хаджи – Мусы – достойнейший Иса
В год,
Когда в аулах правила чума,
Когда беда спустилась на постой —
В год тысяча шестьсот шестьдесят шестой».
_______________
* аббаси- золотая монета
Я в Кумухе полоненным не был
Ночь и день –
как оборотни неба,
В карауле –
оцепленья гор,
Я в Кумухе
полоненным не был,
А теперь крадусь,
как беглый вор
Рано, еще рано,
В окнах нет огня.
Одичало раны
Рвут покровы дня
Ночь в чадре,
и всадники незрячи,
Гончий Пес
вгрызается во тьму,
Ветер с моря,
как гонец горячий,
Вестью по ущелью
полоснул.
Поздно, уже поздно,
Где мой спящий дом?
Тишиной беззвездной
Стыну за окном
Звук гортанный
призовет к исходу,
Вздрогнет мать,
над четками склонясь.
Пей, земля,
постылую свободу, —
Кровью, как водой,
она клялась.
Льется, мама, льется,
На порог заря.
Хрипло утро бьется
В окна декабря
Мне еще немного-
ночь открыла дверь
За чертой порога –
череда потерь.
Я в Кумухе не был
вечность или день?
Был горяч, как пепел,
обратился в тень.
Бьется, мама, бьется
Рана, как зверек,
Сын еще вернется,
Сын еще вернется,
Сын еще вернется…
Старцы
Старцы!
Быки, потерявшие поле,
Дом украдут.
Старцы!
Ночи, спящие вволю,
Свет не найдут.
Старцы,
Четыре стороны света-
На дне…
Юноши в поле!
На ноги встаньте,
Руки по локоть в грязи.
Хлебом и солью
Старцев встречайте —
Небо ищите вблизи.
Юноши в небе!
Ласточка плачет-
Двери открыты
Дню.
Юноши в небе!
Путь только начат,
Души доверьте
Огню.
Ласточка в доме!
Океан
просит ладью умереть.
Ласточка в небе
Тоже тонет
Чтобы приветствовать
Смерть
Лодочник в море!
Горизонт
Имя просит твое.
Лодочник в море
Тоже тонет,
Чтобы взлететь
Легко.
О, уходящий!
Скошено поле.
Не обвиняй покой.
Посох — не птица.
Вкуси от пшеницы.
Старцы ждут за рекой.
И позади,
И впереди
Найдешь ли отца своего?..
Выше
На каменных трезубцах Турчи-Дага струится сок гранатовых рассветов,
Упругий день взбирается по кручам, чтобы спустить с вершины облака.
Как вечность молода, когда в порывах ветра
Бурьяном стелет путь, бесплотна и легка!
Парит орел, страж высоты извечный, кружит скала под куполом полета,
Ведет тропа нехоженой печалью, и горы ждут над пастбищем времен.
Как вечность молода, когда в плену дремоты
Роняет лепестки на насыпи имен!
Фиалковые тропы поднебесья тревожат синь обманчивого моря,
Разбиты волны трав о прихоти камней.
Как вечность молода, день с ночью тайно ссоря
И посылая в небо журавлей!
В ладонях гнезда вьют доверчивые чувства,
И ласточки срываются с руки.
Как вечность хороша, как время льется густо,
Храня любовь, забвенью вопреки…
Сбор винограда в Дербенте
Платан над старой чайханой в ладонях вытирает солнце,
Сбор винограда, как манок, для кутежа под звук зурны.
В садах качаются гранаты, чтобы в щедротах расколоться,
Хурма оранжево смеется, орехи звонко озорны.
День в изобилии неспешном пиры осенние встречает,
Дербент старинные кварталы перебирает, как меха.
О вавилонское смешенье, где каждый Богу отвечает!
Все реже звук родных наречий, и жизнь, как сон, давно тиха
ХанУм, джанЫм, атА, апА, рахат-лукУм, перИ, эбЕль, —
ДадА, гелИн, …
ФатИма, ЛЕйла, Гюльбохор, СевИль, НаргИз, МаргО, ГюзЕль,
Джун-ме, жалИн.
Керим, ИсА, ФуАд, СафАр, НикО, КарЭн и СоломОн,
МанОлис, Яша, Алексей…
Дербент …
…Тоска разбросанных ветвей.
Над виноградником корзины плывут, как дичь на шомполах,
А воронцовские подвалы вином заполнены, как встарь,
Где твои гости издалёка, чтоб петь о море и горах?
Где сыновей твоих потомки? Что носят нынче на алтарь?
Уют еврейского квартала и пахлава персидских песен,
Лезгинских ритмов барабаны, день — полноводная река…
Мир без дудука с балалайкой в Дербенте горестен и тесен,
И без собратьев свет — не в радость, пиры пусты без кунака
Ханум, джаным, ата, апа, рахат-лукум, пери, эбель, —
СалИма, Ева, КаринЭ, ФарИда, Соня, Изабель,
Саид, Муса, Фарух, Арсен, ШахИн, Шамиль и ШалумИ,
Георгий, Рома, Арамис,
Сергей…
Дербент…
…Сады и горести корней…
______________________
Ата, дада- уважительное обращение к старшему мужчине в дагестанских языках
Апа- уважительное обращение к старшей женщине в тюркских языках
Эбель- обращение к матери в аварском языке
Гелин, жалин — обращение к невестке в дагестанских языках
Джун-ме – обращение в татском языке («душа моя»)
Ты ищешь царевну Будур?
Ты ищешь царевну Будур — а иначе зачем эта крепость?*
Древний город Дербент за стеною спускается к морю.
Жаркий день растекается зноем, и смягчая свирепость
Отшумевших веков, хором звонких цикад время тешит и нежится вволю.
Я, наверное, пленница тоже. Крепостная стена бесконечна.
Вязь старинных магалов** уводит к кладбищенской воле.
Сквозь бойницы стены смотрит море легко и беспечно.
Словно нет потаенных глубин, словно вОды не ведают соли.
Древний Рим – еще отрок на коленях седого Дербента —
Сладко дремлет под тенью платанов, доныне шумящих у моря.
Я стою на высокой стене, на ступенях горячего лета,
Раскаленная память столетий обжигает нечаянной болью.
Стон хазарских набегов и алчность персидских династий,
Золотая Орда, ширваншахи, халифы, эмиры…
В оспу каменных плит замуровано бремя всевластья,
Под ладонью твердыня горит – остужу сумасшествие мира.
Через марево дней пробирается к тайне паломник,
Сорок верных сподвижников верность пророку хранят***.
Саркофаги камней охраняют покой камнеломни,
Рукоятью кинжалов надгробья над миром молчат.
Станет карой любовь, позабудь о Будур, неутешный.
Память родины больше, чем летопись дат и утрат.
Нет сильнее вины перед домом – лишь время безгрешно,
Потому оно ведает тайны и не знает дороги назад.
__________________
* Крепость Нарын-кала в Дербенте, одном из старейших городов мира (пять тысяч лет)
** Старинные узкие кварталы одноэтажных каменных построек
***Место паломничества на древнем кладбище Кырхляр в Дербенте — мавзолей сорока асхабов, сподвижников пророка Мухамеда.
Бабушка Ажай и бабочки
У бабули моей был ягненок
белый — белый,
ножки дрожали в копытцах,
он только на ручках молчал.
Еще у нее был козленок,
был у нее теленок,
и жил за горой волчонок,
наверное, серый — серый,
и он за ягненком,
козленком,
теленком
очень скучал
Бабуля уехала в город
и стала большая — большая,
а в городе только собаки
и кошки на окнах спят.
И нет у нее ягненка,
и нет у нее козленка,
и нет у нее телят.
С тех пор я ее утешаю,
всегда ей рисую ягненка,
козленка,
гусенка
и много желтых цыплят
Она картинки листает,
а день за окном — серый — серый,
она никогда не плачет
и молча смотрит в окно.
Я ей включу телевизор,
мы будем ждать Дерметхана*.
Он нам, конечно, покажет
козленка,
ягненка,
теленка,
цыпленка,
и это еще не все
Бабуля им травку подбросит,
подходит к ним близко-близко,
и шепчет слова,
и просит,
чтоб к ней подошла Корова.
И блеет ягненок белый,
и скачет козленок серый,
ну, а гусенок вредный
мимо бежит в луга.
И вот выходит Корова
и просит протяжно что-то,
и так головой качает,
шершавыми тычет губами,
бабулины руки ищет…
Глаза у нее в ресницах
летают и рвутся, как птицы,
И их догоняет мама, —
она совсем не бабуля,
и даже, может, девчонка —
они теперь бабочки в поле,
а я догоняю их….
Куда-то исчезли ягнята,
козлята,
телята,
гусята.
Бабуля зачем-то плачет —
значит, ей хорошо.
Я ей нарисую небо,
в котором луга и травы,
там будет гулять Корова —
Ее Дерметхан
— я знаю —
для бабушки бережет.
И завтра мы включим кнопку,
и снова уедем в горы,
и будет ягненок — белый,
козленок, конечно, — серый,
гусенок поманит лапкой,
теленок пойдет за травкой,
волчонок будет скучать.
И вот
…выйдет Корова навстречу
с печалью на длинных ресницах,
и бабочки будут кружиться
над радостью белой-белой…
Пожалуйста, нас не ловите,
мы сами вернемся домой.
________________
Дерметхан Джаватханов — автор телерепортажей о жизни села на дагестанском телевидении
Али из Согратля
Тропка тянется до неба,
Вьется, кружится юлой.
Если ты в Согратле не был,
Не сбегал с горы стрелой,
Не гонял гусей по полю,
Не терялся до зари,
И в реке не плавал вволю, —
Ты, конечно, не Али.
Знает только ветер с гор,
Сколько поводов для ссор:
Не везет ишак дрова,
И корова неправа —
Не дает поймать рога,
Сколько прыти у врага!
У быка круты бока,
Вот и смотрит свысока.
Камни сыплются с вершины,
Чуть отступишься — конец.
Если не был ты мужчиной
И не пас в горах овец,
Если в драках не был первым,
И подсечкой не валил,
Если в дружбе не был верным,
Ты, конечно, не Али.
Ну и что, что ветер с гор
Прячет в сумерках укор?
На цветах лежит Али,
Звезды светятся вдали.
Светляками сад поет,
Где-то счастье его ждет –
Две косички, щечки – мёд…
…Кто опять его зовет?
Тропка тянется до неба,
Бойко рвется с высоты.
Если ты в Согратле не был,
Не крутил ослам хвосты,
Не ловил улиток ночью
В корабли больших калош,
Не видал орлов воочью —
Не Али, не проведешь!
Самое теплое воспоминание
Мир, впервые увиденный из окна,
запер меня в голых стенах каменной сакли на краю неба.
Он был величественно-белым от снега
и равнодушно – спокойным.
Двухлетним голышом
я прилипла к взгляду пустого дома
и пробовала на вкус известь его прошлого
и сладость его глиняной глазницы.
Темнота дома по-матерински молчала,
а ветер решительно постучался в двери.
Преодолев упругое недовольство пружины,
я выбежала за дверь
в чистое снежное поле,
где в трудоднях безвыходно потерялась мама.
Мир встретил меня молчанием холода,
укоризной ветра
и хлопаньем двери за спиной.
Почему мне не было страшно?
Пойдем со мной
Пойдем со мной за керосином с бидоном, мятым от забот,
Где день в обличье страусином блуждает в стойбище дремот,
И где старьевщик бессловесный везет на кляче чудеса,
Где у сестры по пояс хищно скользит тяжелая коса.
Пойдем со мной за хлебом в лавку, где в щели падает пятак,
Где подгорелых крошек тайну смахнуть легко за просто так,
И где колодезные краны в тени акаций льют восторг
И ночь, хмельная от рассветов, ведет со сном привычный торг.
Пойдем со мной за молоком к фургонам желтым за углом,
Где крайний лучше, чем последний, где прямо лучше, чем кругом,
И где от мам и от старушек перепадет опять тепло,
Где время струйкой пересудов в бидон молочный утекло.
Там копоть лампы по стене тенями вечером метнется,
И брат драчливый горемычно во сне калачиком свернется,
И под роскошеством лоскутным цветных заплаток одеяла
Я погружаюсь в междустрочье наивных красок идеала.
Пойдем со мной за горизонт, огня добавят в ночь закаты,
Войдем в поля, чтобы в ладонях хранить все то, чем мы богаты,
Чтоб Млечный путь под грудью неба хранить над спящим малышом,
Чтоб каждый вечностью, как прошлым, был безвозвратно обожжен.
Было — не было
Мою несбывшуюся жизнь хранит бессмертник желтоглазый,
Цикорий синь ей обещает, тмин горный луг штрихом чернит,
И подорожник у дороги, не зная дней пустых и праздных,
Под пылью в поле зеленеет, целебной горечью манит.
Мое утраченное детство разбегом клевера ложится,
И слепотой куриной машет, пастушьей сумкой теребит.
У мамы руки пахнут мятой, морщины бабушки — корицей,
А дед орех мускатный в чашку неторопливо накрошит.
Моя беспочвенная юность искала корень девясила,
Ромашкой горной облетела и горицветом изошла.
Где мама сеяла и жала, растила травы и косила,
Сухой, рассеянный пустырник бессонной ночью я нашла.
И молодость, в шафранном свете перебирая дни, как письма,
Легко бессмертником уходит, вдогонку рвется базилик.
В полыни прячет зрелость слезы, и сохнет старость желтой пижмой
Над одиночеством бестравья, где город сумрачно безлик.
Моя несбывшаяся жизнь — село, деревня, травы, поле…
Перебирает ветер листья и шлет мне письма без конца.
В плену у времени скитаюсь, пою о памяти и воле
И растревоженные раны лечу глазами чабреца.
Горы лечат
Торг объявят для царского входа в золотушный, нахрапистый рай,
На асфальтовом ложе природы в сад химер превратился мой край.
Бьются камни оград об ограды, спесь богатого сброда крепка,
Жизнь течет ритуальным обрядом, бессловесна, бесстрастна, легка.
Там, за грядой,
Дышит ветер степной,
Поднимается в небо по кручам.
Он теперь сам не свой,
Не шальной, не хмельной –
Он горами к молчанью приучен.
Выжимаются камни до трещин, загоняют леса под асфальт,
Черный цвет выбирает женщин, алый цвет выбирает ребят.
Роль скорбящего сына – свободна, торжествует отец на пирах,
А земля одинокой мадонной колыбели качает в горах.
Там, за грядой,
Веет ветер морской,
Все стихии – паломники неба.
Тишиной, тишиной
Над поникшей землей
Горы лечат —
И тех, кто там не был.
Алую шаль вышивала мне мама, —
Алую шаль вышивала мне мама —
Солнце в ладонях.
Линия сердца – цепи да шрамы —
Щедрость бездолья?
Белую шаль я хотела набросить,
Но не поймала.
Простоволосье да времени проседь-
Много иль мало?
Черную шаль ночь ткала до рассвета —
Я не просила.
Снегом забвенья сердце согрето —
Слабость иль сила?
Выпало время словом на камни —
Не прочитаю,
Гостьей забытой, девочкой давней
Время встречаю.
Чьи это птицы устало крылаты?
Всех отпускаю.
Тянется в небо нитью утраты-
Белая стая
Женщине
Может ли спать давняя боль? Матери знают.
Сколько их было, безрадостных зорь? Не отвечают…
Что же молчишь, мама, в ночи? Руки — на четках,
Прошлые дни, как палачи, пляшут чечетку.
Черный платок и седина – все одеянье.
Женская доля — с рожденья вина и наказанье
Что же молчишь, мама, в ответ свету в окошко?
Сотнями лет – твой силуэт – в небо – с ладошкой…
А вчера она проснулась счастливой
Поправив платок рукой,
еще не забывшей перелом ключицы и разрыв сухожилия —
воспоминаний о молодости,
она склоняется над своими ладонями,
опирающимися на большую грыжу на животе,
и закрывает глаза,
чтобы увидеть тех,
кого никто не видит.
Она говорит слишком жарко и тихо,
и я только сейчас, на пятом десятке лет,
смогла услышать имена ближних и дальних,
которые молча стоят за ее спиной
в надежде услышать свое имя.
И она называет их:
сначала идут пророки,
и каждый, поименно названный, отступает
перед рядами теней
своих близких и дальних.
Потом идут седобородые шейхи, алимы, имамы,
умиротворенные голосом,
называющим имена их ближних и дальних.
Потом идут безымянные тени
забытых всеми и собирающих звуки своего имени,
затем звучат незнакомые мне,
но памятные ей по чужим рассказам
имена тех, кто живет на другом берегу.
И, наконец, звучат имена тех,
кто уходил на моей памяти,
имена, которые уже много лет носят другие:
Абдуллах, Каландар, Аппани,
Магомед, Патимат, Эффенди,
Асват, Мариян, Тамари,
Галимат, Курбан-али, Яраги,
Цаххай, Ахмад, Шамиль,
Ильяс, Гамзат, Камиль…
Она знает, что попросив Всевышнего
передать им всем частицу и запах еды,
сможет помочь им
утолить голод ожиданий и холод разлуки.
Так моя мама долго кормит ангелов
после короткой трапезы
несколько раз в день.
А вчера она проснулась счастливой
и рассказала, что грешна —
впервые за много лет только вчера вспомнила
и помянула пропавшего без вести
Сайпулу, которого помнила пятилетней девочкой
уходящим на фронт.
И он ей приснился ночью
стоящим в сумерках у подножия высокой горы
и показывающим на огонек, загоревшийся на вершине.
«Теперь мне стало теплее», — говорил он,
кутаясь от холода в старый овчинный полушубок.
Сегодня, когда она опять будет склоняться
над венами, в которых после инсульта
каждую ночь тромбо -ас разжижает стынущую кровь,
над руками с раздувшимися суставами,
которыми она на восьмом десятке лет
пишет арабский алфавит
детским падающим почерком,
я знаю-
в это время за ее спиной
со склоненными головами
будут стоять ангелы,
которых становится все больше и больше,
и я буду прятать от них глаза,
потому что, выучив алфавит в пять лет,
я не знаю ни их имен,
ни своего прошлого,
ни своего языка.
А самое главное,
я не смогу обещать ангелам,
что когда ее сердце
этой ночью будет стремительно ускорять свой ритм
(тахикардия)
или замедлять его,
(брадикардия)
и скорая помощь
приедет, когда ее уже не ждешь,
у нее останутся силы
кормить ближних и дальних
большой земли и высокого неба.
Остается только надежда
на огни, горящие на вершинах гор.
А пока мама читает на трещинах ладоней
имена ближних и дальних детей,
и время, слушая ее горячий шепот,
глядя на руки, перебирающие четки,
не находит места, чтобы оставить на ее висках
еще один серебряный поцелуй.
Лишь бы не ошибиться
Я хочу услышать,
как звучит в горах выражение «любовь к родине».
Сорок лет я не видела развалины Убра
и еще сорок лет могла бы не вспоминать о нем.
Я боюсь воспоминаний своей матери,
которая более полувека каждый день не рассказывает о них,
чтобы я не заставила ее молчать.
А когда я понимаю,
что у жестокости есть своя мера
и разрешаю вслух вспоминать,
она мучает меня.
В сухоньком теле начинают угрожающе клокотать
вулканы убитых надежд и обид,
в глазах, всегда опущенных в бесконечной молитве,
пробуждаются засохшие слезы
и разрывают трещины глаз,
и я с ужасом понимаю, что уже ничего не сделать
с мерцательной аритмией и высоким давлением
на сердце, которое столько раз должно было умереть.
Я хочу услышать,
как звучит в горах выражение «любовь к родине».
Я стою у развалин Убра,
где на старинном кладбище среди камней
нет костей моего отца,
который так и не понял, что ходить с кинжалом,
носить черкеску и любить коней
нельзя в двадцатом веке,
что дух не должен быть таким жестким,
поэтому дети не помнят его лица,
а мама, спустя сорок шесть лет после ухода от него
и двадцать восемь лет после его смерти
в карцере астраханской тюрьмы
каждый день просит небо испепелить его кости,
и не слышит наших робких напоминаний,
что все это уже случилось много лет назад.
Я знаю: она не прощает себе собственную кротость.
Безутешная тетя, похороненная недалеко от него,
высекла на надгробном камне своего брата
коня (так все опознают его могилу).
И глядя на него, иногда я думаю,
что конь, столько лет скорбящий на могиле хозяина,
знает что-то большее о моем отце,
который когда-то отправил мне, десятилетней девочке,
письмо с резкими и рваными буквами
и просил, чтобы я написала письмо Брежневу.
Я хочу услышать,
как звучит в горах выражение «любовь к родине».
Высохшая трава колко прижимается к земле
под порывами гарцующего ветра.
Одинокие деревья на холмах
грезят припухшими садами.
Спускаюсь по крутой тропинке —
единственной дороге к Кумуху.
(До сих пор на расстоянии пяти километров от центра Лакии
в Убра нет дороги).
Вслед мне смотрят старинные плиты кладбища,
где покоятся прах великого ученого Мухаммеда Убри
и тени моих предков.
Мама знает их поименно и может рассказывать часами
о жизни семи поколений Убра и жителей всех лакских сел.
Она каждый день перебирает корни большого дерева
и говорит, что не помнит сегодняшнее утро,
но до мелочей помнит вчерашний век.
(Кажется, воспоминания подходят к концу)
Иногда, вспоминая сквозь слезы
ферму в горах и повадки любимых коров,
она признается,
что самые счастливые годы прошли в Убра.
Теперь она будет долго молчать
и перебирать четки.
Не знаю, о чем она просит Всевышнего,
но я благодарю Его
за то, что много лет заставляя меня переживать
страх ее потери,
Он дарит ей новый день.
И я каждый день решаю:
разрешить ей вспоминать или нет.
Лишь бы не ошибиться….
Она любит Меладзе
Громадная и сильная, как рыба,
она откроет дверь и будет усмирять злую собаку,
запертую в конуре и привыкшую не лаять.
Но я боюсь смотреть на нее.
«Проходи!» — машет она рукой.
Это значит, что я не опасна.
Вчера она опять вызвала ОМОН:
злой брат, живущий за стеной,
всю ночь высился над крышей ее дома,
как это толстое дерево акации,
лежащее на стене.
Он устал и прячет глаза от соседей,
прикрывая дверь.
И я боюсь заглядывать туда.
Ей скоро будет 80 лет,
и она готова их встретить
во всеоружии круглого числа и двуголовости цифры.
Я люблю обнимать широкие плечи моей тети
и идти за ее спиной,
когда собака в конуре начинает глухо ворчать.
Соседи, к которым она сегодня вызвала милицию
за то, что их сын стоматолог подглядывает за ней в окна
и думает, как бы ее убить,
проклинают ее,
а его старая мать,
не снимающая траурный платок много лет,
кричит об ужасе позора на ее голову
и высохшей рукой хлопает дверью,
в которую я боюсь заглянуть.
Тетя наливает мне чай
и радостно угощает всем, что есть в доме,
рассказывая о том, как ее любит Меладзе
и посылает Баскова к ней сватом.
А ей стыдно в таком возрасте выходить замуж,
и поэтому остается хлопать в ладоши
и сидеть на диване перед телевизором
в новой сиреневой кофте с блестками.
Наверное, ей уже 20 лет.
Я грустно люблю ее
и боюсь смотреть в ее счастливые глаза,
закрывающиеся от тяжести дряблых век.
В это время приходит ее дочь,
измученная безработным сыном,
тихим мужем и незамужней дочерью,
и громко просит тетю не позорить ее
и оставить в покое соседей.
У нее была ночная смена
и не было времени слушать объяснения тети,
которая всей мощью оскорбленной молодой женщины
выталкивает ее за дверь.
И я боюсь смотреть вслед плачущей дочери.
Потом к тете начала приходить подруга дочери,
знающая, как уколами вернуть молодость
и вводящая в вены маслянистую жидкость из ампул.
Она торопливо берет деньги,
потому что разведенная дочь оставила ей маленьких детей,
и их надо быстрее накормить.
И я боюсь смотреть за дверь,
за которой она исчезает.
Через два месяца
я снова стучусь в деревянные ворота тети,
чтобы поздравить ее с новым годом.
Выходит ее внучка,
кроткая от работы,
и провожает меня мимо будки с запертой собакой.
Тетя, ставшая маленькой и опирающаяся на палочку,
смотрит погасшими глазами и, с трудом припоминая слова,
рассказывает, что у нее дрожат руки, нет сил, а ноги отказываются ходить.
«Я выпью любое лекарство,
только помоги мне быть такой, как прежде», — просит она.
Я уговариваю выбросить ампулы,
а она плачет и просит дать ей эти лекарства,
потому что она хочет быстрее стать прежней.
Я ухожу,
боясь оглянуться на дверь, которая хлопается за мной.
В это время живущий по соседству другой ее брат
с раздувшимся от пива животом и красным добрым лицом,
дождавшись моего ухода, постучится к ней в дверь.
Она любит его,
поэтому он расскажет, что ему негде жить,
и дом доброму брату нужнее,
чем дочери, злой от тихого мужа.
Когда он будет возвращаться к себе
мимо палисадника с тутовым деревом,
с трудом вытаскивая калоши из вязкой глины после дождя,
ему вслед будет смотреть собака из заколоченной конуры,
зная, что он не опасен.
Сегодня покажут Меладзе.
Наверное, все смогут выспаться.
Как хорошо, что я его не боюсь.
Она любила Меладзе. Песня февральского ветра
Выйду вьюгу провожать,
В окна зимние стучать.
Саван белый
Ищет тело,
Чтоб тоску его принять.
Снежной пылью,
Спящей былью
Время рыщет,
Имя ищет.
Выйду в полночь горевать,
Ветви стылые качать,
Саван спешный
Тьмой кромешной
У порога расстилать.
Снежным полем,
Спящим горем
Время рыщет,
Имя ищет.
Выйду слушать плач чужой,
Ой…
Стыд маячит за враждой…
Вой…
Омывают тело руки
Не свои,
Примет ангел на поруки
По любви.
Снежной пылью,
Горькой былью
Время свищет
Имя ищет,
Имя ищет,
Ищет,
Ищет…
Ой…
****
Долгая старость разбилась
песней, раскрывшей тайну ее имени,
чтобы обменять ум на любовь.
Она любила Меладзе,
и имя ей было- Сэра,
но кто же об этом знал?
Жизнь была милосердна
к женщине, задавленной долгом,
раскрыв лишь бледную тень ее имени.
Спасибо Меладзе за песню,
которую он не спел,
за то, что Кармен ушла,
так и не узнав своего настоящего имени.
Просто она родилась в 1931 году
в Советском Союзе.
В ее пакете с одеждой,
приготовленной ко дню прощания с жизнью,
лежали тончайшие бирюзовые чулочки,
маленькая кружевная комбинация цвета морской волны
и шелковая косынка в мелкий зеленый цветочек.
И когда старые женщины, обмывавшие ее перед дальней дорогой,
удивленно застыли над ее большим и сильным телом
и искали самую широкую рубашку,
я смотрела на ее надменное от обиды лицо,
на отрешенность восходящего лба
в простоволосье седины
и почему-то вспоминала плакат,
памятный с детства и тревожно волнующий:
«Родина-мать зовет».
Наверное, ей сегодня будет 20 лет,
и она пойдет на свидание с Небом
в тоненьких прозрачных чулочках
послевоенной поры
и кружевной комбинации
из бабушкиного сундука
под зеленым саваном
счастливых ожиданий.
Прости нас, моя тетя,
хотя ты и была самой счастливой
из женщин нашего села
и поколения моей матери,
до сих пор не устающей оплакивать свою жизнь.
Пойду обниму ее,
пока она спит.
(Она плачет от доброты,
и мне приходится быть суровой).
Обещали ночью ураган,
Кажется, ветер затихает…
13. 02. Полночь.
***
За жизнь вполсилы- отреченье,
За дерзость – тоже пустота.
Меж убежденьем и сомненьем
Опять слепая маета
Уход, изгнанье, пораженье-
Все возвращается к концу.
Но даже пепел- обретенье,
Когда с судьбой- лицом к лицу.
\
Как у больного в изголовье
Горшком отравленного блюда
Внутри дымился Дагестан.
Б.Пастернак
Как у больного в изголовье
Молчат тревожные слова,
Так виноватое здоровье
Сдает румяные права.
Молчи, не сдавшаяся совесть,
Не возмущай больную рать.
Здесь жизнь — отравленная повесть
О том, что некому читать
Здесь толмачи, как конокрады,
Оставят день без скакуна,
За чистоту и свет наградой
Развеют пеплом имена.
Идут охотники за кровью,
Капканы ставят на орлов,
И боль сиротскую и вдовью
Несут на торжище грехов
Бьют родники в горах, как раны,
И камни обнажили лбы,
Когда страницами Корана
Жизнь посылают на дыбы.
И брат в глаза не смотрит брату,
И в спины целятся враги,
О Дагестан, твои утраты —
Седины веку на виски.
Нет спешки в вечности, я знаю,
И на безумье сыновей,
Вершиной каждой боль вбирая,
Ответишь стойкостью камней.
Ты остановишь гибель брата —
Крепка народная узда,
И ложь пророчеств конокрадов
Сотрешь подошвою хребта.
Есть такая земля
Есть такая земля – кто открыл бы ее проходящим?
Пылью ропщет далекая быль на угрюмые ветры полей,
Пепел сыплет на скулы столетий и прахом летящим
Устилает холодное небо под клекот седых журавлей.
Есть такая земля — кто осмелится тронуть рукою
Ее впалую грудь и зияние вырванных дней?
Кто втоптал ее косы в песок и кровавой строкою
Пишет черную книгу безумья и смерти ее сыновей?
Есть такая земля — кто вернет ей могущество духа,
Честь и славу отцов, о братстве завет и приказ?
Глухо ропщет суровая быль и доносит до слуха
Прометеево имя в горах и священное слово – Кавказ.
Трудно быть горцем
Чувство опасности рождается вместе с жизнью,
если тебе ее подарили высоко в горах.
Одновременно рождается рефлекс смелости:
надо быть готовым действовать.
Дети играют на крыше дома,
обрывы срываются под ногами,
а одолеть горы – еще не значит покорить их.
Чувство независимости рождается вместе с жизнью,
если тебе подарили ее высоко в горах.
Тропы над обрывом выбирают только одного —
здесь невозможно ходить толпой.
Одновременно рождается чувство близости:
все встречи происходят на краю пропасти
или перед вершиной восхождения,
и любой человек — это тот, кто протягивает руку.
Узкие улочки селений
и твой двор на крыше соседа
говорят, что близость так же естественна,
как мир, который тебя встретил в детстве.
Чувство красоты рождается вместе с жизнью,
если тебе подарили ее высоко в горах:
краски сияют в своей первозданной чистоте —
белое на небесном и зеленое на земном.
Это мешает понимать полутона городской жизни,
но сохраняет в памяти правду идеала.
Да, еще есть пылкость нрава,
которая рождается вместе с жизнью.
Если ее не обуздать,
ее захочет взять на воспитание какой-нибудь обидчивый милиционер,
а если сильно укротить,
вы не почувствуете красоту бесхитростного прямодушия.
Горы так заселили Кавказ,
чтобы никому не досталась ровная дорога,
о каждом шаге надо думать, прежде чем его сделать,
а путь – сплошные повороты, за которыми ничего не видно.
Если посчастливилось
Даже самые маленькие комочки глины
нужны там, где строится дом.
А если посчастливилось родиться камнем,
не знающим, что такое сходство с другими
и помнящим далекое имя своего создателя?
Тайны тысячелетий могли бы укрепить основание дома,
а тепло долгих воспоминаний
прогреть стены пристанища.
Но здесь нет зодчего,
и строители отбрасывают камни в сторону.
Рабы, похищенные со всех вокзалов,
обжигают легион кирпичей
с привычным количеством углов.
Даже самые маленькие камни
нужны там, где они родились.
Если еще не пришло время строить,
их складывали башенкой в горах
и берегли до рождения Мастера.
Горцы спустились на равнину
и жажда плодородной земли
иссушила им память.
Все, что высится на пути,
они отбрасывают в сторону,
и чем тяжелее камень,
тем больше вздох облегчения.
Камни моей родины
умеют превращать ропот силы
в вершины преодолений.
Они поднимают землю
и вырастают до неба,
скрепляя столетья,
лежащие, как бурка,
на плечах чабанов,
которые стерегут мир.
Халифы на час, расхватывающие землю,
ненасытны.
О, моя терпеливая родина!
Ты примешь мертвечину их жалкой плоти
в свои бездонные глубины,
чтобы навсегда укрыть позор их рождения
и побивания тебя камнями.
Но, может быть, хотя бы их дети,
именем которых они глумились над тобой,
поймут, что высота и мощь родной земли,
красота ее вершин и скал
рождаются камнями, брошенными
под ноги времени и на обочину жизни.
Как опасно ложатся слова
Как опасно ложатся слова, ты не строй на земле больше крепость.
Мастерство не в цене – кладку стен расшатай, будь, как все.
Сорняки обмололи пшеницу, воронье на добычу слетелось,
Собираю зерно по крупицам, чтобы оставить его на посев.
Твердость слов ослабляет тебя, строй жилище отныне без правил,
Нынче крепость без боя сдают, в округлость углы превращай.
Кто накормит овец, если Каин не слышит отца, и спасает ли Авель,
Если жертвенный дым багровеет, словно просит тебя: «Не прощай»?
Нет в горах больше камня — разменяли твердыни на щебень,
Мастерство не в цене, дни ломают вершинам хребты.
Замолкают слова, рассыпаются башни и спускается темень
На скалистые думы земли…
Что они могут?
Что они могут отнять у меня?
Строки о сущем, святыню огня
В сердце, израненном болью земли —
Что у меня еще взять не смогли?
Не продавала, не покупала,
Камни вослед никому не бросала,
Не обманула, не солгала —
Вот оттого потеряла права —
Право земле отдавать и дарить,
Право беречь и право любить,
Право за слово ответить сполна.
Отнято все, чем свобода жива.
Но как они слепы в своем торжестве!
Я с миром высоким по праву в родстве,
И с долей поэта, и с силой добра —
Ну что они могут отнять у меня?
Смерч
Куда же я должна уносить
то, что переполняет мое сердце?
Оно сильнее меня,
хотя еще не обрело голоса
и думает, что спит.
Но в какие-то мгновения
смерч чужой тоски
вздымает мою душу
к высоте неба
и стражи горла
перехватывают его.
Может, если бы смерч тайной силы
смог обернуться вокруг земли,
девочки с несозревшим сердцем
не успели бы обернуться поясом смерти
и мальчики с когда-то пухлыми щечками,
прикасаясь к холоду оружия,
никогда не забывали бы руку матери,
ведущей их к дому…
Каменная рать
Из глины, из света, из речек студеных —
Откуда мне черпать земное тепло?
Как мало под небом любовью плененных,
Как много любивших под землю ушло…
По трещинам скал лихолетья читаю,
Ладонь обжигает надгробная рать.
Я сотни имен пред тобой повторяю,
О, сколько еще их дано выкликать!
И сколько еще будет пролито крови,
И сколько на брата поднимется рук?
Здесь воздух случаен, здесь каждый виновен
За то, что тебя не спасает от мук.
Из щебня, из камня, из вод ли соленых —
Откуда ты черпаешь силу, земля?
И примет ли небо тобой не прощенных,
И примешь ли ты не хранивших тебя?..
Бессмертен ли Каин? И вечен ли Авель?
Не в книге ли мертвых хранится завет?
…Под пулей ли в спину, под яростью ль сабель —
Все скорбью сочится Кавказский хребет…
Есть такая земля
Есть такая земля – кто открыл бы ее проходящим?
Пылью ропщет далекая быль на угрюмые ветры полей,
Пепел сыплет на скулы столетий и прахом летящим
Устилает холодное небо под клекот седых журавлей.
Есть такая земля — кто осмелится тронуть рукою
Ее впалую грудь и зияние вырванных дней?
Кто втоптал ее косы в песок и кровавой строкою
Пишет черную книгу безумья и смерти ее сыновей?
Есть такая земля — кто вернет ей могущество духа,
Честь и славу отцов, о братстве завет и приказ?
Глухо ропщет суровая быль и доносит до слуха
Прометеево имя в горах и священное слово – Кавказ.
Чьих будете?
Продано, продано, продано…
Преданных просят уйти.
Родина, родина, родина —
Нет к тебе больше пути.
Делят, стреляют, враждуют,
Ищут врагов, создают,
Если о мире толкуют,
Значит, изящнее бьют.
Волки особой породы
Вещают согласье элит.
Будет терпеньем народа
Каждый из свиты сыт.
А если кто и услышит
Чей-то сдавленный крик —
Это «элита» рыщет
В поисках новых улик.
Чьими заплатим:
Чужими, своими?
Кто исцеляет боль?
Будут нам «братья»
В масках иль в гриме
Так же разыгрывать роль.
Лекари, пастыри, лидеры –
Сколько овец и братвы…
Заказчики, скупщики, киллеры —
Элита несчастной страны…
Я слышу гул
Я слышу гул земных разломов и шум разбуженных камней,
Гортанный клекот Вавилона и ропот вырванных корней,
Глухую ярость камнепадов и плит старинных тишину,
Дымится пепел воскрешений у спящей вечности в плену.
Играет случай вертикалью и дышит времени в пупок,
Вернется слово бумерангом и шов наложит на висок,
И кровью спекшиеся раны уйдут с землей на дно морей,
Чтоб сбросить бремя жалкой славы слепцов, играющих в царей…
Путешествие русской учительницы Эльвиры Горюхиной на Кавказ
Предисловие
Эльвира Горюхина – профессор Новосибирского педагогического университета, педагог, автор книг о детской психологии, журналист. Широкий резонанс получили ее книги «Путешествие учительницы на Кавказ» и «Не разделяй наc, Господи, не разделяй!..», рассказывающие о кавказских войнах последних десятилетий.
Вот что писал о ней Дмитрий Шеваров, один из ее учеников: «Нам дано право выключить войну нажатием кнопки. Замкнуть слух, закрыть глаза. И, кажется, ничего тут поделать нельзя. Другого нам не дано. Но вот живет в Новосибирске Эльвира Николаевна Горюхина, почтенная учительница… И вот вдруг становится песчинкой. Добровольно. Берет отпуск и едет туда, куда ее никто не посылал. Где мужчины, вооруженные с ног до головы, и те ходят в масках. Где все пули – явные дуры, и от них гибнет больше штатских людей, чем воюющих. Без редакционной корочки, без связей, главное, без всякой видимой цели она правдами и неправдами одолевает границы, бродит в окопах и вместе с погорельцами что-то ищет на пепелищах и, забыв о гипертонии, провожает беженцев в горы. Отпуска кончаются, она берёт за свой счет. Поездки затягиваются не на недели – на месяцы. Так продолжается десять лет. Она уезжает только для того, чтобы написать об увиденном и вернуться назад.
Она ничего не везет с собой. Никого не учит. Только протягивает руку и говорит: «Я с вами». Или вовсе не говорит этого, но все понимают. Появление маленькой немолодой женщины никого не изумляет. На беженских дорогах ее никто не спрашивает, кого она ищет. Всякий, встретившийся на ее пути, видит, что это она к нему так долго ехала… Не на пустом месте появилась книжка Эльвиры Горюхиной, а на заветном поле русской культуры. Поэтому она останется в русской литературе где-то по соседству с «Севастопольскими рассказами» Толстого, «Записками из Мертвого дома» Достоевского, «Островом Сахалин» Чехова». (Дмитрий Шеваров, газеты «Труд», «Деловой вторник»)
«…Произошло культурное событие исторического масштаба: Эльвира Горюхина на рубеже второго и третьего тысячелетий вернула в русскую культуру старый способ добывания правды – странничество…» (Ольга Лебедушкина, «Общая газета»)
«Какое же чувство слиянности с другими людьми, родства прежде незнакомых, какая любовь ведет эту маленькую хрупкую русскую женщину дорогами войны! Эти чувства так сильны, что и делают книгу о войне книгой не только горя и смерти, но веры и надежды. Если бы мы все так относились к человеку и человечеству – разве возможна была бы война?» (Инна Руденко, «Комсомольская правда»)
***
Я все еще продолжаю испытывать сомнения в том, что я делаю, — переношу в графическую форму отрывки из прозы Эльвиры Горюхиной. Моя задача — максимально сохранить авторский текст, отобрать из переплетающихся сюжетных линий отдельные рассказы и компактно предложить их читателю. Книги Эльвиры изданы маленьким тиражом. Я хотела, чтобы человеческий подвиг удивительной русской женщины, которая выше всех своих регалий ставит звание «учительница», чтобы правда о войне стали известны как можно большему количеству людей.
Я попросила разрешения у Эльвиры на переложение ее книги в другую форму. В моих сомнениях меня немного утешает надпись, сделанная Эльвирой на подаренной мне книге «Не разделяй нас, Господи, не разделяй!»: «Дорогой Мариян, человеку, который родственен мне по Духу настолько, что это словами выразить невозможно. Меня утешить может только то, что Вы это чувствуете сами».
Конечно, это не мои произведения. Это моя любовь к Эльвире и благодарность ей, это и моя ладонь на пульсе измученного людскими раздорами времени.
Почему я враг?
Автобус шел из Назрани в Грозный через Серноводск.
Вдруг по лицам сидящих пробежала тень. Лица посуровели.
Мусульманин сложил перед собой ладошки. Началась молитва.
Автобус превратился в натянутую струну.
Моя соседка Тамарочка со страхом взглянула на мою беспечность:
«Так нельзя, ты умрешь».
Она напряженно и мучительно вглядывается в дорожную даль,
я упорно продолжаю ничего не видеть.
Через несколько минут я увидела мчащийся на бешеной скорости бэтээр.
Моторы ревели. Ветер рвал остаток российского триколора.
Наверху, цепью привязанная к флагу, стояла огромная кавказская овчарка
и лаяла во всю силу своих возможностей.
Российские мальчики навеселе обдали нас матом,
и боевая машина резко повернула с трассы влево.
Автобус вздохнул. Началась молитва — благодарение с размягченными слезами
Средняя школа № 3 Ачхой-Мартана.
Среди учителей немало русских.
Нина Николаевна Макаренко — мой ангел-хранитель на десять дней.
Денис — сын Нины. Студент Грозненского педагогического.
Яша — муж. Милиционер. Кинолог. Охотник. И мы с Ниной.
Нина преподает русский язык и литературу.
— Ты представляешь мое состояние, когда российские солдаты вошли в наше село?
Я вижу родные лица. Русские. Мне хочется им помахать рукой.
Помню, я начала улыбаться, а потом, как током, меня прожгло: а где я сейчас стою?
Стою с людьми, с которыми прожила жизнь. Их ведь тоже я оскорбить не могу.
Солдаты долго шли. Их было много. Это шамановцы шли, их снимал Невзоров.
Они шли на Бамут.
Молоденькие солдатики пытались рассмешить детей, строили им рожи.
Лица детей были суровые, как у взрослых.
Один солдат при входе в село материл жителей.
Другой вступил в потасовку, его тут же оттащили, чтобы не подвести село.
Колонна была очень большая.
Самое тяжкое испытание — быть среди чужого народа и знать,
что твой народ с ним ведет войну.
Ниночка, как многие русские, верила, что Россия не тронет своих, а спасет.
Не спасла.
— Я не могу слышать, когда о каком-нибудь народе говорят окончательно.
Одни чеченцы рвались ко мне в дом ограбить и убить нас.
Другие чеченцы спасли нас.
Ведь вы хорошо знаете нашего директора?
А помните строителей, которые в прошлом году школу ремонтировали?
Хасмагомет чувствовал, что тучи сгущаются, просил российских строителей уехать.
Но они классные специалисты. Им хотелось проверить всю технику, и они задержались.
Их выкрали. Хасмагомет знал, кто это сделал.
Напрямую пошел к похитителям. Требовал вернуть рабочих.
Когда понял, что не отдадут, сказал им все, что о них думает. Его избили.
Переломали ребра. Долго болел.
Вы не спрашивайте его об этом, он не любит вспоминать.
Хаджи-Мурат выписывает пропуск на Бамут.
Я поеду с Хасмагометом в его крошечной машине.
Остаются последние указания коменданта:
Не отпускать русскую от себя. Следить за «растяжками».
Не входить на территорию домов.
Я попала в Бамут в день, когда жители Бамута получили разрешение войти в село.
И они шли. В стоптанных тапках, потрепанной одежонке.
Подойти к своим домам близко было опасно.
Одни останавливались у дороги и долго вглядывались в то, что было домом.
Другие присаживались на корточки у дороги и продолжали сидеть неподвижно.
Свидание с домом было столь мучительным, что почти все жители,
кто пришел в то утро в Бамут, покинув свой дом,
направлялись к центру села, словно сговорившись.
Многие увидели друг друга впервые после сдачи Бамута.
Узнавали друг друга. Обнимались. Сдержанно плакали.
По случайности я оказалась в центре толпы. Всем было ясно, что я русская.
Они видели меня, но не удостоили внимания. Им было не до меня.
У них не было дома. Погибли близкие. Уничтожен скот.
У них появились могилы на чужом кладбище, родовое оказалось заминировано.
Когда им надо было обняться с тем, кто стоял за моей спиной,
они молча обходили меня, как обходят неодушевленный предмет.
В глазах не было ни злобы, ни мести, и, уж конечно, не было любви.
Так я стояла несколько минут, сжавшись в комок.
На здании школы аршинными красными буквами было начертано:
«В наследство вашим детям».
Махмуд-Гирей — строитель.
Тридцать лет своей жизни работал в Алтайском крае, в районе Троицкое.
Заслуженный строитель. Прекрасная русская речь.
Один из тех чеченцев, которые никогда не мыслили своей жизни без России.
Еще на Алтае, в Троицком, он увидел однажды свой дом в программе «Вести».
Это был репортаж о взятии Бамута.
Говорили так, словно взяли Берлин. Он узнал свой дом.
Над ним водружали российский флаг.
— А до этого какой флаг был над моим домом? Какой? Почему я оказался враг?
— Вся школа осталась на второй год, — шутят в учительской школы села Самашки.
Школы нет. Ее сожгли. Дети учатся в здании предприятия, которого тоже нет.
Стены выбиты. Полы выщерблены. Классных досок нет.
Мела нет. Учебников — тоже нет.
Учителя тем не менее в сборе. Не получают ни копейки. Учат детей.
Русскому языку и русской литературе в том числе.
Одна из них — Анна Эльжуева. Красивая. С большой внутренней силой и достоинством.
— Понимаешь, у меня молодой муж. Ему сорок семь лет. Ни в каких боевиках не состоял.
Но когда начался этот ужас с паспортизацией, я поняла,
что должна спрятать его и моих мальчиков.
У меня два сына. Одному двадцать, другому — шестнадцать. А как?..
Сидим в подвале. Забегают федеральные солдатики с криком:
«Прячьтесь! Контрактники идут!»
Не успели. Вывели из подвала и всех мужчин поставили к стенке.
Велели руки заломить за голову…
Да, там одна жуткая история в подвале была.
Брали парня. Совсем мальчик. Сестра легла на него и кричала:
«Стреляйте в меня! Пуля останется со мной!»…
Не помню, чем все кончилось. Не помню.
Ну так вот. Женщин — в одну сторону, мужчин — в другую.
Ждут приказания. А уже идет вой: это женщины криком кричат.
Только мужчинам прикажут отойти — женская толпа в рев.
Вижу, мои мальчики стоят спиной к нам…
Заявляется один, который главный. Слышу: «Расстрелять»…
Понимаю, что это относится к моим. Вижу того, кто их повел.
Тут началось: я висну на исполнителе. Буквально. Хватаю его за руку.
Не даю автомат вскинуть. Он от меня отпихивается.
Слышу, главный приказал вывести наших за сарай.
Хорошо помню, что ему нравилось произносить это слово: «Расстрелять».
Или мне так тогда показалось.
Вывели мужчин за сарай, и тот, второй, на ком я висела, быстро оторвался от меня.
А я бегу. Догнать не могу.
Мне почему-то казалось, что если я отведу выстрел, он никогда больше не прозвучит.
И вот между нами несколько метров. Он вскинул автомат. Палец на курок. Выстрел.
Смотрю и вижу, что мои мальчики стоят, а контрактник с автоматом упал.
Сначала я решила, что сошла с ума. Я ведь слышала выстрел.
Мне показалось, что я вижу то, что хочу увидеть, а не то, что есть.
Но контрактник лежал мертвый. Мои мальчики стояли. Все трое.
Не сразу поняла, что его выстрел упредили боевики.
Они в него стреляли, и он упал замертво, а наши не понимали, почему еще стоят.
Спаслись мои мужчины.
Но это мое сумасшествие… Оно со мной. Всегда, неотступно.
Ты спрашиваешь, как мы живем после этого?
Раз нас оставили живыми, живем. На этот раз оставили живыми.
Чеченские учительницы рассказывают о последнем штурме Самашек 15 марта 1996 года.
Как и при первом штурме, самолеты кружились над селом.
Ревели орудия, толпы людей шли на Серноводск.
Голова этой колонны была в Серноводске, хвост — в Самашках.
Вдруг начался вой, крики, слезы. Толпа зашевелилась. Люди шли обратно.
Оказалось, что на пропускном пункте забирают всех мужчин,
в том числе и самых молодых.
Из-под мышки матерей рвут детей и гонят в сторону.
Всем ясно, что гонят в фильтрационные лагеря, откуда не возвращаются.
А если и возвращаются, то инвалидами на всю жизнь.
Толпа хлынула назад, в Самашки.
Серижа, мать моих знакомых учительниц, провожает меня в Ачхой-Мартан.
Стоим на окраине села.
Здесь несколько месяцев назад она стояла со своими детьми.
Танки, солдаты, беженцы из других сел. Мучительное ожидание штурма.
Они уже знали по опыту первых двух штурмов, что будет бойня.
Вот отсюда, с этого места, их погнали, как скот, в Давыденко.
Сейчас Серижа пронзительно быстрым взглядом оценивает ситуацию:
— Ах, Эльвира, почему ты не села? В той машине старый человек сидел.
Он ошибки не допустит.
Ждем машину со старым человеком. Дождались.
Чеченец, правда, едет не в Ачхой, а ближе — в Шарой.
Я, дурная голова, подсаживаюсь, не предполагая, как буду выползать из Шароя.
— Старый человек придумает, — прощается Серижа. И долго-долго смотрит мне вслед.
На развилке дорог старый чеченец ссаживает своих женщин.
Они пойдут пешком до Шароя. А я еду, стало быть, до Ачхой-Мартана? Так и есть!
Он довозит меня до самого центра.
Я пытаюсь всунуть десять тысяч рублей, но старик качает головой:
— Я плохо тебя довез. Обязан был привезти с женщинами к себе в дом. Накормить. Напоить. Только потом увезти домой.
Война принесла много бед в семью старого чеченца.
Он никак не возьмет в толк, за что этот кромешный ад на земле. За какие грехи?
На прощание он говорит мне, что Аллах ограничил нас смертью,
но мы забыли об этих ограничениях. Покусились на Бога.
Вот от этого все и идет.
1997
Малая часть подстрочника
Ощущает ли чеченец свою вину в том,
что происходит на протяжении веков с его народом?
Спросить об этом невозможно, когда видишь разоренный дом,
убитые горем лица.
Но, блуждая десятилетиями по горячим точкам,
я заметила: уровень самосознания отдельной личности
много значит для судьбы нации.
Однажды я спросила об этом Розу,
жену известного в Чечне учителя Асламбека Домбаева.
— А Басаев – смертник, — сказала она. – Он не жилец.
Сам себе подписал приговор.
Случится то, что случится.
Приблизительно так же сказала Таиса, беженка,
когда заговорили о хоромах Удугова.
— Как приобретено, так и отнимется, —
уклончиво сказала она.
Михаилу Луарсабовичу Дуишвили 84 года.
Учитель русского языка и грузинской литературы.
Две войны провел в Грозном.
29 дней заложником у бандитов.
Когда стало совсем плохо,
приехал в Панкисское ущелье, на родину предков.
У него есть свое объяснение,
что происходит с его народом.
Как учитель, он считает, что невежество – источник бед.
Бандиты приковали его наручниками к батарее,
он им рассказывал, как устроена Вселенная.
Узнав, что скорость света 300 тысяч километров в секунду, бандит ахнул:
-Откуда ты знаешь?
Один из них спросил однажды:
— Вот ты говоришь, что Земля движется вокруг Солнца.
А почему наши горы хотя бы раз не оказались позади нас?
-Земля еще движется вокруг своей оси.
-Это как?
Когда он услышал через перегородку
«чернореченский лес», «Сунжа», «топить»,
догадался. Пришел главный и понял, что он все слышал.
— С твоей головы не упадет ни один волос, — сказал бандит.
Развернулся как мог и ответил:
-Хорошие слова произносишь.
Даже если они не совпадут с жизнью, все равно слова хорошие.
Слова почти совпали с жизнью:
старика вывезли на дорогу и бросили в глухой ночи.
На этой войне многие правила перестали действовать.
Когда отца Тамары взяли в заложники,
она кинулась к отцу Шамиля Басаева,
но отец Шамиля покачал головой:
он уже давно ничего не знал о сыне
и уже никак на него не влиял.
Это ошеломило: что происходит с народом?
Старший младшему уже не указ?
— Вековые правила пришли в противоречие с жизнью.
Пока мы это не осознаем, мы будем самоуничтожаться.
Однажды МихаилЛуарсабович показал мне стихи неизвестного чеченского поэта.
Прочел на родном языке:
«Как состарившийся волк, облезла ты, Чечня.
Как заброшенный участок земли, заросла ты.
Взрывами орудий разрушена ты, Чечня.
Обманом и клятвопреступлением поражена ты.
Когда на земле делили счастье,
Тебе досталась война,
Когда делили море учености,
Тебе досталась шашка.
Напугав собой весь мир,
Ты всем стала кровником,
Пока молилась на волков,
Сама одичала…»
Это малая часть подстрочника.
Интернационал есть!
Салаутдин Умалатов — житель Грозного. Сентябрь 1995 года.
— Я думал, что интернационал — выдумка Маркса.
Так вот, я скажу тебе, что интернационал есть.
В нашем подвале было 65 человек. Я понял: нам конец,
когда начались ракетно-бомбовые удары.
Бить по городу, где мирные люди…
Оглядел подвал. Мать моя!
Армяне, чеченцы, ингуши, русские, греки.
Больше русских.
Все замерли, когда появилась авиация.
Я крикнул: молитесь! Каждый своему богу! В голос!
И — началось! Они молились. Каждый на своем языке.
Теперь я знаю, что такое интернационал
и «наш последний бой».
Вера Умалатова со слезами рассказывает о первых солдатиках-танкистах,
заблудившихся в городе: у одних карт не было,
у других — карты 1975 года.
Стоял не по-кавказски дикий холод.
Солдаты без рукавиц, в хлопчатобумажных гимнастерках.
Когда вошли в подвал, ахнули: «Откуда здесь люди?»
— Им перед выступлением сказали, что город пуст
и бить надо по любой движущейся мишени.
Нам их нечем было накормить.
Полевой кухни у них не было.
Отпоили кипятком. Стволы поставили в ряд.
Подвал плакал, когда эти дети спали.
Жаль мальчиков. Их-то за что?..
Спрашиваю у Салаутдина: откуда у него такой русский?
— Просто я очень старался, когда говорил с вами.
Мне это было не просто. Но вы — гостья.
А как старались мы понять чеченцев?
— Мы больше ничего не просим.
Скажи нам, что мы люди.
И как люди имеем право на жизнь.
***
Я не прощаюсь с тобой, Кавказ!
Я вернусь к тебе,
где, как бы ни было трудно,
всегда найдутся люди,
которые не дадут тебе пропасть.
Я вернусь в этот горящий котел наций и этносов,
сотен языков и наречий,
причудливых сочетаний законов предков с бегом времени,
нелепых и жарких противостояний
и естественной жажды красоты и гармонии.
Я вернусь туда,
где можно войти в первый попавшийся дом
и обрести друга и брата.
Я не прощаюсь с тобой, Кавказ!
Взрослые в детдоме
Их сорок с лишним –
мальчиков и девочек от трех до шестнадцати.
У них одна мама — Хадижат,
рыжеволосая красавица.
Босоногие. Едва прикрытые старой одежонкой.
Их теперешняя мама — сама детдомовка.
Как медсестра, работавшая в комендатуре,
Хадижат столкнулась с первыми сиротами в конце войны.
Тех, первых, было семеро.
Она уже знала, что их не отпустит.
Потом собрались и другие…
Среди взрослых обнаруживаю трех русских женщин.
Они — сотрудницы детского дома.
Хадижат — их крыша.
Это тяжелая доля.
Уже не раз Хадижат избивали за покровительство русским.
Мать всех детей стоит насмерть за русских женщин.
Наташа Бундина. Родилась и выросла в Грозном.
Родители в Волгоградской области.
Делала попытку уехать из Чечни –
не получилось.
Сейчас вот не может оставить детей:
— Как я без них? А они — без меня?
Я знаю, что Наташу били наши федеральные мальчики.
Об этом вспоминать не любит. Не может.
Нужна была солярка разжечь костер, чтобы чай вскипятить.
Послали к нашим.
И — началось: ”шлюха”, ”чеченская подстилка”…
Били сильно. Не сопротивлялась.
Но когда командир приказал Наташу раздеть,
что-то внутри взбунтовалось:
”Я лучше умру, чем ты меня разденешь”.
Откуда-то взялись слова,
которых никогда не произносила в своей жизни.
Ночью к ней домой пришли солдатики — извиняться.
Это пьяный командир приказал бить русскую женщину.
— Знаешь, сначала взяла обида. Смертельная.
А потом — ненависть. Сейчас с трудом отхожу от той истории.
Из Грозного не уедет.
Все дети говорят с Наташей по-русски.
С Хадижат — по-чеченски.
Сама Хадижат часто переходит на русский.
В семье есть русская девочка,
изнасилованная нашими солдатами.
Мотив всех ее речей, обращенных к матери, один:
— Мама, никогда не выдавай меня замуж.
— Пусть белый свет для меня померкнет,
если я кого-нибудь из детей выделю.
Они для меня одно целое.
Вы можете определить, где мои дети?
Нет, я так и не угадала, кто родные дети Хадижат.
Галина Шамсутдинова — русская.
Муж погиб вместе со своей матерью.
Это было в январе 1995 года. Убило одной бомбой.
Накануне Михаил сказал жене:
— Ты похоронишь меня без гроба.
— Ты что? С ума сошел? Я что, денег на гроб не найду?
Не нашла. Было не до гроба.
Им всем, пришедшим за водой к единственной колонке,
казалось, что летчик видел их всех.
Принесли воду.
Михаил побежал в дом матери за ключами,
а она, мать, шла ему навстречу.
Летчик все-таки сбросил бомбу.
Галину отнесло волной,
а муж и его мать убиты осколками.
Обоих Галина закопала в огороде.
Галина печалится о сыне. Нервный стал.
Сидели в подвале. Женщины послали сына за мешком сахара —
подслащенный кипяток был основной едой.
Вышел из подвала. Попался на глаза нашим солдатам.
Поставили к стенке. Расстрелять решили.
Дали последнюю сигарету закурить.
— И ты взял? — это Галина.
— Я хотел прожить еще пять минут, — сказал сын.
Тут офицер,откуда ни возьмись: Ты татарин?
(Первый муж Галины — татарин.)
— Да, — сказал сын. Ему было уже все равно.
Привел к себе. Поставил водку, тушенку, какую-то еду.
И ну спрашивать: ”Ты знаешь такую-то улицу? А такую?”
Все про Казань спрашивал, поскольку сам оттуда.
Сын сроду в Казани не был, но от страха поддакивал.
Отпустили его и мешок с сахаром отдали.
Случилось это 12 января 1995 года.
Галина держит на руках годовалую девочку-сироту.
Ее нашли месячной среди трупов.
Взяли ребенка на руки и долго стояли у разрушенного дома:
может, кто хватится ребенка.
Видимо, все погибли.
…А мужа со свекровью она перехоронила.
Теперь у Михаила есть гроб.
1997г.
Все больны
Генералам матери всегда мешали.
Это им принадлежат перлы:
”Пленные — отработанный материал”,
”Меня не испугаете, я всю Чечню прошел”,
”Новых нарожаете”, ”Вы же матери убийц”…
Это — матерям об их детях.
Каждый перл имеет авторство.
Родители помнят время
и место произнесения каждым генералом его афоризма.
***
30 декабря 1996 года чеченец Адам
перевез родителей российских солдат со всем их скарбом.
Он отдал им свою родовую усадьбу.
Она была разграблена,
но к приезду солдатских родителей быт отладили.
Два дома со всеми удобствами, мыслимыми в Чечне.
Не берет ни копейки. За свет, газ платит сам.
Отдал и мешки с мукой. ”Живите, сколько хотите.
Будет мир — приезжайте, когда хотите. Как домой”.
По вечерам из головы красавицы Маши вырываются волоски
Матери гадают на детей:
берешь роскошный Машин волос, продеваешь через кольцо
и застываешь в ожидании над фотографией сына.
Если кольцо стоит неподвижно, сын мертвый. Если движется — живой.
Иногда что-то сбивается в гадании,
и тогда охранник матерей боевик Аюб дает свою фотографию:
— Проверь на мне, я ведь еще живой!
Приехал Любимов из ”Взгляда”.
Его ждали. Готовили праздничный обед.
Включенные камеры и микрофоны изменили материнские лица и речи.
Начались заявления, так не похожие на подлинные страдания.
Рядом со мной медсестра Раиса Мусина из Воронежской области.
Плачет: «Дома увидят ”Взгляд” и скажут:
опять мама ничего не сказала про Сашу.
Саша — лейтенант медицинской службы.
Поехал за ранеными. Пропал.
Ночью она то и дело вставала. Не спится. И все плачет.
У мужа больные почки. Да и с работы ее, наверное, уволили.
А еще печалит ее собственное немногословие:
— Жизнь прожила, а ни с людьми, ни с Богом говорить не научилась.
Что ни скажут, я все только ”да”, ”нет”…
Так мы и просидели на топчане,
пока родители беседовали с Любимовым.
Она плакала, а я утирала ей слезы.
Один раз она спросила как-то очень незлобиво: ”Кто за все ответит?”
После долгой, мучительной паузы сказала: ”Мы отвечаем за все”.
Более прекрасного человека я на свете не видывала.
Дай Бог тебе силы, Раечка! Дай Бог!
Я вышла ночью из спальни.
У входа бодрствовал с автоматом боевик.
Другие вповалку лежали в соседней комнате.
Спят чутко, как на войне.
Стоило мне взяться за ручку двери — проснулись все.
Овчарка Найда, любимица всех, на русских не лает.
Такой у нее условный рефлекс.
Меня, новенькую, обнюхала и ушла, завиляв хвостом.
Военных облаивает всех, независимо от национальности
На ночь массивные железные ворота закрываются наглухо.
Поначалу охранники держали наготове автоматы. Сейчас охрана слабее.
Иногда перед сном, когда во двор спускается темень,
женщины спрашивают друг друга с тревогой: ”Все охранники на месте?”
На сердце у них спокойно,
когда Аюб, отложив автомат, играет в нарды.
Сегодня, седьмого августа 1997 года,
он играет с зятем Анны Ивановны Соловьевой.
Ей семьдесят лет. Она лесовод. Ищет внука Алешеньку.
Ей на смену приехал отец внука.
…Обнаруживаю аппарат для измерения давления.
Начинаю измерять всем. У всех высокое. Запредельное. Все больны.
— Аюбу, Аюбу смерьте…
Что-то он вчера прислонился к косяку и взялся за сердце,
— это Анна Ивановна.
Аппарат зашкаливает. Но Аюб остается нас охранять.
Матери знают, что квартира Аюба разгромлена,
что жена с двумя малыми детками ютилась семь дней в подвале.
Аюб не мог прорваться к подвалу.
Он и по сей день дрожит от мысли, что дети могли погибнуть.
Когда смотрю, как Аюб охраняет родителей,
как матери кормят охранников,
что-то в моем мозгу сдвигается, и я напрочь теряю ориентацию.
Где правда? В чем она?
В чем смысл происшедшей бойни и всего того,
что случилось со всеми нами, а главное — с нашими детьми?
Какова логика движения сейчас, сию минуту,
когда мы все — единое целое: Аюб, матери, отцы,
два родовых дома со всеми душами, живущими в них,
собака Найда со щенятами,
лунная ночь и чьи-то тихие шаги по ту сторону железного забора?
Где мы? Кто мы?
История двух пограничников
Еще тогда, когда машина шла из Давыденко в Назрань,
я знала, что не сумею рассказать о том, что видела.
Двое молодых пограничников отказались вернуться на родину, в Россию.
Разговор сначала с одним пограничником, потом с другим.
Каждый раз, когда я пыталась выразить в слове все,
что происходило, слово изменяло мне,
и я понимала: сказанное есть фальшь.
Не только в психике нашей, но и в жизни есть целые пласты,
лежащие по другую сторону слова.
В нем, этом неназванном, вершится чья-то судьба.
Так мы останавливаемся перед тайной того, что не имеет имени.
Нас трое: Леча Идигов, майор Измайлов и я.
Подъезжаем к дому, в котором уже были в июле:
тогда пограничник Саша Ковалев находился на работе в Грозном
Игорь Лавер — на учебе в медресе.
Была мама Саши: на родине ее сын считается дезертиром,
а двух меньших братьев дразнят чеченцами.
Саши снова не оказалось дома,
и мы пошли к Игорю, который теперь Идрис.
К нашей миссии присоединился Султан,
один из братьев полевого командира,
в доме которого живет Саша, то есть Саид.
Идриса в доме не оказалось. Он был в огороде.
Его названная мать Язман, хотя и проявила горское гостеприимство,
взволновалась нашим приходом:
— Эти русские не сделают плохо Идрису?
Пришел Идрис.
Майор Измайлов настроен решительно:
мы берем в Москву пограничников. Они живут в его доме.
Он гарантирует им безопасность.
Как только решится вопрос о прекращении уголовного дела,
Саша и Игорь могут распорядиться своей судьбой как захотят.
Если не поедут, мы берем с собой их заявления
о том, что они шли защищать своего товарища,
попали в перестрелку и были захвачены в плен
— Я не буду лгать, — сказал Идрис. —
Мы не шли за товарищем. Мы просто ушли из части.
Мы с Измайловым стали говорить,
что Родина совершила большую ложь, послав их в Чечню,
и потому их ложь — уже как бы и не ложь.
Запутавшись в определении масштабов лжи государственной и личной,
мы смолкли.
Нет, он не поедет в Россию. Он останется здесь.
Он принял ислам. Начал новую жизнь. Точка.
Отчаянию нет предела. Бросаюсь в омут с головой:
— Давай пойдем поговорим… в курятник.
Пока Язман ходила за Идрисом в огород,
я приметила пространство, захваченное курами.
Справа открывался вид в поле. Там паслись овцы.
А дальше, совсем дальше были горы,
которые своим существованием говорили о другом, надмирном бытии,
так не похожем на все то, что происходило с нами.
Идрис странно быстро согласился. И мы — пошли.
Разговор длился более часа.
Вот о нем-то я и не могу ничего сказать. Нет слов.
Мы встретились. Я — на закате своей жизни
неизвестно зачем мотающаяся седьмой год по горячим точкам.
Он — в начале новой жизни.
Руки мастерового. И мощный интеллект человека,
много думавшего и думающего о жизни вообще и своей в частности.
Моя задача — обратить Игоря к прежней жизни —
отпала сразу, потому что передо мной стоял не Игорь, а Идрис.
Я все-таки задала ему вопрос:
было ли принятие ислама средством избежать смерти?
Он сказал, что чеченцы такую ситуацию хорошо чувствуют.
Говорит об исламе профессионально.
Коран считает великой книгой еще и потому,
что в отличие от Библии и других священных книг
в Коране за века не изменилась ни одна буква.
Я задала Идрису вопрос,
который уже не раз задавала мусульманам:
правда, что по Корану можно убивать неверного?
Нет, говорит Идрис, —
Коран дает советы, как вести переговоры с неверными.
Я вспомнила свою беседу в Назрани с будущим имамом.
Ученик духовной академии тогда ответил мне:
— Убивать нельзя не по Корану. Убивать нельзя вообще.
Он был очень терпелив к заблудшей овце и в заключение сказал:
”Нас наказывает Аллах за грехи наши”.
Он говорил о грехах своего народа.
Покаянный мотив на дорогах войны дорогого стоит.
Идрис заговорил о грехах народа, к которому принадлежал.
— Вы были когда-нибудь в Самашках? — спросил меня. —
Вам не было стыдно, что вы русская?
Хотя надо отделять действия народа от государства,
я сказала: да.
— Мы падающая нация, — сказал Идрис.
”А не было ли принятие ислама актом покаяния?” – подумалось.
Но ясность мышления Идриса не располагала к поиску версий.
Он выбрал. Как человек имел право. И это было видно.
Мимо нас через калитку несколько раз проходил подросток.
Идрис обращался к нему с делами по хозяйству,
и Резван тут же исчезал.
Было видно, что Идрис в доме хозяин.
Мало-помалу я смирилась с выбором Идриса,
Виной тому было лицо и стать Идриса.
Я впервые видела, как дух пересоздает наш внешний облик,
нашу биологию. Гармония слова и облика была ошеломляющей.
Передо мной стоял Мусульманин.
Чтобы понять это, слова были не обязательны.
Нет, он не будет писать никаких заявлений.
Никаких просьб к Отечеству у него уже нет.
Ну, а если мы сами напишем за Игоря слова,
нужные, чтобы Родина прекратила считать его изменником?
Нет, это уже совсем дурно — подписывать чистый лист.
Миссия моя провалилась.
Майор Измайлов предлагает сфотографироваться.
Идрис наотрез отказывается. Язман просит:
— Сынок, иди сюда, встань рядом…
Сынок встает рядом.
Неожиданно в дело вступает тяжелейшая артиллерия —
чеченцы. Султан Исмаилов и Леча Идигов.
Казалось бы, поведение Идриса должно было льстить им,
но им было не до тщеславия.
На собственной шкуре, опаленной войной, они знали,
что такое родина, вера, народ, семья.
— Сынок, — говорил Леча, —
ты пойми, я сам мусульманин.
Тебе было тяжело, и ты нашел дорогу к Аллаху.
Но есть дорога к твоему дому. К твоей матери.
Братьям, которые меньше тебя, не безразлично,
как складывается судьба их старшего брата.
Это ведь связано и с их будущим!..
— Сынок, — говорил Султан, —
под знаком веры надо родиться. В вере воспитываются с пеленок.
Ты волен в выборе, но не уходи от шанса быть на Родине.
В своей семье. Там, где ты родился.
Я вижу, у тебя здесь твой дом, но он и там, где твои родные.
Это проверено веками и не одним поколением…
Они не перебивали друг друга.
Слово одного подкреплялось словом другого.
Мы с Измайловым притаились, как мыши.
Все действо принадлежало им, немолодым чеченцам.
Они, чьи дома порушены напрочь российской армией,
просили за Россию, за ее землю, за ее матерей.
Значит, вот как оно бывает на свете…
У Лечи Идигова в Орехове уничтожен дом.
Тяжело заболели жена и младшая дочь.
А он — про родину, которую нельзя забыть, про Россию…
Тьма наступила быстро, как это бывает в горах.
Но отчетливо были видны лица говорящих.
Они сделали то, что нам не удалось.
Идрис взял белый лист бумаги и красивым почерком по-арабски написал свое имя.
Потом, поняв мое замешательство, спросил:
— А прежнее имя тоже надо написать?
— Да, — сказала я и перевернула лист бумаги.
Между этими двумя росписями — целая жизнь.
Пришел Саид. В прошлой жизни Александр. Пограничник.
Отказался от всех объяснительных.
Не поедет. Не вернется.
Мы едем в дом Исмаиловых, где живет Саша.
Кто-то останавливает нашу машину. Идрис:
— Вернитесь на чай. Прошу вас, вернитесь.
Ах, почему мы не вернулись? Почему?
Что-то прежнее мелькнуло в лице Идриса. Из той, другой жизни.
Или мне это просто померещилось во тьме…
Саша знакомит нас с новой родней.
Погас свет. Приносит свечу,
и с этого момента весь рассказ, похожий на исповедь,
шел через пламя свечи.
Я держала свечу в руке.
Воск плавился и покрывал мою руку жаркой коростой,
но я ничего не чувствовала — ни ожога, ни боли.
Боль была там, внутри. С ней ничто не могло сравниться.
Он действительно писал заявление
и после каждого слова останавливался, потому что знал:
написанное есть лишь ярлык события, но не его суть.
Он отслужил ровно шестнадцать месяцев в погранвойсках.
Из них три — в Таджикистане. В знаменитом Московском погранотряде.
Ему нравилась служба.
Но уже с Железноводска начал постигать то,
что называется неуставными отношениями.
Терпел, когда в Дагестане их сменяли не через два часа,
а через восемнадцать.
— Он спит, наш начальник, а мы мокнем на сопках. Это куда ни шло.
Но кто дал ему право на нас орать и издеваться?
Мысль о побеге пришла первый раз,
когда Дума приняла решение продлить службу в горячих точках
с полутора до двух лет:
— Почему я здесь должен пробыть дольше только из-за того,
что какой-нибудь крутой козел деньгами отмазался от армии?
Мысль о побеге как спасении окончательно сложилась,
когда шла операция ”Загнуть”.
— Мордобой еще можно стерпеть, но загнуть — это лучше умереть.
Человека не сгибают, а загибают,
чтобы ничего не оставалось от его воли, чести, совести.
— Представляете, если я с оружием, когда могу ответить, загибаюсь,
то что можно сделать со мной, когда я без оружия? Все!
На это расчет: загнуть нужно затем, чтобы после дембеля
забрать все причитающиеся тебе деньги. И мы — ушли.
Перед рассказом о расстреле свеча гаснет.
Саша уходит во тьму. Приносит спички.
Зажигает и рассказывает о той статье в ”Комсомолке”,
подписанной Андреем Чужим.
По спазму, который перехватил глотку,
я могу понять, чего стоил ему даже рассказ об этой статье:
— Если бы вернулся в Россию и увидел этого журналиста,
поверьте, я не просто посмотрел бы ему в глаза.
Однажды полевой командир Сулейман скомандовал: ”Пошли в поле!”
Он знал, зачем уводят в поле. И — пошел.
Что чувствовал? А — ничего! Расстрел уже жил рядом.
От своих или чужих. Уже тогда помогала только молитва.
В руках у командира была ”Комсомольская правда”.
”Идем мочить ”чехов” (чеченцев), — пояснили они сослуживцам,
прежде чем отправиться в рискованное путешествие”.
Это написано про них. Про Мишу, Игоря и Сашу.
Можно себе представить, как это читали чеченцы.
Это стало сигналом: пограничников заслали. Решили ликвидировать…
Пришли в поле. Сулейман медлил, потом сказал: ”Пошли!”
…Саша остался жить. Но теперь он был Саид.
Саид совершал путешествие в ту, другую жизнь
настолько ярко и зримо, с такой отдачей жизненных сил,
что мне легко было представить, как он служил,
каким был товарищем.
Смертельная обида заливала сердце мое:
от каких сынов открестилось наше возлюбленное отечество.
Потом он с болью вспоминал солдатика-баптиста,
над которым измывались офицеры.
— Он не только не умел стрелять.
Его убеждения не позволяли ему дотрагиваться до оружия,
а они потешались над ним.
Солдатик сбежал.
Позже они встретили его — больного, опустившегося, грязного.
— Наша новая вера не позволяла нам опускаться. Его вид был ужасным.
Свеча уже не подавала признаков жизни,
когда Саша поставил число на листе бумаги.
Даже если ничего больше не произойдет,
кто-то должен был из России прийти к своим сыновьям и выслушать их.
Теперь я знала подлинную цену каждой букве заявления.
И эта цена была — жизнь.
Мы вошли в дом, где нас ждали братья Исмаиловы.
Женщины готовились накрыть стол,
но была уже кромешная ночь.
Темнота так плотно опустилась на землю, что заполонила собою все,
не оставив возможности отделить небо от земли.
Все было одно, едино — стояла тьма.
Еще совсем недавно я писала о бегстве
как способе решения возникающих проблем.
В этом есть правда. Но не вся.
Бегство — это способ сказать ”нет!” там,
где человек превращается в ничто.
Они отказываются от ролей героев и мучеников,
потому что каким-то образом догадались,
что у человека есть право на выбор перед лицом своей судьбы.
Они воспользовались этим правом.
Приняв другую веру и другое имя,
они навсегда освободили себя от изнуряющих доказательств,
что ты — человек и имеешь право на жизнь.
Свидетельствую о русских матерях
Они, матери российских солдат,
узнавали о пропаже своих детей,
когда из военкомата к ним приходили с обыском.
Им приносили грозную бумагу:
”Верните своего сына на добровольных началах”.
Так их сыновья попадали в разряд СОЧ
(самовольно оставившие часть).
Родители сами принимались за поиски своих сыновей.
В части им говорили: ”А вы их найдите и приведите к нам!”
Когда пытались выпросить деньги на работе, им говорили:
”Вот возьмите в части справку, что сын пропал, тогда…”
Свидетельствую о русских матерях:
они никогда не покинут Чечню,
пока не найдут своих сыновей, живых или мертвых.
***
Как только попадаешь в Чечню,
начинает работать фактор пространства.
Оно одно и для сына (погибшего или живого), и для матери.
Мать дышит одним воздухом со своим ребенком — и в этом весь смысл.
Лилия Богатова — из села Мамоново Новосибирской области.
Домой без сына не уедет.
Он у нее один. Мужа нет. И таких много.
— Что же мне — поехать в свой дом и удавиться?
Татьяна Ильючик. Разыскивает сына,
пропавшего без вести в ночь на 1 января 1995 года.
”Мама, я прочитал твою записку.
Быстрей заплатите выкуп и освободите нас,
а то нас не будет в живых”.
”Отец, я прочитал вашу записку.
Я очень рад, что вы приехали.
Постарайтесь поскорее заплатить выкуп, а то нас не станет в живых”.
Эти записки получили Ирина Пустовалова и Анатолий Болотов.
— Дорог каждый день. Нашим детям не становится лучше, —
Ирина рассматривает снимок двух солдатиков,
прикованных к огромному булыжнику.
Один из них ее сын.
Светлана Беликова ищет сына с января 1995 года.
Учительница. Муж — кадровый военный.
Вынужденные переселенцы из Туркмении.
Прошла все подвалы военной Чечни.
Ходила с фотографией по всем фронтам.
Нашла боевиков. Показала карточку. Сказали, что видели такого…
Потом боевики взорвались:
— Ты зачем сына послала воевать?
— Ну, убейте меня, если я виновата. Что же стоите?
— Ладно, мать, прости нас, — сказали боевики.
И — пошла по фронтам.
Самашки… Шали… Новые Атаги… Ведено…
Наши бомбили. Укрывалась с боевиками.
— Почему за восемнадцать лет никто не спросил меня,
как я растила сына?
Хватало ли хлеба, молока?
Почему же после восемнадцати его судьбой распоряжаются все?
Судьбой детей должна распоряжаться только мать.
Хорошо помнит российских солдатиков на Северном.
Видела, как забывали про солдат, дежуривших на блокпостах,
как они ели плесневелый хлеб.
Нет, второго сына Светлана в армию не пустит.
Решила твердо. Ни за что!
Пока Валентина Крутоярова из Оренбургской области
искала в Чечне своего сына Костю,
дома завели уголовное дело на другого сына,
уклоняющегося от армии.
Валя мчится домой вызволять из беды другого сыночка.
Смилостивились:
отложили уголовное дело на время поисков старшего сына в Чечне.
Матери стали профессиональными сыщиками.
По крупицам воспроизводят ситуацию боя,
в котором погиб или без вести пропал сын.
Проходят сложнейшими маршрутами по всей Чечне.
Взбираются на любую гору.
Преодолевают все препятствия.
Людмила Стукова,
потерявшая сына в январе 1995 года,
знает все доподлинно:
как часть, в которой был сын, подставили.
Как бежали солдаты, как ранили сына на вокзале.
Нашла русского врача,
сидевшего с двухлетней девочкой в подвале.
Он был свидетелем ада,
поглотившего сына Людмилы.
Мать знает, по каким улицам они шли.
До товарного двора дойти не удалось.
Раздался крик командира:
”Бегите куда хотите!”.
Ночью бежали.
Есть свидетели, видевшие сына раненым в кассовом зале вокзала.
Один будто бы слышал, как Леша сказал:
”Документы не трогай”.
Пить просил. Потом потерял сознание.
У него была не рана, а дырища.
Больше Лешу не видел никто.
Она повторяет: он хотел пить.
Последнее желание сына?
Люда вспоминает российских солдатиков.
Помнит одного в Ханкале в феврале 1996 года.
В большущих валенках. Ну, чистый Филиппок и только.
Маленький росточком, совсем ребенок.
Он сказал, что матери у него нет.
Воспитывала бабушка. Хотел письмо написать,
но ни бумаги, ни конвертов в помине не было.
Вспоминает одного безродного.
Видела его в одной чеченской семье.
Что-то у него было с головой не в порядке.
Домой не рвался. Странный такой, но очень красивый мальчик.
Потом до Люды дошел слух, что он зарубил топором чеченца.
Ну, его и убили.
****
Многие явления на чеченской войне
принято объяснять стокгольмским синдромом.
Это когда жертва принимает методы и мотивы преступника.
Возможно.
Но история пребывания родителей российских солдат в Чечне
говорит о другом феномене,
вскрывающем глубинные сущностные силы материнства и отцовства.
Смена доминанты —
так бы я определила это явление.
Устремленная только к одному — найти своего сына, —
мать попадает в чужой мир,
в мир другого языка, другой культуры, других обычаев.
Говоря языком пропаганды, она попадает во вражеский стан.
Движимая только своей любовью и страстью,
она тем не менее должна разделить горе другого народа,
которое оказывается таким же, как ее собственное.
Другого пути войти со своей бедой для нее нет.
Человек другой нации включается в твои поиски
часто по случайным обстоятельствам,
и ты начинаешь видеть и понимать то,
во что вникать совершенно не собирался.
Ты обязан понять логику другого, его печали,
иначе ты ничего не узнаешь о последнем пути своего сына.
Зрение обретает объем.
— Как ты думаешь, Эльвира,
легко ли мне, русской матери, идти по Бамуту,
от которого не осталось ни одного дома?
Вот сидит чеченка у разбитого корыта,
а я к ней с карточкой своего сыночка:
не видала ли ты, мать, моего ребенка?
Чеченка потеряла свой дом, потеряла сына.
А я к ней со своей бедой… Как спрашивать мне ее, скажи?
Все матери и отцы, живущие по году, два и более в Чечне,
настоящие этнопсихологи.
Они расскажут вам все о чеченском народе.
Например, почему чеченец привстает, когда машина въезжает на мост.
Одни считают, что так облегчается дорога в рай.
Другие полагают, что едущие облегчают участь моста…
Как надо вести себя, если едешь в автобусе, а у тебя нет денег?
Виктор Мителев из Абакана:
— Ты, когда будешь выходить,
обязательно скажи водителю, что у тебя нет денег.
Он даже улыбнется в ответ.
Но они не любят, когда выходишь, не объяснившись.
Получается — как оскорбление ему наносишь.
Обязательно скажи, не бойся.
Они расскажут о гостеприимстве горцев:
— Мне не позволили лечь на пол.
А кровать была одна.
Тогда хозяин положил по подушке в каждый конец кровати
и предложил мне самому выбрать место.
Не знаю, обидел я его или нет.
Может, это оттого, что у нас веры разные?
Люда: По рынкам ходила. Знакомилась с ингушами, чеченцами.
Потом попала к боевикам. Знаешь, когда я испугалась?
Когда утром увидела, на какую гору взобралась.
Дух захватило.
Двенадцать дней пробыла в чеченском доме.
Картошку с ними сажала. До сих пор спина болит.
Там река Аргун протекает. Красивые места.
Ходила к родственникам хозяев-чеченцев.
Угощали, чем могли.
Помню, как в грозу спускалась с гор.
Сплошная темень, кругом обрывы, а у меня в руках палка…
Мне помогали все, кто попадался.
У меня так много теперь знакомых в Чечне!
Полина Захарова: Сына надо было искать в горах.
А как попасть? Чеченка мне повязала платок по-своему,
и боевики провели в горы. Выдавали меня за ее сестру.
А она и была мне как сестра.
Мария Кубата: Если проезжаем кладбище,
автобус останавливается. Все молятся.
Это для них свято.
Они знают, что для чеченца гость только три дня гость,
а дальше — родственник.
Горе не ожесточило матерей и отцов.
Душевное зрение на чужую боль стало острее.
Шестого августа чеченцы отмечали годовщину начала операции ”Джохар”.
Шли фильмы о войне. Боевики стреляют. Мать:
— Вот так же, наверное, в моего попали…
Фильм смотрели молча, реплики бросали тихо.
— Смотри-смотри, какие они здоровенные все, боевики-то, а наши…
— Господи! Детей-то за что? Что их матери пережили!
Смотри, ребенок мертвый…
А у этих-то, деток, страх Божий в глазах. Что деется, что деется…
— Смотри, это ведь дома горят. Интересно, на каком направлении?
Будто Ведено… Я была там…
— И кому это надо все было!
— Девочки, я вот все думаю: почему генерала ни разу не украдут,
а все наших детей?
Через сутки спокойно выносишь и такое:
— Да, да… Увезла в кулечке косточки сына…
— Дай Бог ей, если это кости ее сына…
— Могилу раскрыли, а там они без голов…
— Мы с Олей Миловановой перебрали в Ростове столько трупов.
— …Он еще жив был. А они написали, что скончался.
Ответственность списать надо было…
Петра Олимпиева из Пскова я не застала во второй приезд.
Ищет труп сына.
Петра сократили на работе, жену — тоже.
Есть еще сын. Пошел во второй класс.
Как хочешь, так и живи.
Петр увозит останки солдат в надежде найти свои. Останки сына.
Однажды случилось и такое –
спасибо, один полковник авиации помог. Дело было в Моздоке:
— А ты поищи за ангаром трупы.
Тут на днях хоронили, может, что и осталось.
За ангаром Петр нашел останки двух солдат.
Без голов.
Поехал в Ростов. Как вез останки?
Говорит: просто. Попросил в части простыню.
Потом полиэтилен. Такой мешок получился.
В самолет не взяли. Пришлось в Ростов поездом ехать.
Так с косточками и ехал.
Сына Олимпиева зовут Андрей.
Олимпиев -старший уже два года в Чечне.
Ему один ”пинжак” сказал:
”Искать, кроме вас, никто не будет”.
Петр это понял сразу. Ищет сам. Приедет в сентябре-октябре снова.
Чеченцы обещали: как соберут бахчевые, постараются череп сына найти.
А без черепа ничего путного не выходит с выяснением, сын это или не сын.
1997г.
Феномен майора Измайлова
Впервые я услышала это имя в Чечне в октябре 1996 года,
когда с двумя боевиками разъезжала по Грозному.
Я знала только их имена — Лечи и Асланбек.
Они совсем мальчики.
Но уже имели боевой опыт.
Добровольно взялись сопровождать меня по обгоревшей столице.
Асланбек: — Я бы поставил майора Измайлова министром обороны.
— За что же так высоко? — поинтересовалась я.
— За отношение к солдатам, — услышала в ответ.
Мы – в Грозном. Майор привез гуманитарный груз детям.
— Что, Хадижат опять спит? —
майор Измайлов витийствует в обшарпанном подъезде,
где три квартиры принадлежат семейному детскому дому.
К майору льнут все.
Успевает схватить за руку прохожий — рыжий чеченец:
— Вы майор Измайлов? Спасибо за правду.
Майора Измайлова чаще всего благодарили за правду.
Этнопсихологи говорят:
в языках кавказских народов закреплено понятие,
которое мы бы назвали ”мерой”, ”правдой”,
другими словами, приблизительно передающими то,
что ощущается каждым кавказцем как ”чутье на истину”.
Оно принимается даже в том случае,
если неблагоприятно отражает твое собственное поведение.
Люда Струкова: Сегодня видели очередного Филиппка,
коими, как я поняла, укреплена наша могучая армия.
Шейка тоненькая. Взгляд пугливый. Совсем ребенок.
В ботинках на босу ногу. Хромает, ногу подволакивает.
Через день Филиппка — Сергея Худякова —
освободит из плена майор Измайлов.
Бог судил нам с Сережей целых двое суток,
когда мы жили в ожидании отъезда домой.
В первый день пребывания в Москве
мы пошли на Красную площадь.
«Ты иди к мавзолею, а я куплю мороженое”, — это я.
Но он шел так, чтобы все время видеть меня.
— Если в экскурсионной машине не хватит мест,
ты поезжай один, а я тебя здесь подожду.
— Нет, — сказал Сережа, — я один не поеду.
Он волочил больную ногу в огромной тяжелой бахиле —
Взгляд был безучастен.
Невзирая на все просьбы экскурсовода
”посмотрите налево, посмотрите направо”,
Сережа смотрел только прямо.
На Поклонной горе впервые произнес: ”Это бы сфотографировать…”
Что-то похожее на радость промелькнуло в лице и тотчас исчезло.
Зоопарк не произвел на него большого впечатления.
Увидев гепардов, с тихой радостью сказал: ”Кошки… кошки спят!”
Не впечатлила рысь. У них в тайге водится рысь крупнее и окрасом лучше.
Изумился, войдя в ”Ночной мир”,
где собраны летучие мыши, крысы и все, которых в любой деревне навалом.
За что им такая почесть — сидеть за стеклом и быть освещенными —
так и не понял.
”О чем ты говорил с чеченскими охранниками?” — спросила я.
”О чем с вами, о том и с ними. Обо всем, что люди говорят”. —
”Как кормили?” — ”Получше, чем в части”. И опять — молчание.
Пожалуй, только жираф пронзил нас своей неземной красотой
и безразличием к нашему любопытству.
Он несколько раз прошел мимо нас, видя и ведая то,
что соответствует его росту.
Только на второй день через отдельные реплики я поняла,
как созрела у него и его друга Миши идея — бежать из части.
Они пробыли в ней семь дней.
В течение шести дней их били. Жестоко. Каждый день.
”Почему не сопротивлялись?” —
”А тогда поднимают в казарме ночью, и начинается ”темная”.
Они уже знали, что после присяги будут бить сильнее.
И по лицу. Сейчас, до присяги, по лицу не били.
Однажды соседу по казарме сделалось плохо.
Солдата-новобранца после избиения трясом трясло.
Это случилось ночью. На следующий день их вызвал командир
и сказал, что он был в Чечне, что контужен
и что если кто будет ходить в санчасть,
то он будет лечить его сам…
Жалеет своего друга Мишу. Тот остался в плену.
У Миши была записная книжка, в нее он заносил все.
Там записано, как они сутками спали на земле.
Как бродили в горах, как обходили блокпосты,
как однажды остановили машину и, заглянув внутрь,
увидев милицейскую шинель, поняли, на кого нарвались.
Милиционер тоже сразу понял, что мальчики — беглецы.
Надел на них наручники и провез через два блокпоста.
«Он бы мог за нас повышение получить или вознаграждение,
а он нас спас”.
Хватаюсь за эту мысль
и начинаю выстраивать ”психотерапевтическую” линию:
вот посмотри, Сережа, как тебе повезло!
Милиционер спас. Помнишь: гроза, ливень.
Вы стучитесь в первый попавшийся дом,
и это оказывается дом чеченца, у которого сын погиб в боях.
Чеченец предложил вымыться.
Накормил, напоил, уложил спать,
а наутро дал адрес своей родни:
”Если будет плохо, возвращайтесь сюда”.
А потом они сразу согласились на предложение какого-то чеченца
ехать в Гудермес, чтобы попасть на железную дорогу.
На вокзале водитель повздорил с земляками,
которые служили на таможне.
Вот они-то заковали Сережу с Мишей в наручники.
Я веду ”жизнеутверждающую линию”,
которую заканчиваю неожиданным появлением Измайлова
в Пятнадцатом городке, где сидел Сережа.
Ведь мог Измайлов остановиться на другом солдатике.
Посмотри, как все складывается!
Нить моя безжалостно рвется.
”Я теперь никому не верю.
И себе тоже”.
Ни разу, ни на каком этапе освобождения Сергея из плена
он не услышал: ”Молодец парень! Будешь теперь жить.
Мы рады, что ты вернулся”.
Комиссия по розыску и обмену военнопленных
располагается в здании бывшего ЦК партии.
Мы шли оформлять документы.
Никто из комиссии не захотел взглянуть на мальчика,
которого майор Измайлов с таким трудом вырвал из плена.
Мы так и остались у стен Старой площади.
Он сел по-крестьянски прочно на корточки
и рассказывал, что в их местах сейчас вовсю идет шишкование.
Он предпочитает залезть на дерево и сбивать шишки,
а не причинять дереву вред.
А еще вспоминал, как учил собаку охотиться на зайцев.
— Я ее выпустил, а заяц как выскочит прямо на нее!
И они играть начали.
Собака ничего не поняла и все играла-играла, пока заяц не убежал…
— А ты потом травил собаку?
— Нет. Она же сама поняла, что заяц ее обманул.
Мы пришли на сборный пункт,
чтобы приписать Сергея и дождаться направления в госпиталь.
Следователь жестким голосом произносил слова ”побег”, ”уголовное дело”…
Сережа сидел на краешке стула,
закрыв лицо огромными крестьянскими ладонями.
И вдруг заплакал.
Плакал беззвучно, слезы лились сквозь пальцы.
Он как-то уменьшился в размерах и стал похожим на старичка,
будто хотел навсегда исчезнуть из этого мира — и не мог.
Он подумал, что мы с Измайловым его предали.
Потом точно так же он заплакал в госпитале,
где белокурая бестия врач крикливо потребовала
сдать мочу прямо в приемном покое.
Когда за Сережей плотно закрылась дверь одного из отделений,
я вспомнила, как он рассказывал мне
о чувстве закрытого пространства в плену.
Теперь всякий раз, когда за ним закрывалась дверь,
а мы с майором Измайловым оставались снаружи,
он был уверен, что плен продолжается.
Когда вступают в силу наши законы,
не учитывающие ни психических состояний, вызванных пленом,
ни чрезвычайных обстоятельств,
в каких оказывается человек с конкретной судьбой,
когда эти законы множатся на чиновничью бесчеловечность,
мы получаем только одно — бегство.
Бегство из части, бегство из армии…
Куда угодно — в плен, в другую религию, в другую семью,
в волчью нору, чтобы только не было встреч с властью.
Это как смерть.
Да, надо умереть и родиться в другой стране,
в другой вере, в другом пространстве.
С другим именем, другим людским окружением.
Надо все это принять, как принимают жизнь,
иначе ты потеряешь шанс задержаться на этом свете.
Весь месяц Сережа плакал днями.
”Как увижу во сне что-нибудь из того, что было, плачу”.
Я сказала неправду,
что никто не радовался Сережиному освобождению.
Радовались!
Служители метро, зоопарка не просто пропускали нас бесплатно.
Каждый раз они делали движение навстречу нам,
словно хотели обнять и задержать в своих объятиях.
В отделении подольского госпиталя все,
начиная с врача Анатолия Александровича и нянечек,
любили Сережу и делали все для возвращения его к жизни.
Слава Богу, он скоро уедет домой, в маленькое село,
где всего триста двадцать жителей,
где мама — воспитательница детского сада,
отец, который еще ни разу не давал сыну ружье на охоте,
где друзья-товарищи и где Сереже надо срочно пересдать экзамен на водителя,
а права на трактор у него уже есть.
Он впервые широко улыбнулся, когда сказал:
”Мама уже выслала шишки Нелли Константиновне”.
Нелли Логинова была ангелом-хранителем Сережи в Москве.
Смерть всего не кончает. Ингушетия. 1995 г.
Я в Плиево — палаточном городке для беженцев.
Семья Темебербиевых.
У табуретки, на которой тарелка с остывшей лапшой, —
безногий инвалид, двухлетний малыш,
его мать-горбунья, даун с шестью пальцами
и высохшая старуха,
вдова участника Великой Отечественной войны.
Первый раз они бежали на бэтээре из Владикавказа в Грозный.
Потом они бежали из Грозного в Назрань.
Но прежде безногий инвалид побывал в заложниках.
«Я неходячий. Меня бросили в мертвецкую.
Там, среди мертвых, я и сидел».
Средств на жизнь — никаких,
только орден Красного Знамени и медали погибшего отца.
Как они мчались на бэтээре — безногий и даун?
«Вцепились друг в дружку —
так одним клубком и въехали в Грозный», — говорит вдова.
…Между вагончиками натянуты грязные тряпки —
так отделен больной туберкулезом в последней стадии.
За тряпьем — задыхающийся от кашля мужчина.
«Вот умираю. Если не брезгуете, посмотрите».
Смерть другого всегда приближает твою собственную смерть.
России — мою любовь
С шумом выходим из хинкальной.
Поодаль стоит грузный мужчина в фирменном фартуке —
не то вышибала, не то уборщик.
А в глазах столько тоски.
Оказался авиатором, учился в МАИ.
Вспоминает практику в Чкаловске.
Четверть века работал на авиационном заводе № 31.
— Я не могу видеть, как голодают дети,
поэтому пришел работать сюда.
Передайте Москве мою любовь.
А это Бисан Маргошвили.
Его жену зовут Люба. Откуда у нее русское имя?
Троюродный брат был влюблен в русскую девушку.
Он хотел, чтобы ее имя осталось в их роду.
Когда родилась сестренка, ее назвали грузинским именем Тина,
но кто же об этом помнит сегодня?
Вот так живет память о любви кистина к русской.
А кто помнит, что самого Маргошивли зовут Бисан?
Ну, не любили дети «Мертвые души»,
а он любил Гоголя и ставил им двойки.
За это и прозвали Чичико.
Глаза у Чичико на мокром месте, когда говорит о России.
Отца раскулачили. Голод. Казахстан.
В дороге давали по 400 грамм трухи на человека.
Сестра Хеда умерла.
Помнит школу, особенно ссыльных учителей – немцев.
Отто Крюгер был великий математик,
но любовь к русской литературе пересилила.
В поисках машины Чичико успевает показать мне места,
где проходили гуляния репрессированных.
Оказывается, была традиция у ссыльных,
вернувшихся из Казахстана,
ежегодно встречаться Первого мая:
армяне, грузины, русские, азербайджанцы, греки…
С годами к этому празднику присоединялись дети ссыльных.
Шофер киностудии «Грузия-фильм».
Все двадцать минут дороги говорит только о России:
— Ты бывала в Рача? Это место, где я родился. Лучше в Грузии нет.
Но знаешь, что мне снится по ночам?
Мне снится Подмосковье, где я служил.
Тучково… Старая Русса…
Снится снег. Хотел бы я увидеть своих друзей.
И снег, снег, снег…
Почему я теперь не могу поехать к своим друзьям, не знаешь?
Наш двор – недалеко от Бараташвилиевского моста.
Любимое место детворы – около памятника Бараташвили.
Многие приезжие принимают грузинского поэта за Пушкина.
Соседка Элла:
— Слушай, Эльвирочка, как хорошо они путаются, да? —
Наш Николоз и наш Пушкин.
Так и сказала: наш Пушкин.
Московский проспект в Тбилиси 1996 года
На Московском проспекте в Тбилиси
есть столовая для бедных
от американской Армии Спасения.
Сюда приходят те,
кто остался в Грузии от распада СССР.
У политики должны быть свои заложники.
Если получишь российское гражданство,
теряешь право на квартиру,
а чтобы преодолеть таможенные посты,
не хватает денег.
И к тому же, кто сказал,
что там будет лучше?
Тбилиси – город теплый,
и народ здесь теплый.
Инне Савельевой скоро семьдесят.
Она верит, что ей не даст пропасть соседка – тбилисская армянка.
Анастасии Максимовне девяносто два года.
Муж погиб в годы войны.
Когда-то жила в Новосибирске.
Сорок лет она не покупает себе вещей.
Продать нечего, уехать не к кому.
Под глазом – синяк. Не одолела дорогу —
упала на Московском проспекте на пути к столовой.
«Не дай господь прийти вам к моменту раздачи, —
говорит повар Альберт Овакимов. —
Лица изможденные, руки трясутся.
Интересно, так было в войну?
Талалаева Валентина живет в сарае.
«Люди коренной национальности» выжили из квартиры.
Боится, что заберут и сарай.
Говорят, есть где-то юрист по правам русскоговорящих,
но денег доехать до него нет.
Валечка дарит мне сшитую из тряпок сову.
— А вам? – А мне уже ничего не надо.
Богданова Лиля Викторовна.
Недавно потеряла последнего родственника —
сестра выбросилась из окна.
Пишет стихи, но читать не дает.
Она рассказала, что горячий утюг
можно использовать, как сковородку,
чтобы приготовить яичницу.
«Если вы можете купить яйцо», — добавляет она.
Захарян Тамара Михайловна. Русская. Муж армянин.
Есть дети в Белоруссии и в Ереване.
Дети не могут послать ни посылку, ни денег.
Все надежды на Армию Спасения.
Великая Америка дает тарелку постного супа с рисинками.
Недавно отменили хлеб.
Анна Петровна Медведева из Воронежа.
Прошла с пятилетним внуком семь километров,
чтобы съесть кашу. Каши нет.
Володя хнычет.
Дома дипломированные сын и невестка ждут суп.
Приходит необычной красоты женщина. Вероника.
«Если будет в настроении, споет «Журавли» на венгерском языке», —
шепчет мне Тамара Захарян.
Глубокое контральто. Богатейшая певческая техника.
Она не в состоянии понять, что произошло с великой империей.
Похожа на грузинку. Оказалась украинкой.
Со странной грацией пересекает трамвайные пути,
волоча за собой сетку с банками.
Уход сродни протесту —
демонстративно театрален.
Выпускница Тбилисской консерватории.
«Не ходите ко мне! А то я буду трудно отвыкать от Вас!»
Не пошла.
Валентин Омельченко. Летчик. Офицер запаса.
Двадцать три года отлетал. В сорок три ушел на пенсию,
когда еще была жива империя.
По законам Грузии мужчина получает пенсию в 65 лет.
Работал наземным техником в тбилисском аэропорту
в период грузино-абхазской войны.
К участникам войны не причислили.
Бросил все и уехал в Россию.
Хотел открыть художественную школу
в станице Тбилисская недалеко от Краснодара.
Не судьба. Зайцем вернулся в Тбилиси.
Азербайджанцы из соседних сел – щедрые люди:
оставляют помидоры, лук, картошку.
Угощает меня куриным кубиком.
Я отказалась. Обиделся.
Азербайджанка Ханум поет песню на стихи своего отца,
не вернувшегося с фронта.
Песня обращена к медсестре:
«Скорей меня спасай, сестра».
Ханум бежала с семьей из Ноемберянского района Армении.
Сейчас она сидит рядом с армянкой Жужуной,
у которой ничего, кроме обедов Армии, нет.
Савельева Инна.
Дедушка немец, бабушка полячка, мать русская.
Отец в первую мировую был ранен, перешел на сторону революции.
Работал в милиции, ловил банды. В 32 году забрали в Сибирь, там и умер.
Жили в оккупации, потом увезли в плен в Германию.
Помнит победу в Сталинграде — ночью все в бараке пели.
Надсмотрщик хлестал плетьми.
«А я пела. Я орала во всю мочь. Он не попал в меня».
Французские войска освободили в апреле сорок пятого.
На родине жили в землянках. Дочь заболела туберкулезом.
Прочла объявление о вербовке в Грузию на сбор чая.
Так и осталась.
Хотела поменять квартиру на Одессу, где дочь — не получилось.
Обращалась с просьбой о переселении – не получилось
Она читает свои стихи:
«Если руку протянешь, Святая нам Русь,
Отыщу я дорогу, и к тебе я вернусь».
На этот раз дали стакан сладкого чая и три печенинки.
Чьи-то руки протягивают печенье мне.
Я плачу вовсю.
Они встают в круг и плачут сначала по-русски:
«Отче наш! Сущий на небесах. Да святится имя Твое,
Да будет воля Твоя!»
Потом по-грузински: «Мамао чвено, ромели хар цата шина…»
Наш двор в Тбилиси
На улице Коте Месхи живет Сергей Параджанов.
Мы пойдем к нему завтра,
а сегодня меня ждет наш двор на проспекте Агмашенебели.
Первый раз я поселилась в этом дворе в 75 году,
с тех пор каждый год я появляюсь в проеме арки дома номер сто
и детский крик «Элвира приехала!» звучит раньше, чем я выйду из ее тени.
Распахиваются все окна, выходящие во двор,
и из них раздаются приветственные голоса:
-Хоча (молодец), что приехала!
Русские, армяне, грузины, курды, греки, осетины-
пиршество моей души…
Стоит мне заболеть,
хозяйка Альвина кричит с балкона:
«Кето! Эльвире плохо!»
Дворовый ангел-хранитель Кето опробует на мне лучшие в мире лекарства.
Маша с первого этажа – специалист по давлению.
Она молится за меня, когда я в Кодорском ущелье или Чечне.
«Эрна! Как тебе не стыдно! Эльвира второй день болеет,
А ты ее не навестила. Мне стыдно за наш двор!» —
это Лия, главный судья двора,
звонит соседке-армянке.
На этаже напротив живет богатый сосед Эгир.
Ну и что, что он богатый? Он ведь наш сосед
и он любит всех.
Когда Эгиру прострелили ногу, весь двор не спал.
— Гурик!- это возвращается Тамрико-
передай всем, контролер «свет» идет.
Если счетчики готовы, пусть откроют
***
Сегодня мы всем двором идем к Сергею Параджанову.
Фальшивые украшения все лихорадочно снимают —
насмешки хороши, когда шутишь сам.
Сергей обязательно подойдет к Инне и поднимет волосы-
уши должны быть открыты.
Цвет одежды и прически обсуждаем всем двором.
Банщики, зеленщики, актеры, зэки, режиссеры- все дома,
А Сергей?
Мы в опере.
— За что люблю Эльвиру? – философствует Сергей —
ей запросто можно всучить узбекскую подделку под старинное грузинское серебро.
И это чистая правда.
-Хочешь я покажу тебе коллажное полотно?
Тонино Гуэра хочет увезти его в бар Феллини.-
Он зажигает факел из старых газет
и мы спускаемся в подвал.
Я визжу от восторга:
густая тбилисская ночь, тлеющий факел,
Сергей, рассказывающий очередную байку,
и полотно, от которого щемит в горле.
— Ты смотри, они говорят, что из искры возгорится пламя.
Ни черта оно не горит.
Факел свернут из газеты «Правда»
***
Пышных застолий в нашем дворе уже нет,
но и за тарелкой супа все ведут себя так,
как будто у нас пир горой.
«Знаешь, — говорит мне наш участковый врач Мадлена, —
у моего соседа гости.
По обычаю я должна пригласить соседа с его гостями.
Хочешь знать, почему?
А вот: сосед сам не может про себя говорить хорошо,
а мы скажем гостю, какой у нас замечательный сосед.
Но я стала замечать, что я уже не могу пригласить гостей соседа.
Если умрут наши лучшие привычки, что мы за нация будем?
(Перед Мадленой мы все в долгу — вызов врача стоит 2 лари,
но у нас нет таких денег, а Мадлена все равно навещает нас).
***
— Нет, ты посмотри, Эльвира, что делается, —
печалится Лия.-
Я учительница, не могу купить себе банку мацони.
Так можно?
Кето дежурит вторую ночь подряд-
Пора печь мчади, которые любит наша гостья.
Все со двора плачут,
Потому что близится день моего отъезда.
Нино приносит стихи, посвященные мне,
читает сначала по-грузински, потом по-русски.
До свидания, наш двор, до свидания!
До следующего лета!
Потом у меня будет Чечня.
Если будем живы…
Еще одно лето в зоне локальных войн…
Если будем…
Кодори, Панкисси….
Если…
Марадона
Перекресток улиц Лакоба и Пушкина в Сухуми.
Из дождя появляется молодой мужчина с огромным корытом наперевес.
Здесь же стиральная доска.
Он обвешан бесчисленным количеством вещей
и одет в красные семейные трусы и тельняшку.
Экстравагантное сомбреро,
с которого стекают струи холодного дождя,
увенчано каской, пробитой пулями.
Смоляные глаза, молодое красивое лицо, роскошная черная борода.
Это сухумский Марадона.
— Почему Марадона?
— Похож, — смеется Давид.
Спрашиваю Марадону:
— Что здесь будет?
Он жалуется на инфляцию-
интервью стоит уже не по рублю, а четвертак.
— Кто победит? — спрашиваю.
— Победителей не будет —
говорит сухумская достопримечательность.
-Неужели еще не умерли те, кто ищет души младенцев? -спрашиваю.
Марадона растворяется в мареве дождя,
оставляя последние слова:
— Они всегда живы. Они всегда ищут. Они не умирают.
Никто не знает, где живет Марадона,
никто не знает, как он появился в Сухуми.
Грузин? Грек? — спрашиваю Давида.
— Похоже, что славянин, хотя и жгуче-черный.
А если совсем точно — сухумец.
Позже я еще раз увижу Марадону.
Это случится в аэропорту — он будет петь детям.
Голодные, оборванные, больные,
они ждут сигнала взрослых,
чтобы бежать к самолету и захватывать трап.
Потом их будут отгонять от самолета,
единственного средства связи на этой войне.
Все железнодорожные мосты взорваны.
Кто-то будет перешагивать через детей.
Маленькие взрослые устроили ад,
а постаревшие дети живут на ней, как умеют.
Иногда дети плачут, чаще молчат.
Когда Марадона поет —
улыбаются.
1991-1992г.
Учитель истории из Ванати
«Хочу задержать истину» —
так говорил старый Вахтанг из Тбилиси,
пройдя по тропам Ванати и Сацхенети.
«Сегодня ты мой брат, а завтра враг. Так бывает?»
Севасти — учитель истории из Ванати.
Мы хлебаем мацони и преломляем лаваш в деревянном домике на краю неба.
Снежная ночь прилегла на горные уступы,
но ворочается от кашля старой Надии
и воспоминаний ее дочери Гулико.
Хорошо, что четверо детей Гулико уже заснули.
Впрочем, дети здесь все равно не говорят.
«Они стали дикими», — объясняет Севасти и снова горячится:
«А знаете, что самое главное? Мы, все люди, — одна кровь. Одно мясо.
Сегодня ты мой брат, а завтра враг – так бывает?!»
Батоно Севасти – счастливый человек.
Когда дом его дочери в Цхинвали подожгли, ее спасла осетинка Надя.
Дмитрия Хадури убили по дороге в Цхинвал.
Его мать — осетинка, отец — грузин.
Трое детей Дмитрия пасут скот,
а его мать печалится — обменять бы корову на быка.
Если поминают мужчину,
надо зарезать быка.
Когда я пытаюсь заговорить с детьми,
она останавливает меня:
«Не надо. Они привыкли: чужой человек несет с собой беду —
его надо убить или убежать от него»
Гулико ляжет спать,
обернувшись полумесяцем вокруг маленького Гочи —
это на всякий случай.
Так пуля застрянет в ней и не коснется ребенка.
«Колбатоно Эльвира, делить нечего, два на метр — всем будет,
Вы не находите?»- спрашивает Севасти.
Гулико не спится.
Год назад осетины объявили, что в Марзамети будет толкучка,
и женщины Сацхенети поднялись в горы.
Их окружили и решили сжечь.
Гулико поместили отдельно.
В комнате сидел мальчик лет тринадцати
с автоматом в руках.
Когда – то она работала в цхинвальском интернате,
и мальчик узнал ее.
Он мучился. Закрывал лицо курткой, потом шумно отодвинул автомат в сторону
и показал на дверь.
Гулико выбежала,
но мать оставалась среди тех, кого должны были сжечь.
И тут появился Он.
Старик Осетин.
Он бросился под ноги поджигателям
и все услышали его крик:
«Убейте меня! Сожгите меня! Отпустите женщин!»
Их отпустили.
Гулико плачет каждую ночь:
«Он был очень стар. Он плакал. Он молился. Он умолял»
Дети Гулико молчат.
Я вспоминаю собак,
которых видела в Ванати.
В их повадках было что- то волчье.
Врач Тэмо объяснил мне:
«Это уже мутанты – собаки, выросшие в условиях круглосуточной бомбежки.
Вы заметили, что они не лают?»
Я сегодня, наконец, засну.
А пока я ворочаюсь на деревянной скамье —
буржуйка согревает только пока топится.
Мне, как и Гулико, приснится
Старик Осетин.
Он очень стар. Он плачет. Он молится.
Пока люди думают,
что делать,
Бог поднимает его с колен.
«Хочу задержать истину», —
так говорил старый Вахтанг из Тбилиси.
Многие столетия на этой земле жили два народа —
осетины и грузины,
их корни переплетены кровными узами.
«Я устал после этой войны, —
грустно улыбается учитель истории из деревни Ванати.
Над снежным Кавказским хребтом горит звезда,
которую зажег Старик Осетин.
Он очень стар.
Гулико плачет.
Гочи вздрагивает.
Надия молится.
Севасти думает:
«Сегодня ты мне друг, а завтра – враг — так бывает?»
А врача Тэмо убьют в следующем году.
1991-1992г.
О, какой тамада — Минадора!
Рокот горных речушек, сванские башни, Кодори.
Страх и позор – две сестры, и третья для беженцев — горе.
На ночлег постучимся — кто в доме? Три старухи за стол приглашают.
На топчане прилягу, в щели ветер свистит и, как может, сквозь сон утешает.
Будят ночью – застолье готово. О, какой тамада – Минадора!
Что ей время — подкидыш ослабший, что ящик Пандоры?
Курит «Астру», грозово живет и пока ей всего девяносто,
Речь звучит, как гекзаметр, и душа – богатырского роста.
Папиросы — одна за одной и в руке пистолет неразлучный,
Минадора смеется: Не дрейфь! Бандитам со мной несподручно-
По горам и долам проскакала всю жизнь, собирая колхозы,
Если в лоб попадет моя пуля – знай, по делу отправлю занозу.
Пир в разгаре – лепешка да чача. Наконец-то мы свиделись с небом.
Минадора ко мне обращает свой тост, разломив пополам кусок хлеба:
«Я дала бы отсечь себе палец, Эльвира, за возможность сказать тебе слово
На твоем языке, вести стол по обычаям вашим под защитой грузинского крова».
Ночь длинна и пустыня снегов обживает ущелье Кодори. Нет в Кодори дороги – есть пропасть, лавины и горы. Нет в горах ни преданий, ни сказок, фольклор в сундуках не лежит. Здесь слово – не память сказаний, а способ и думать, и жить. «Кавказ подо мною» — ошиблись поэты, горы не сходят вниз. Спуск и подъем на вершины Сванетии, дорога в старинный Тифлис — и имя напевно, и память – от Слова, И вечна печаль тамады, пусть рог изобилья прольется, как звезды, над былью Кавказской гряды.
Война гонит в спину
Беженцы из Сухуми.
Шквальный огонь рассчитан на скорость убегающих —
отстал, упал, споткнулся – мертв.
Переход беженцев через горный перевал в Сванетии.
Зима. Ночь.Ветер.
Ослепительное сияние Кавкасиони —
Кавказский хребет.
На снегу лежат замерзшие с табличками на груди.
Война гонит в спину – хоронить некому.
Через горную стремнину перебираются грузинки, опираясь на старость.
Над пропастью скользят дети.
Безутешно плачет мужчина,
причитает, как мать:
на его руках замерзшая девушка.
Она так же ослепительно красива, как Кавкасиони.
Мужчина просит идущих помочь спустить труп с горы в деревню.
Война гонит всех мимо.
Через год я найду его.
Это Резо Ломидзе,
Инеза была его племянницей
и росла в семье вместе с его тремя детьми.
Когда бежали из Сухуми,
младшему – Шота – было два месяца.
Он замерз первым.
Нечем было вырыть могилу,
и его уложили в сумку.
Ночью им выпала встреча с крестьянином,
который разжег костер.
Возле огня сумка зашевелилась.
Я держу в Гори на руках этого мальчика
И молю о прощении за все, чего не сумела сделать.
Западная Грузия. 1994.
Бабуци болеет
Грузинский лагерь беженцев в Генцвиши.
Бабуци с сестрой после восьмидесяти лет не считают свой возраст.
Сегодня им надо заготовить дрова.
Когда Бабуци попала в расщелину дерева,
раздался хруст –
лопнула шейка бедра.
В доме стоял такой плач —
мы думали, кто-то умер.
К вечеру в доме перебывало все село —
кто нес сыр, кто мацони, кто водку для компресса.
По стакану собирали бензин, чтобы съездить за врачом.
У кого не было стакана, несли на донышке блюдца.
Каждый день дети Светы водили меня к Бабуци,
Потому что мимо дома больного пройти нельзя.
(Света – из Пермского края, и она чтит обычаи мужа Гиони и его детей).
Молодой русский врач Алеша из Коломенского рассказывает:
«Им здесь без врача нельзя. Болеют часто.
Хотел пробыть год, остаюсь на второй.
Заработков нет».
Мы снова были у Бабуци.
Вечером мне отводят лучшее место в доме.
«Кавказ, ты всегда Кавказ», — шепчу я во сне.
Сон Гиони
— Как бы ни был сладок сон,
слаще всего пробуждение,
потому что первое, что я вижу, —
это лицо моей жены, — говорит Гиони.
Света Ципиани родом из Пермской области.
Когда бомбили российские самолеты,
ее ранило в Сухуми.
Одни армяне ее предали,
но не дай Бог думать о них плохо, — говорит она, —
другие армяне спасли.
Сначала тайком вывозили брата,
потому что он грузин по отчиму.
С тремя детьми она несколько дней пряталась
в платяном шкафу соседки.
Уехала в Пермскую область.
Кавказские страсти далеко.
Мужики пили, работы не было.
— В деревне всем несладко,
но когда твоя подруга детства,
у которой полно кур,
не дает твоему ребенку одно яйцо,
я плохо себя чувствую, — говорит Света.
Кавказский мужчина не может жить без своего дома,
и мы вернулись в ущелье Кодори
и успели похоронить его отца.
Дети Светы говорят на трех языках –
она переводчик с польского.
Света переводила мне поминальные речи мужчин,
поразив тончайшим пониманием их душевных движений:
— Понимаешь, у нас нет не только такого слова, — такого ощущения.
Ее русская речь прекрасна, как ее лицо.
Когда она слушает музыку,
она стоит перед старым магнитофоном,
как перед алтарем.
***
В доме нет ничего.
— Мы нищие, но у нас есть свой дом.
Это лучшее, что мы можем желать себе в этой жизни.
За горой делянка,
где Гиони может посадить хлеб,
но там стреляют.
Здесь дороги ведут над пропастью,
а маленькие Лана и Инна любят гулять.
Гиони хочет подняться за гору,
Лана хватает отца за рукав и умоляет взять с собой.
Гиони колеблется, а потом с силой произносит:
— Я так люблю тебя,
что не могу сказать «нет».
Они поднимаются в гору
и скрываются за деревьями
под закатным солнцем.
Мы смотрим им вслед
и старшая, Инна, говорит:
— Она так любит его,
что ходит в горы, как взрослый человек.
Вечером мы пьем чачу,
а я думаю, как сохранить красоту Светы.
Это единственное,
что Гиони может противопоставить жестокости жизни.
— Как бы ни был сладок сон,
слаще всего пробуждение,
потому что первое, что я вижу —
это лицо моей жены, — говорит Гиони.
Если разбудить тебя ночью
— Если разбудить тебя ночью,
ты и во сне скажешь, кто твои родители.
Что у нее ТАМ повернулось, Эльвира?
Дочь Джульеты уже не заложница.
Когда бандиты назвали имя девочки – Сайха,
ее отец вышел к бандитам,
хотя описания девочки были не точны.
Бандиты мучили ее всего несколько часов.
Они заставляли лазить по дереву —
им интересно было подстрелить, как птичку.
Потом они спрашивали, кто ее родители.
Она сказала, что у нее нет ни отца, ни матери.
— Пусть сирота живет, — сказал один бандит другому.
Потом они еще немного постреляли –
у них была репетиция.
В лесу она плутала сутки.
Она не сразу рассказала матери обо всем.
— Испугалась?
— Нет, увидела в доме новую беду
и не захотела нас расстраивать.
В штабе грузинских войск,
откуда ушел за Сайхой отец,
ничего не знают о его судьбе.
— Эльвира, что должно произойти с ребенком,
чтобы он вот так, враз, сказал:
нет ни мамы, ни папы?
Что у нее ТАМ провернулось?
Она показывает на то место,
где должно быть сердце.
Я думаю о том,
как вырывается с корнем родовая и личная память.
Перед отъездом я снова встречусь с Джульетой.
Вся в черном, поддерживая старую мать, она говорит мне:
— А вдруг и с мужем так будет?
Один другому скажет: «Давай его отпустим.
Он нам ничего плохого не сделал».
Дай Бог! Дай Бог!-
шепчу я про себя, как молитву.
***
На военном аэродроме Вазиани
отчаянно плакал ребенок.
Утешить его никто не мог.
Взрослые совали конфеты, фрукты –
ребенок закатывался в плаче.
И тогда военный врач,
повидавшая детей в горячих точках,
скомандовала:
«Взрослые! Уйдите от ребенка!
Найдите собаку или кошку».
Нашли кошку.
Ребенок запустил руку в кошачью шерсть
и затих.
Врач сказала, что это особой силы стресс,
связанный с «дискредитацией взрослых».
Ребенку в этом случае нужны
прапрапраощущения.
Такое прикосновение возвращает ему равновесие.
***
Школы на местах пепелищ:
Самашки, Грозный, Ачхой-Мартан,
Орехово, Шуша, Степанокерт… —
единственное место,
где не дают сломаться ребенку.
Там мир живет по естественным законам:
один человек помогает другому выйти из войны.
Однажды я спросила Сурена Налбандяна,
учителя из карабахской школы:
когда он преподает детям тангенсы и котангенсы,
знает ли он, какой опыт за плечами его детей?
Сурен не задумывается:
— Я их заблуждаю, — отвечает он. —
Другого пути у учителя нет.
***
Моя прекрасная тбилисская подруга Цицо
работает в школе Амонашвили.
К ней в класс привезли мальчика из Гагры.
Отца мальчика, известного режиссера, убили.
Дом сожгли на глазах ребенка.
— Я не могу при нем вести урок, понимаешь!
Не могу! Не у-ме-ю!
Временами мне кажется, что ребенок обезумел.
Ты понимаешь,
как им смешно рассказывать про Андрея Болконского?
Эти дети заглянули туда,
куда нельзя заглядывать.
Они знают что-то такое,
что человек не должен знать.
Ты слышишь!!! Не должен.
Особенно ребенок.
***
Однажды дети мне объяснили смысл странного рисунка
своего товарища.
Рисунок назывался «Оквадраченное сердце».
Ребенок гениально схватил момент перехода:
части сердца с кровью падают вниз.
У раскрытого люка в преисподнюю
сидит черт
и подбирает летящие части.
Вверху ангелы слабо машут крыльями,
не в силах ничего изменить.
Среди тех, кто объяснял мне рисунок,
был мальчик по имени Андрей.
Казалось, он лучше всех понимает смысл,
но никак не может справиться с речью.
Она рвалась,
и мальчик болезненно ощущал,
что мысль не облекается в слово.
Пытался помочь себе жестами,
но жест не совпадал со словом.
Речь рвалась и спорадически возникала снова.
Это было невыносимо.
Его учительница объяснила мне:
он видел, как умирала бабушка
от пули со смещенным центром тяжести.
Он видел разрывное действие пули.
***
Сын моей подруги армянки Инны,
у которой я всегда живу в Тбилиси,
был в театре.
Мы пришли за ним к концу спектакля.
Нам поручили отвести домой ребенка,
за которым никто не пришел.
Сначала мы шли по проспекту Давида Агмашенебели,
затем свернули на Кировскую,
дошли до русской церкви и повернули налево.
Оказалось, что ребенок вел нас окружным путем.
— Почему ты не пошел чрез двор? –
спросил Левон своего одноклассника.
Восьмилетний ребенок нас не понял.
«Он из Сухуми», — сказал нам позже учитель.
***
Среди беженцев полно детей.
Как они бежали с детьми?
— С ними просто. Все понимают с ходу.
Валида бежала пятнадцать километров с трехлетним ребенком.
Он не плакал. Не просился в туалет.
Бежали в ночь. Когда останавливались,
со страхом спрашивал: «Уже пришли?»
А потом подгонял:
— Быстрее, быстрее!
Это было в Зугдиди
в одной из школ, переполненных беженцами.
Сначала их выгнали из Галльского района в конце сентября 1993 года.
Потом немногие самовольно перешли реку и отстроили свои сожженные дома.
В мае 1998 года их погнали снова.
Сжигали дома, убивали.
У них теперь нет ничего, кроме ста граммов бесплатного хлеба.
Гордость беженцев — американская кровать для больных.
Когда на ней ночью переворачиваются мужчины,
дети просыпаются от ужаса: танки идут.
Тинико за семьдесят. Она рассказывает,
как всей семьей лежали в канаве три дня.
— Как это? — спрашиваю.
— Просто. Кладешь доски. Можно двумя обойтись.
Ложится один. К его подбородку укладывается другой.
К подбородку второго- третий.
И так вся семья. Хочешь попробовать?
Взрыв смеха сотрясает комнату.
Смеются надо мной.
Вспоминаю, как в Польше
режиссер Кшиштов Занусси сказал мне:
«Смех возникает там, где кончается логика».
А еще он сказал:
«Король должен чувствовать себя в опасности,
когда народ так смеется».
Амиран бежал первый раз в сентябре 1993 года.
Через три года накрыл крышу,
начал вести хозяйство.
В мае снова бежал с женой и сыном.
— Извел меня сын. Каждое утро спрашивает:
«Они убили нашу собаку?»
Как будто не о ком больше спросить.
Не выдержал. Вернулся, привел собаку.
Я однажды спросила у Амирана:
в его дом входили бандиты?
Он взвился:
— Если не входили, как дом вспыхнул?
Как он вспыхнул, скажи мне? Ты что говоришь?!
Я уже давно ничего не говорю.
Молчу.
У мигрелов есть пословица:
«Если ты не потерял своего ребенка,
не плачь над моим»
Упрямый Шепилов
— Война развязывает руки.
Убийство не проходит бесследно.
Неважно, ради чего ты убил. Главное, что убил.
Он очень упрям – Александр Шепилов
из миротворческих сил в Цхинвали.
На все сомнения он отвечает только так:
— Не убий.
Миротворцы научили меня
не называть национальность,
когда речь идет об убийстве.
В штаб заходит Валериан Гаглашвили.
У него экспрессия трагиков прошлого века.
— Вариантов нет. Только примириться.
Все, что произошло, имеет лишь одно название –
безумие, — говорит он.
Связист штаба Владимир Литенко
рассказывает об освобождении восьми заложников.
Операцию проводили псковские десантники.
— Я стоял у подножия горы, в голову лезла всякая жуть.
Роскошная была бы ночь, если бы не эти дела.
Ах, какие здесь по ночам звезды!
И почему они воюют в такой красоте?
Псковитяне спустились на бандитов, как летучие мыши.
Как они сумели во тьме отделить бандитов от заложников-
не понимаю…
Спрашиваю у Шепилова:
есть ли такое ощущение: воевать нравится?
-Это может нравиться только человеку с больной психикой,-
слышите? Больной!
И почему — то советует идти в комнату психологической разгрузки.
Комнатой психологической разгрузки оказался двор штаба,
где гулял огромный пес с ободранными,
простреленными боками.
Волкодав. Охранял отары. От людей отвык,
но бесконечную бойню не смог выдержать –
приполз к военным за помощью.
— Это преступно – вооружать народ, -говорит Шепилов.
Если оружие есть, оно выстрелит.
Война дает иллюзию простого решения любого вопроса:
взять автомат и убить.
Не верит, что нельзя прекратить перекачивание оружия:
— Как же так? Каждый автомат и патрон на учете…
Гига Арвеладзе — мхедрионец.
Передвигается в инвалидной коляске.
Рассказывает, как 9 апреля 1999 года
осетины хотели приехать в Тбилиси с грузинскими флагами,
но Звиад Гамсахурдиа начал боевые действия.
— Войну начали мы, – коротко говорит он.
В Сухуми вошли внутренние войска, а не армия.
Это было 14 августа 1992 года.
Уже 20 августа мы собрались — грузины и абхазы.
Решили, что войны не должно быть,
но какие-то силы поняли,
что лучшей провокации для войны нет.
Началась бойня.
Он художник-мультипликатор,
и я спросила, работает ли он над картинами.
— Нет. От кисти к пистолету перейти нетрудно,
обратно – невозможно.
Есть грань, которую нельзя перейти,
перешел — уже убийца,
о каких бы твоих подвигах не говорили.
Кульминации рассказов о пережитом —
та часть события,
где абхаз, грузин или осетин сказали «нет!» насилию.
Об этом говорится с пафосом —
так преодолевается безумие войны.
Человеческая психика выбирает только то событие,
которым можно спастись.
Каморка связистов.
Света нет. Мы набились, чтобы согреться.
Один солдатик, мой земляк из Новосибирской области,
дает мне пятьсот рублей:
— Передайте маме. Ей они там нужнее.
В районе Эшер разрываются бомбы.
Бесик Габачия рассуждает вслух:
— Почему приходит политика и перечеркивает нашу веру друг в друга?
Когда я голосовал за независимость Грузии,
я не голосовал против России.
Это он, Бесик, сказал, что Сатана не силен.
— Сатана ищет слабых,
мы не должны оправдать его надежды.
1991-1992 г.
Не разделяй нас, Господи, не разделяй…
Тэмо убили.
Он никогда ни от кого не прятался:
лечил всех – грузин, осетин, русских.
Накануне грузины сожгли двух осетин.
Проще всего было отомстить Тэмо.
Его бросили на разрывную гранату,
и части тела несколько дней валялись на земле.
Собаки начали их таскать,
и один осетин предал его тело земле.
Два года Русико искала тело своего сына.
Каждый день ей снился один и тот же сон:
Тэмо протягивает к матери руки и шепчет:
«Мэдзебе…»*
Русико обошла все грузинские и осетинские села,
лежащие вперемежку,
и заглядывала во все колодцы, клети и сараи.
Мы с ней идем вверх по дороге.
Сидящие у дороги осетины знают,
что это грузинская мать ищет своего сына.
Она останавливается около них и говорит:
— Здравствуйте все. Иду поминать своего сына.
Я не думаю, что его убили осетины.
Вы не виноваты. Простим друг другу все.
Мы идем выше.
Ты и в самом деле так думаешь, Русико? – хотела я спросить.
Она отвечает:
— Не в этом дело. Осетинская мать тоже потеряла детей.
Думаешь, ей каково? Так же, как и мне…
Я ходила в верхние села зимой, там снег по шею.
Мне помогал один молодой осетин.
Он мне теперь как сын.
***
Я проснулась от плача: Русико молилась.
В больнице собрались все, кого спас Тэмо,
кто работал с ним.
И вдруг вошли они — мать и дочь, Лиза и Цицо —
две женщины –осетинки.
Цицо несла перед собой пять грузинских хлебов,
а Лиза – два больших портрета своих сыновей.
Красавец Гурам погиб в Абхазии в 1992 году.
Акакий, младший, пропал без вести.
Русико первой обняла Лизу.
Они застыли, словно не могли оторваться друг от друга.
«Я не думаю плохо об осетинах. Перед Богом ты оправдана», — сказала Русико.
Потом они заплакали в голос.
Я видела, каким бывает лицо у прощения.
Не разделяй их, Господи, не разделяй!
Не разделяй их, Господи, не разделяй!
Не разделяй…
Муж Лизы – грузин.
Он хотел вскопать свою делянку
и не слушал Лизу:
у него нет врагов ни среди грузин,
ни среди осетин.
Фронтовики погибали быстрее всего.
«Я не испугался фашистов,
почему я должен бояться тех,
с кем прожил всю жизнь?»-
говорили они
и погибали за порогом своего дома.
Лиза виновата дважды:
первый раз, когда убили мужа,
потому что он женат на осетинке.
Второй раз — когда убили ее сыновей,
потому что они дети грузина.
Откуда у нее силы, чтобы идти с хлебами
к грузинской матери?
У них одна молитва,
и я повторяю ее вместе с ними:
Не разделяй нас, Господи, не разделяй!
Не разделяй нас, Господи, не разделяй!
Не разделяй…
__________________
Мэдзебе – «Ищи меня»
Я поверила
С раннего утра идут беженцы.
Много детей. Три переправы через Аргун взорваны.
Пограничники к заставе переносят детей.
Я — тут как тут со своей «священной справедливостью»:
— А вы забыли, что чеченцы делали в Абхазии?
Вы забыли Гагру и отряд Шамиля Басаева?
Молодой пограничник таращит глаза:
— Ты что?! Совсем уже…
Где Шамиль Басаев и где это дите? Ты что? Не понимаешь?!
Как человек войны изживает в себе ненависть к соседу,
который еще вчера был врагом?
Через какие муки возвращается к себе такому,
каким его замыслил Творец?
Как взращивает в себе прощение и покаяние перед людьми и Богом?
Замира живет одна в разрушенном землетрясением доме в Ванати.
Есть опасность, что рухнет второй этаж.
Иду фотографировать, чтобы послать фотографию Шеварнадзе.
Замира отводит меня в сторону и жестом призывает смотреть вверх:
— Видишь, там снег. Это осетинское село Гери.
Каждые три последних воскресенья сентября у осетин праздник святого Георгия.
Раньше мы боялись подниматься, а в последние годы грузины идут в Гери потоком.
Ты должна пойти со мной. Знаешь, зачем мы туда идем?
Должны сказать: «Ничего не было». Ты понимаешь? Ничего не было.
Должны жить, как братья.
И что ты так поздно приехала?- заволновалась она. — Сейчас там снег.
Сейчас там снег, — повторила так,
что я увидела все:
и село Гери, и церковь, и святого Георгия,
который собрал нас в свой праздник, братьев,
осетин и грузин.
Есть в Эредви дом,
мимо которого мы с Русико проехать не можем.
Нана – врач. Война стоит в ее глазах.
Больше всего ее поразили молодые ребята,
которые привезли смертельно раненного товарища.
— Они, видимо, впервые увидели, как человек умирает.
Плакали и просили его спасти.
Они не знали, что есть обстоятельства,
когда человек ничего не в силах сделать.
Спрашиваю у Нино, возвращаются ли осетины.
— Они хотят, — говорит Нино.
— Всего-навсего? – переспрашиваю.
— Что ты, Эльвира, говоришь? Ты знаешь, что такое по-осетински «хочу»?
Желание у осетин – это полсудьбы.
Западная Грузия. Варламу Лимпарди 68 лет.
Со своей семьей скитается шестой год.
Невестка — абхазка.
— Мы хотим жить только с абхазами.
У нас одинаковые обычаи. Они хороший народ.
Приходит с базара соседка Нана,
чудом спасшая от рук бандитов своего отца,
участника Великой Отечественной войны.
— Вы знаете еще один народ на свете,
у которого старики встают, когда ребенок входит?
А мы жили с этим народом, —
это про абхазов говори Нана.
— Мы найдем, что сказать друг другу, когда встретимся, —
говорит врач Аза.
По телевизору слышу слова министра обороны Сергеева:
«Наши войска уже не остановятся. Их поддерживает президент».
Аза спрашивает: В России правят военные?
Гаснет свет. Аза курит, значит, очень волнуется.
Ни с того, ни с сего произносит:
— Нет, надо выбирать Шеварнадзе. Он не начнет войну.-
(был канун выборов в парламент).-
Но как жить, Эльвира? По каким законам?
Вот у меня был случай… Привезли раненного абхаза.
В палату ворвались молодые грузины, требовали его выдать.
Я сказала, что забрать смогут только через мой труп.
Потом я узнала, что мой пациент убил моего знакомого.
Скажи, как быть?
Должна ли я жалеть о своем поступке?
Холодная дождливая осень. Отыскиваем машину.
В маршрутку вместилось тридцать человек.
Лучшее, что можно придумать — сидеть друг на дружке.
Пока набивается салон, коробейники предлагают то нитки, то носки.
«Ты что зарядила по-грузински? Видишь – русская гостья. Давай по-русски».
Мужчина переходит на русский:
— Все нитка для семейный удовольствия и любови.
Ошибки исправляем хором.
Мне как-то хорошо, хотя я и сижу на ком-то. И на мне кто-то сидит.
Встречаю на мосту Тэмо – давнего знакомца.
Беженец из Сухуми. Нет, он не будет любить Зугдиди:
— Это – дождь? Вот в Сухуми настоящие тропические ливни.
В машине постоянно звучит российская музыка.
— Это я специально записал для русского гостя.
Ему снится сон, всегда один и тот же:
— Иду я огородами к своему дому. Страшно, но иду.
Вхожу и вижу трубу — она подпирает потолок.
Я целую ее. Вдруг спохватываюсь: откуда? Её же не было.
Ее поставил абхаз. Зачем я ее целую?
Да, но ведь он ее поставил, чтобы мой дом крепче стоял.
И я снова целую трубу.
Уезжаю в Тбилиси, все еще говорящий на десятках языков.
— Я забыл вам сказать главное, — прощается со мной Тэмо, —
в моем доме у абхаза родились близнецы. Два мальчика.
Не сразу понимаю, радоваться или печалиться.
Мои сомнения огорчили Тэмо:
-Ну что ты! Что ты! Разве ничего не поняла?
Мальчики! В моем доме у абхаза растут мальчики!
Это была чистой воды радость.
Да, Кавказ победить танками невозможно.
Кавказ незыблем, потому что в кавказском человеке заложена способность
восстановления себя в той радости, какая сейчас была у Тэмо.
Валентина Ильинична Шония.
Во время войны освободилась от всех житейских страстей.
Выучила на старости лет английский по своей методике,
теперь вовсю беседует с ооновским негром на отвлеченные темы.
В Россию возвращаться не будет:
— Кто я там? По Лужкову, я лицо кавказской национальности.
Я ведь никогда не сменю фамилию.
Да, я русская женщина, но я мегрельская невестка.
А это уже нечто, без чего я не существую.
В какое бы одиночество меня не вгоняла жизнь, я знаю,
что здесь я никогда не буду одна.
Однажды она сказала, что ей важно видеть улицу освещенной:
— К опасности надо готовиться.
С тех пор абхазы, живущие напротив, держат зажженным свет в галерее,
чтобы русской женщине и мегрельской невестке было спокойно.
— Абхазы и грузины – это мои народы.
Вы знаете, что надо вглядываться в другой народ,
чтобы понять всеобщность нашей природы?
Мне повезло. Предо мной всегда было это зеркало.
Вспомнила вечер входа в Гали.
Ждала машину начальника штаба миротворческих сил
генерала Анатолия Возжаева. Моего земляка.
Он сам подошел ко мне. Предложил бронежилет. Ехал без охраны.
Я заговорила об отличии первой чеченской войны от второй.
Генерал повернулся ко мне:
— Запомните. Там, где деньги, — там кровь.
Там, где большие деньги — большая кровь.
И еще: если запретить политикам вмешиваться в ситуацию,
мир наступит на этой земле через пару месяцев.
Поверьте, я не новичок на Кавказе.
Я поверила, потому что видела все собственными глазами.
Письмо русской учительнице литературы
Послесловие
Дорогая Эльвира!
Десять лет ты приезжала из далекой Сибири
в резервации смерти,
созданные на Кавказе.
«Ты помнила о нас весь год?» —
спросила тебя учительница из Самашек,
когда ты перешагнула порог ее разгромленного дома
после третьего штурма села.
Самашки — это Хатынь Кавказа.
«Это моя боль и мой стыд», –
говоришь ты
и на седьмом десятке лет
идешь странницей по военным дорогам
Чечни, Ингушетии, Грузии, Абхазии, Осетии.
Идешь к неизвестным и чужим тебе людям,
чтобы протянуть им руку и сказать:
«Здравствуйте, я с вами».
( «Знаете, в блокадном Сухуми сижу в какой-то каморке, рядом грузин, украинец, свеча горит… А сверху рвутся бомбы. И вот какое ощущение: не может быть, чтоб кто-то о нас не вспомнил и нас не спасли. Я часто думаю, откуда, зачем каждый раз, когда возникает смертельная опасность, возникает это чувство связи с другими людьми – не может быть, чтоб тебе дали погибнуть. И хотя понимаешь — это иллюзия, дадут, мера жестокости в мире велика. Но зачем-то же заложена в человечество эта иллюзия! И каждый раз продолжаешь верить в спасение»).
Маленькая русская женщина,
учительница русской литературы,
ты для меня – символ великой России,
ее огромного сердца, ее бескорыстия, ее сострадания,
ее терпения, любви и веры.
Там, где ослепшая мощь государства
пропускала через жернова человеческие судьбы,
ты стала прибежищем Бога,
скрывающегося от тех, кто его именем
на исходе 20 века резал горло своему брату.
Эльвира…
Если у нации нет человека,
способного сказать самую горькую правду от ее имени,
нация умрет.
Умрет, даже если еще сотни лет будет воспевать себя,
свое мужество, свою силу, свою дерзость.
Она будет умирать до тех пор,
пока не скажет себе:
«Это моя боль и мой стыд».
Эльвира…
Вершины Кавказа,
ослепляют меня,
чтобы я не видела раны,
нанесенные ему сыновьями,
алчными, жестокими убийцами,
захмелевшими от человеческой крови
и распутной свободы.
Это моя боль и мой стыд.
Эльвира…
когда я смотрю на надгробные камни
старинных кладбищ,
осевшие под тяжестью времени,
я прошу покоя для них,
потому что обвалом в горах
звучат проклятия предков,
чьи потомки осквернили свою землю
зинданами, торговлей людьми
и кровью.
Это моя боль и мой стыд.
Эльвира…
слушая шум горных рек,
я не могу объяснить им,
как матери Чечни
спокойно проходили мимо зинданов,
выстроенных их сыновьями.
Я не могу объяснить,
молоком каких матерей вскормлены
те юноши в Дагестане,
которые каждый день расстреливают
своих братьев,
я не могу смотреть в глаза матерей,
чьи сыновья одели их в черное.
Это моя боль и мой стыд.
Эльвира…
Ветер с гор приносит пепел ожиданий,
а воды Каспия тревожно вздымаются у ног,
и я закрываю глаза, чтобы удержать соленые капли
и не видеть женщин в черном,
которых становится все больше и больше.
Одичалый ветер несет над головой
нашу газету с проповедью американского верующего:
«Будьте чуждыми отцу и матери,
и тогда они примут вашу веру».
Когда на экранах государственных каналов
день и ночь обожествляют телесность
и разрушают национальный дух,
не удивительно,
что зло рождает зло.
«У нас должна быть сила воли,
Чтобы стать чуждыми», —
так начинается оправдание нового зла
в стране, забывшей, что у нее есть
великая культура,
в стране, честь которой
пока еще спасают учителя русской литературы.
Эльвира, кто это остановит?
Чья это боль и чей это стыд?
Диалоги с Данте
Ответь латинской тени
— Ответь латинской тени. — Но, Вергилий,
Здесь в ад никто не сходит, в нем живут.
Над суетной всеядностью могилы
Дух равнодушья, многоликий спрут,
Готовит поле новым погребеньям
И угощает ночь слепым забвеньем,
Пока о страхе ангелы поют.
— Ответь латинской тени. — Но, Вергилий,
Здесь пыткой похищенья и тюрьмой
Твердыни гор и реки отравили.
Выпрашивают матери с мольбой
Своих детей, и обмывая раны
Обманутых сынов тоской Корана,
Как боль земли, стоят передо мной.
— Ответь латинской тени. — Но, Вергилий,
Здесь нет вожатых. Даже в дни покоя
Войной тщеславий демонов кормили
Тираны толп. Забыт безумный Гойя,
Сон разума теряет души спящих,
И тени мудрецов, в огне горящих,
Ответят пеплом губ: «Да возродится Троя!»
Скажи – в Романье мир или война?
— Скажи — в Романье мир или война? —
Спросили тени тех, кто взорван смертью.
— Зачем мне боль и праведность дана,
Когда растут раздорами мечети?
Путь скорбного молчанья бесконечен,
Мой дом враждой и страхом изувечен —
В нем веру и любовь скрепляют плетью.
— Скажи: в Романье мир или война
И правит кто над мирными стадами?
— Двум близнецам принадлежит страна,
Иль одному, двуглавому, с речами
На вырост, на хранение в граните.
Их звездный час пока еще в зените,
И мальчики не будят их ночами.
— Скажи, в Романье мир или война?-
Спросили тени тех, кто смерть посеял.
— Она в любом обличье вам верна
И служит царедворцам, фарисеям.
Ни мира, ни войны: волкам в угоду – люди,
В угоду лисам – нравы, бесам — судьи.
Ни покаянья, ни вины – душа горит, не грея…
— Скажи, в Романье мир или война?..
Но кто ты сам, который вопрошаешь?
— Но кто ты сам, который вопрошаешь?
Чем тяжесть слов дороже немоты?
— Когда на след кровавый наступаешь,
Возможно ль пить бесстрастие воды,
Ее незамутненностью пленяясь?
Когда гора клубится, накреняясь,
К чему ей знать, как тешат взгляд сады?
— Но кто ты сам, который вопрошаешь,
И что слова пред скорбью древних гор?
— Когда закат в ущельях дня встречаешь,
Возможно ль оглашать им приговор?
Когда в руках несешь на свет младенца
Из тьмы войны, кто обвиняет сердце
В хищении святынь от хищных свор?
— Но кто ты сам, который вопрошаешь?
Тревожит слух твой голос, множит боль
В смятенье лада и разладе клавиш.
— Что правых слов растраченная соль,
Когда не просят хлеб, не пьют воды
Все те, кто сыт от крови и вражды?
Утробу духом не неволь.
И кто ты сам, который вопрошаешь?..
Зачем ты здесь и кто с тобою рядом?
— Зачем ты здесь и кто с тобою рядом?
— Я здесь, чтоб скорбь поведать о небесном,
Земное уберечь от пытки ядом
Вражды и равнодушья. В сонме тесном
Поэтов зазвучат торжественным анданте
Слова божественного Данте
Об истинном, о честном и бесчестном.
— Зачем ты здесь и кто с тобою рядом?
— В свой дом зову великих и прошу
Ответа, чтоб родина моя не стала адом —
Я ею как святыней дорожу —
Как сохранить дух доблести Кавказа,
И честь его седин, и воинство наказов?
Я боль его сынов в груди ношу.
— Зачем ты здесь и кто с тобою рядом?
— Я к Слову откровения иду.
Его вписали Библией, Кораном,
Им отводили мерзость и беду,
И дух священных книг – в речах поэтов,
В них тяжкий вздох Земли, ее заветы —
О них напомнят смертному в аду.
Зачем я здесь и кто со мною рядом?..
Где сын мой? Почему он не с тобой?
— Где сын мой? Почему он не с тобой?
— Его глазами выпиты надежды
Со дна небес, и высохшей мольбой
Смыкает ночь обманутые вежды.
Под пытками не будет грешник чистым,
Обманутый идет путем тернистым.
Да сбросит дух кровавые одежды.
— Где сын мой? Почему он не с тобой?
— У юных нет щитов, а старцы служат Пирру,
И волки в пастухах сгоняют на убой
Стада. Нет правил на войне и правды нет у мира.
Утробы матерей хранят детей от страха,
Но слабостью отцов тучнеют горы праха.
Пал жертвенник в огонь, и дни пусты и сиры.
— Где сын мой? Почему он не с тобой?
— Не спрашивай… Не утолю печали.
Я как слепец, иду за их судьбой,
Чтобы понять, где души их встречали
Обманом и лукавством, чье молчанье
Их отдало на стыд и поруганье,
И чтобы праведному злые не кричали:
Где сын мой? Почему он не с тобой?
Поведай нам, как душу в плен берут
— Поведай нам, как душу в плен берут.
— Расскажут тени юношей горячих,
Как пылкий нрав и чувства стерегут
Ревнители заботы о незрячих
И ищущих добро; как праведные речи
Пленяют дух, и дружеские плечи
Смыкают круг и лица в масках прячут.
— Поведай нам, как душу в плен берут.
— От рода и семьи, от почвы отвращают,
Смерть — на престол, жизнь тлену предают,
Любовь к земле корыстью укрощают,
И страх быть трусом превращают в рабство,
И связанность грехом признают братством —
Так душу в плен берут, не возвращают.
— Поведай нам, как душу в плен берут.
— Она сама податлива, как дети,
Когда их в сказку за углом зовут,
Но кто за их уход теперь в ответе?
Смотри в глаза отцов — о тяжесть век!
Что сделал с человеком человек…
Его уму и совести не верьте.
— Поведай нам, как душу в плен берут…
Зачем они несчастны, мой учитель?
— Зачем они несчастны, мой учитель?
— Прервали связь времен в твоей отчизне,
Где мирный житель, благ земных даритель,
Войною свор лишён достойной жизни.
Как хищники, оскалясь над кусками
Растерзанной земли, гордясь клыками,
Они порочат жизнь людей в Исламе.
— Зачем они несчастны, мой учитель?
— Они торгуют долгом и святыней,
Тщеславие и месть — их повелитель.
Ни речь отцов, ни таинство латыни
Не ведомы невежеству и лжи,
И за кровавой линией межи
Ни правых нет, ни праведных отныне.
— Зачем они несчастны, мой учитель?
— Они еще несчастье не познали.
Кровят уста мои… Свою обитель,
Седой Кавказ враждою оболгали.
Им нет уже призвания в великом,
Служенье родине здесь горестно иль дико,
И камни ждать прозрения устали.
— Зачем они несчастны, мой учитель…
Узнай их грех и образ их мучений
— Узнай их грех и образ их мучений.
Что может быть под небом тяжелей,
Чем страх за юношей, взыскующих ученья,
И страх взросления, мужания детей?
Им выбор злой оставил отчий дом:
Бездействие и ложь. Так юный дух ведом
Ловцами душ на смерть в обличии идей.
Узнай их грех и образ их мучений:
Нет юношам дорог и множеством сетей
Грозит цветенью новых поколений
Отчизна. О, где укроют матери детей,
Когда их здесь уводят на закланье,
А там готовят к тяжким испытаньям
За то, что речь – чужда и цвет волос темней?
Узнай их грех и образ их мучений:
Нет родины для тех, кто в ней рожден,
И тот, кто полон сил, ума, стремлений,
Искать чужбины будет обречен.
Прости, Кавказ, за то, что скорбью ада
Наполнился твой дом. Но есть одна отрада:
Дух поиска твоим огнем рожден.
У них к молве, не к правде ухо чутко
— У них к молве, не к правде ухо чутко.
Всех уравнять в грехе и суд вершить
По праву царедворца, выдать утку
Под гогот лжи и ею накормить
Бездонный зев тщеславья – вот удел
Всех тех, кто жаждет новый передел
Угодий и добра, чтоб править или мстить.
У них к молве, не к правде ухо чутко.
Как оскорбляет сытых ум чужой,
Достоинство без знати, без рассудка
Там, где душа укрыта паранджой,
Где путают стул с троном, стол с корытом,
Ласкают тех, кто в свите иль со свитой
И жезл Закона путают с вожжой!
У них к молве, не к правде ухо чутко.
Здесь борзописцы вывихом свободы
Шеренги лжи равняют, словно сутки
В календаре беспомощной природы.
Брутальный дух братается с ханжой,
И брат не брат, коль он не свой – чужой.
Каков посев, такие будут всходы.
У них к молве, не к правде ухо чутко.
О, скудная вельможность нашей крови!
— О, скудная вельможность нашей крови!
Мостит дорогу в пропасть пустоты
Забвение труда в горах суровых,
Заброшенность полей и горечь красоты
Разрушенных селений. В городах
Построены кичливые дворцы, но страх
Копителей добра лишает день добра и теплоты.
О, скудная вельможность нашей крови!
Достоинство служенья благородству
Пылится на кладбищенских холмах. И в нови
Ненасытности желаний не слышит зов судьбы и первородства
Страна последних рыцарей. Дух состязанья
Отныне преуспел на поприще стяжанья,
В потугах высоты, в холопстве превосходства.
О, скудная вельможность нашей крови!
Она, пытаясь правду покорить,
Тщеславно время в памятники ловит,
Чеканит имена, чтоб ими прах корить
В земле истлевших под простым надгробьем.
Что истина тому, кто увлечен подобьем?
Предавшему свой дом себя не победить.
О, скудная вельможность нашей крови!
Законы есть, но кто же им защита?
— Законы есть, но кто же им защита?
Скупили мантии в судах до окончанья дней.
За истину процесс у них засчитан,
Не знающий конца. Здесь лишь судья сильней —
Не Право, не Закон. Напрасно Цицерон
Учил азам речей — от них сплошной урон,
Когда заказов — тьма, когда закон — ничей.
Законы есть, но кто же им защита?
Кто присягал чтить Право, помнить Долг?
Не зерна от плевел просеет сито
Имеющего право: зная толк
В искусстве торга, челядь всех мастей
Его окружит трон. Не пастырь- чародей
Им нужен для правленья и для управы – волк.
Законы есть, но кто же им защита,
Кто к Благу и Добру благоволит?
Чьи думы освятит законом свита
Своих господ и как Закон скроит?
Найти средь них избранников народа —
Напрасные усилья. В хороводе
Бояр и слуг Услуга путь вершит.
Законы есть, но кто же им защита?
У многих правда — в сердце, в тайнике
— У многих правда — в сердце, в тайнике,
Не потому, что в нем живет крамола.
И дела нет в руке, и слов на языке,
Коль у подножья властного престола
Никто не спросит, некому сказать,
Лишь господами смотрят «взять» и «брать»,
А в праведных руках иль пусто, или голо.
У многих правда – в сердце, в тайнике.
Коль выскажешь — ответит лаем свора,
Храня хозяйский сон. А вдалеке
От родины найдешь ли ей опору?
Кто раны дому будет врачевать?
Прости, моя стареющая мать,
Что сыновьям неведомы укоры.
У многих правда – в сердце, в тайнике.
Под подозреньем каждый бескорыстный,
Кто утоление находит в роднике
Щедрот души. Дорогой мглистой
Как долго ходит день и кто зажжет рассвет
Над полнотой молчанья спящих бед,
Чтоб озарить дорогу светом чистым?
Лишь правда — та, что в сердце, в тайнике…
Какая тьма ваш разум обуяла!
— Какая тьма ваш разум обуяла!
За право быть темней — последний грош
Несете, словно ветхое забрало,
Незнанье покупая. Детям – ложь
Дает пример привычных преступлений
Границ добра и зла. Так ставит на колени
Народ себя, пуская ум под нож.
Какая тьма ваш разум обуяла!
Молиться идолу успеха – будь то черт
Или клыки голодного шакала —
Какая тьма вас в сытый плен берет!
На чьих слезах стоят дворцы, хоромы,
Какою верою вы к стадности влекомы?
Не ваш ли ум себя не познает?
Какая тьма ваш разум обуяла!
Как слабость духа обрекла ваш дом
На разрушение! В ущелия Дарьяла
Впустили смерч раздора, и кругом
Эринии пускают споры зла
И душат ваши корни. Проросла
Гора плевел. Кто их смешал с зерном?
Какая тьма ваш разум обуяла…
Народ, забывший все, что в мире свято
— Народ, забывший все, что в мире свято,
Слепою местью выбрал путь бесчестья.
К ответу призывали здесь когда-то
Виновного, и знаком доброй вести
Был сход мудрейших для храненья мира.
Но нет конца убийств. Создатели кумира
Из собственных грехов — падут дорогой лести.
Народ, любивший все, что в мире свято,
Как изменила власть твое лицо!
Безумьем иль невежеством объятый,
Какому дьяволу ты сдал своих юнцов,
Не защитив их поиск — от лукавых,
Их дерзость — от деяний злых, неправых,
Их силу – от всесилья подлецов?
Народ, создавший все, что в мире свято,
Предавший зов земли и имя матерей,
Как ты живешь в удушливых объятьях
Беспамятства? Когда чужих детей
В зинданы на заклание бросали,
Как ваши матери об этом не узнали?
Как допустили торжище смертей?
Народ, забывший все, что в мире свято…
Я тени принимаю за тела
— Я тени принимаю за тела,
А крошево словес – за кремень речи.
Зола в фанфарах – вот и все дела,
Повадки лис умножат дни овечьи.
Орешек крепкий? — Будешь знать волков,
Им по зубам и плоть, и кость клыков,
Коль ты умом и духом был отмечен.
Я тени принимаю за тела
И имена – за знак неповторенья.
Улыбки лгут, и множат зеркала
Бесчисленные тени отраженья
Все той же рати серых, серых, серых,
Все той же рати первых, первых, первых —
Отцы побед не ведают сраженья.
Я тени принимаю за тела
И пастухов – за пастырей народов.
Но в ясли смотрит давняя звезда,
Благословляя бремя новых родов.
Преодоленье – заповедь небес,
Душа жива. И ею мир воскрес.
Лишь в таинстве любви живет свобода.
Но кто-то выдал тени за дела,
И чьи-то стали тенями тела…
Здесь перемен нет даже и помина
— Здесь перемен нет даже и помина:
Вожди меняют слово на слова,
В плетении словес неутомимы,
Нам обещают выбор и права,
Но мул надежд и козлища вещаний
Равно жуют лохмотья обещаний,
Докучные, как прелая трава.
Здесь перемен нет даже и помина.
Меняют ум на заумь, рост — на плешь,
Служителей – на слуг, пустоты — на руины,
Охрану — на опричну, ров – на брешь.
И старь, и новь, верны однообразью,
Мостят пути всевластием и грязью.
Ты голоден иль нет – рукоплещи и ешь.
Здесь перемен нет даже и помина.
Мельчает дух? – И это не впервой.
Все так же к власти страсть неистребима,
И так же платят подданным с лихвой
Решения бессмертных феодалов:
Распродано жнивье, и урожай склевало
Воронье. И только воздух — мой.
Здесь перемен нет даже и помина.
Увы, романцы, мерзость вырожденья
— Увы, романцы, мерзость вырожденья
Стучится в окна дремлющей страны.
Нефть под землей еще полна броженья,
И закрома еще даров полны.
Страна растаскана, сползают швы – огрехи
Решений мудрецов. Латаются прорехи
Наследия отцов. Портные им верны.
Увы, романцы, мерзость вырожденья
К вам хлынула нашествием даров
От общества свободы потребленья.
И тощие съедят своих коров,
Но жаждущий напьется тем ли соком?
У вас давно забыли о высоком,
Без устали меняя кров на ров.
Увы, романцы, мерзость вырожденья
Заразна и грозит обнять детей,
Но снадобье его преодоленья
Пока еще у вас. От множества сетей
Спасется мир, в котором мера счастью —
Жизнь каждого. Нет, не дано пропасть
Тому, кто землю утоляет всласть,
Бросая семя в таинство полей.
Так пишется строка
Путь пройден серединный, и еще
По каменным ступеням Турчидага
Идет мой спутник, светом освещен
Зари багровой. Колоннады
Надменных скал уходят в облака,
В ущелья льют туманы молока
Бродячие стада. Крошится сон
Уступов под ногой. И под уклон
Уходит тень.
Так пишется строка.
Альпийский луг — внизу. Поодаль — лес,
Манит свирель и обещает радость.
Ах, вот бы мне компанию повес,
Речей веселых тесноту и малость!
По прихоти ли посох – я не знаю,
По праву ли дорогу выбираю,
Не знает долг, как выглядит усталость.
Возврата нет. От взгляда вниз
Кружится пропасть обещаньем чуда.
В горах нет прав на слабость и каприз.
Взгляни по сторонам — вот лучшая остуда
От малодушия.
Бурлит Койсу в неистовом порыве,
Клубится пыль в бездонном сне обрыва,
Ослаб душой – и сам себе Иуда.
Идет мой спутник, светом освещен.
Смотри, как этот зверь меня стеснил
— Смотри, как этот зверь меня стеснил.
Грозит загоном, обложил флажками
За то, что речью праведной пленил
Я скорбный дух. Коль выпало с волками
Над пропастью во лжи искать свой путь,
О благе и любви, о доброте забудь,
Но раздавай их щедрыми руками.
Смотри, как этот зверь меня стеснил
За то, что в стае не ищу награды,
За то, что чту созвездия светил
И не ищу в предательстве отрады.
Здесь тот, кто хищнику не бросит кость,
Опасный друг и нежеланный гость.
Не жди от стаи правды и пощады.
Смотри, как этот зверь меня стеснил.
Припомнят мне открытый взор и имя,
И стать прямую. Кто коней поил
На берегах любви- тот из огня в полымя
Войдет. Но взгляд спокоен, коль душа чиста-
Я путь продолжу таинством листа.
Есть Слово на земле, и Слову будет Имя.
Смотри, как этот зверь меня стеснил…
Но твой язык на время пусть замрет
— Но твой язык на время пусть замрет,
Их имена не называй до срока.
Здесь правда не прославит, а убьет,
В чести не дар — бесславие порока.
Чем большее отнимешь — тем сильнее,
А чем сильней — тем отнимать вернее. —
Порочен круг, и в круг ведет морока.
Но твой язык на время пусть замрет.
Пьют упыри и не напьются кровью
Людской, чтоб горечь и волнение сирот,
Молитвы матерей и старость вдовью
Копить для торга перед дверью рая.
Не малодушию учу, к душе взывая:
Умей молчать, чтоб боль унять сыновью.
Но твой язык на время пусть замрет —
Тиран и хищники следят за словом зорко.
Им власть на откуп родину дает,
Вам — правды хлеб и ожиданий корку,
Но в трудный час даст времени ответ
Не знатный вор, не власть, не суд — Поэт.
Тиран и хищники следят за словом зорко.
И твой язык на время пусть замрет.
И часто речь моя несовершенна
— И часто речь моя несовершенна,
И сердце растревожено судьбой
Земли родной. Я с болью сокровенной
Смотрю, как дни уходят чередой,
Не в силах смыть след крови на дорогах.
Моя ль вина, бессилие иль промах,
Что кровь обычной кажется водой?
И часто речь моя несовершенна,
И бездну всех вопросов не объять.
Но будет тень любви благословенна,
Что помогала Совесть вопрошать,
И мерой чести измерять бесчестье,
И меру правды отделять от лести,
И слово снисхождения лишать.
И часто речь моя несовершенна,
И потому я обращаю взгляд
К теням ушедших, к вечности Равенны,
Где с миром звезды просто говорят.
Кавказские хребты, могучие Атланты,
Вбирают скорбь божественного Данте
И мне в глаза с надеждою глядят.
Но часто речь моя несовершенна…
В чем твой источник, раз не в чувстве он?
— В чем твой источник, раз не в чувстве он?
— У разума нет уваженья к чувствам,
Когда он тьмой чернильной порожден.
Убога речь ревнителей Прокруста,
Что жизнь увечат в ложе предписаний,
И если больше слов плоть яви и дерзаний,
То мерой должного заплатит кость до хруста.
В чем твой источник, раз не в чувстве он?
— Но чувств, рожденных злом, не меньше в мире,
Чем тех, что злу приносят и урон,
И даже смерть. На рыцарском турнире
Их просто различить, но тут притворство
Смешало все и с дьявольским упорством
Жизнь превращает в сумрачный трактир
В чем твой источник, раз не в чувстве он?
— Спроси у тех, чья память оскудела.
Они не слышат терпеливый стон
Родной земли, когда в ее пределы
Стучат лопаты. В саванах до срока
Не их ли сыновья в молчании упрека
Ответят мне так телом охладелым:
В чем твой источник, раз не в чувстве он?
Куда идти, учитель? — я сказал
— Куда идти, учитель? — я сказал.
— В краю камней нет камня для опоры.
Орлиный клюв здесь некогда терзал
Плоть дерзкого титана. Дух Пандоры
Здесь собирает жатву. Прометей
Забыт давно подобием людей,
Но скорбь его поныне помнят горы.
— Куда идти, учитель? – я сказал. —
— Они себя орлами называли,
Презревшими паденье. Кто дерзал
Оспорить их полет? Но крылья оборвали
Они сынам. Теперь их ждут теснины,
Орлиный дух на службе зла отныне,
И зерна в почве вороны склевали.
— Куда идти, учитель?- я сказал. —
— Струится кровь по клинописи лет,
И кто бы их падение прервал,
Чтоб жизнь спасти? Услышат ли ответ
И пастыри, и стадо? Рвет печень Прометея
По-прежнему орел, от сытости хмелея.
У них вопросов нет. Так будет ли ответ?
Куда идти, учитель?..
И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим
— И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим,
Укажут путь расчет и осторожность.
Где ваши мудрецы, чей дух томим
Безвластием добра? Какая непреложность
Их обрекла на дым и треск речей?
Презренней жалкой роли палачей
Духовных пастырей и сытость, и вельможность.
И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим,
Кто поведет? От спешности поступков сохранит
Свет разума, но кем он сам храним?
Убогий борзописец очернит
Достойные слова. Чтоб овцы пали,
Чесоточные козы ловко встали
Перед стадами. Кто же их корит?
И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим,
Откроют вход пророчества поэтов.
Чтит избранных и ныне вечный Рим,
Даруя хлеб вопросов и ответов.
Коль твой народ лишен проводников,
Есть книги тех, кто дух спас от оков,
Откройте их — священна жизнь заветов.
Подумайте о том, чьи вы сыны
— Подумайте о том, чьи вы сыны.
Насечкой славы выбиты преданья
На скалах спин и серебре слезы
В ладонях мастеров. Самостоянья
Мощь и хлеб скупых желаний —
Наследие отцов. Но в пиршестве закланий
Забыты письмена, как бремя подаяний.
Подумайте о том, чьи вы сыны.
Был пахарь строг, за бороздой идущий,
Но коль земле вы больше не верны,
У семени нет всхода. День грядущий
В вас сбросит камень — вызов древних гор.
Седой Кавказ готовит приговор
Испившим кровь и стадо стерегущим.
Подумайте о том, чьи вы сыны.
Дух рыцарства хранившие веками,
Достоинства и доблести полны,
Отцы скрепляли пропасти телами,
Но никогда не оскорбляли дом
Раздором из-за веры, и теплом
Встречали путника. Да будет мир в исламе.
Подумайте о том, чьи вы сыны.
Отчизна с вами у меня одна
— Отчизна с вами у меня одна,
Но кто над ней склонился с состраданьем?
Будь проклята сыновняя орда,
Что мать свою сдала на поруганье
Раздорам, алчности, на власть меняя честь,
На зависть- ум. И мертвых душ не счесть,
Чье тело — здесь и хищно, как пиранья.
Отчизна с вами у меня одна,
Но кто народ над пропастью оставил?
Не различить, где доблесть, где вина,
Где своды лжи, где погребенья правил,
Где мужество, где подлость. За измену
Своим святыням на земле геену
Получит мир, которым дьявол правил.
Отчизна с вами у меня одна.
Чума ли правит пиром, пир – чумой,
Ваш дом – во тьме. Объявлена война
Селеньям, памяти, истории родной.
Кто матерью рожден, не будет безучастен
К судьбе земли своей – но каждый к злу причастен.
Кавказский дом разрушит не чужой.
Отчизна с вами у меня одна.
Горька любовь, когда она сурова
— Горька любовь, когда она сурова,
И изголовья нет. На каменных горстях
Моей земли трепещет болью раненое слово,
Звучит надгробной горестью в вестях
О гибели, о жертвах, новых взрывах.
И тела нет, и грудь камней в разрывах,
И убивают с именем «Аллах».
Горька любовь, когда она сурова.
Всевышний ждет прозрения людей.
Над скорбью гор, как обещанье крова,
Над дерзостью и грязью площадей,
Над закоулками ошибок и обманов,
Над толпами заблудших и тиранов
Восходит Солнце в торжестве лучей.
Горька любовь, когда она сурова.
Но плодоносит спрос, ответное усилье
Рождая у земли. Под темнотой покрова
Напомнят корни о своем всесилье,
И прорастая сквозь усталость почвы,
Откроют чистоту и непорочность
Цветения.
Но впились в почву сорняки насилья.
Горька любовь, когда она сурова.
Различьем звуков гармоничен хор
— Различьем звуков гармоничен хор.
Вобрал в себя мой край все краски мира,
Величие и быль кавказских гор
Поёт моя встревоженная лира.
Здесь небо спит у вечности в плену,
Орлы теснят в высотах пелену
Туманов первородности эфира
Различьем звуков гармоничен хор.
Органной мощью горы дню внимают,
Свирельной песней реки тешат взор,
И камни эхом звуки настигают.
В узде молчаний держат горы чувства,
Рождая песнь высокого искусства,
Где дух огня любовь к земле венчает.
Различьем звуков гармоничен хор,
Богат Кавказ различием народов.
Согласие и мир – счастливый приговор
Всесилием небес во время тяжких родов
Земли на свет провозгласил Создатель.
Здесь каждый смертный – сам себе ваятель,
Да будет камень только высшей пробы.
Различьем звуков гармоничен хор.
Где здесь тропа, которая бы шла к вершине?
— Где здесь тропа, которая бы шла
К вершине? — Она по дну сомнения скользит,
Куда, боясь падения, сползла,
Чтоб демонов незнания кормить.
Над ней склонился дуб, хранящий память дома,
И вдоль его корней, теплом земли влекома,
Поднимется тропа, чтоб над землей парить.
— Где здесь тропа, которая бы шла
К вершине? — Она у дома замерла на миг,
Где мать младенца на руки взяла.
Где воды льет серебряный родник,
Там у крыльца спит глиняный кувшин
Балхарских мастериц, там к теплоте морщин
Задумчивой земли цветок приник.
— Где здесь тропа, которая бы шла
К вершине? — Она по сердцу каждого идет,
Когда сон разума рождает разум зла,
И, сея боль, жнет равнодушья лед.
Она ведет к молитвам матерей,
К колосьям хлеба в таинстве полей,
Туда, где ласточка гнездо под крышей вьет.
Где здесь тропа?..
Твой крик пройдет, как ветер, по высотам
— Твой крик пройдет, как ветер по высотам,
Споткнется о незрячесть пустоты.
— Сверяю полнозвучье не по нотам –
По страсти невозможности мечты.
В раздорах вен нет права на разрывы,
Но разбухают кротостью нарывы,
Чтобы взорвать наследье слепоты.
Мой крик пройдет, как ветер по высотам,
И, сорванный восстанием ветвей,
Тоску по недопущенным полетам
Проверит непреложностью корней.
Но нет дороже участи иной,
Чем Долг хранить над страждущей землей —
Так нам дано быть выше и сильней.
Мой крик пройдет, как ветер по высотам,
По острию Кавказского хребта,
И Арарат откроет тайну Лота,
Ковчег отправит к пристани листа,
Осирис шлет папирусы ветров,
И Прометей к рождению готов,
И отвечают вечности уста:
— Мой крик пройдет, как ветер, по высотам…
Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий
— Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий.
Могучим духом вздыблена земля
Твоих отцов, и крепостью усилий
Земли и неба, духом Шамиля
Взывает высь к единству поколений.
Ждут кряжи гор свет мира и прозрений,
Как высохшие реки ждут дождя.
— Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий.
Ковчег спасенья ищет выси гор,
Но если взор от Неба отвратили,
Земля сама исполнит приговор.
Кавказ – ее дитя. Казбек, Эльбрус двуглавый,
Священный Шалбуздаг — сыны огня и славы,
Ее Мечеть, Храм Бога и Собор.
— Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий.
Романья чтит собратьев по земле,
И опыт свой, и мудрость в изобилье
Дарует всем. Но помни о золе,
Которой варварство накрыло дым столетий.
Вулканы зла разбудят лихолетья,
Храни свой дом. Да будет свет во мгле.
— Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий.
Вы дали мне стать больше, чем собой
Вы дали мне стать больше, чем собой,
Суровый Дант, всезнающий Вергилий.
Высоким слогом принимаю бой,
Что Духу шлют бесславные могилы,
Вбирающие плоть греховных дел.
Забвение и прах – вот тягостный удел
Поводырей соблазнов темной силы.
Вы дали мне стать больше, чем собой,
Наследники великих вопрошаний.
Влекома вашей горестной судьбой,
Ищу в лесу блужданий и исканий
Завет преодоленья. В чистилище Кавказа
Дух выстоит, и гранями алмаза
Ответит снег вершин на пламя испытаний.
Вы дали мне быть больше, чем собой.
Пусть скован шаг, но речь моя вольна.
Мы все уйдем в забвенье чередой,
Но каждым смертным будет жизнь сильна,
Когда вину на время не возложат.
Пусть время своей совестью тревожат,
Кто родники земли испил сполна.
Вы дали мне быть больше, чем собой.
Когда Вергилий мне являл воочью
Когда Вергилий мне являл воочью
Нетленность Данта слов, в изгнании рожденных,
Я в смуте дня и равнодушье ночи,
Пристрастная к свече, во тьме зажженной,
Ловила трепет дум ответною строкой.
И мне в изгнанье будто голос был: Открой
Печаль своей земли и дух непобежденный.
Когда Вергилий мне являл воочью
Живую жизнь, в которой нет границ
Пространствам, временам; когда пророчил
Страданьем Дант и доблестью страниц,
Мне будто голос был, как некогда поэтам:
Открой скорбь горестной земли, ее заветы —
У Слова лик Любви и крылья птиц.
Когда Вергилий мне являл воочью
Кромешный ад, чистилище пороков,
Я прозревала в тайне междустрочий
Земную боль поэтов и пророков,
И плач младенца слыша за спиной,
В стихах отозвалась земле родной,
Верна любви и чистоте истоков.
СОДЕРЖАНИЕ
Николо Пиросмани
- Пир вселенский
- Шамиръ са свего карауломъ
- Он только во сне золотистый
- .Да здравствует хлебосольный человек
- Мимо белого духана
- Ты — самое большое чудо Божье
- Четыре лилии на черном
- Я в три цвета люблю
- Восхождение
- Прощание с оленем
- Возвращение Оленя
- Выступление Нико Пиросмани на заседании Общества художников
Камни моей родины
- Каменный триптих
- Аулов лакских имена…
- Это твое Макондо
- Камни моей родины
- Прощайте, вчерашние братья
- Убра
- На этом высохло перо
- Договор общины селения Убра
- Договор общины квартала Цувади
- Я в Кумухе полоненным не был
- Выше
- Сбор винограда в Дербенте
- Ты ищешь царевну Будур?
- Бабушка Ажай и бабочки
- Али из Согратля
- Самое теплое воспоминание
- Пойдем со мной
- Было — не было
- Горы лечат
- Алую шаль вышивала мне мама
- Женщине
- А вчера она проснулась счастливой
- Лишь бы не ошибиться
- Она любит Меладзе
- Она любила Меладзе. Песня февральского ветра
- За жизнь вполсилы – отреченье
- Как у больного в изголовье
- Трудно быть горцем
- Если посчастливилось
- Как опасно ложатся слова
- Что они могут?
- Смерч
- Каменная рать
- Есть такая земля
- Чьих будете?
- Я слышу гул
- Старцы
Из рассказов русской учительницы Эльвиры Горюхиной
- Предисловие. Об Эльвире Горюхиной
- Почему я враг?
- Малая часть подстрочника
- Интернационал есть!
- Взрослые в детдоме
- Все больны
- История двух пограничников
- Свидетельствую о русских матерях
- Феномен майора Измайлова
- Смерть всего не кончает. Ингушетия.1995.
- России — мою любовь
- Московский проспект в Тбилиси 1996 г.
- Наш двор в Тбилиси
- Марадона
- Учитель истории из Ванати
- О, какой тамада – Минадора!
- Война гонит в спину
- Бабуци болеет
- Сон Гиони
- Если разбудить тебя ночью
- Упрямый Шепилов
- Не разделяй нас, Господи, не разделяй
- Я поверила
- Письмо русской учительнице. Послесловие
Диалоги с Данте
- Ответь латинской тени
- Скажи – в Романье мир или война?
- Но кто ты сам, который вопрошаешь?
- Зачем ты здесь и кто с тобою рядом?
- Где сын мой? Почему он не с тобой?
- Поведай нам, как душу в плен берут
- Зачем они несчаcтны, мой учитель?
- Узнай их грех и образ их мучений
- У них к молве, не к правде ухо чутко
- О, скудная вельможность нашей крови!
- Законы есть, но кто же им защита?
- У многих правда — в сердце, в тайнике
- Какая тьма ваш разум обуяла!
- Народ, забывший все, что в мире свято
- Я тени принимаю за тела
- Здесь перемен нет даже и помина
- Увы, романцы, мерзость вырожденья
- Так пишется строка
- Смотри, как этот зверь меня стеснил
- Но твой язык на время пусть замрет
- И часто речь моя несовершенна
- В чем твой источник, раз не в чувстве он?
- Куда идти, учитель? — я сказал
- И к да, и к нет, когда к ним путь незрим
- Подумайте о том, чьи вы сыны
- Отчизна с вами у меня одна
- Горька любовь, когда она сурова
- Различьем звуков гармоничен хор
- Где здесь тропа, которая бы шла к вершине?
- Твой крик пройдет, как ветер, по высотам
- Здесь мука, но не смерть, сказал Вергилий
- Вы дали мне стать больше, чем собой
- Когда Вергилий мне являл воочью