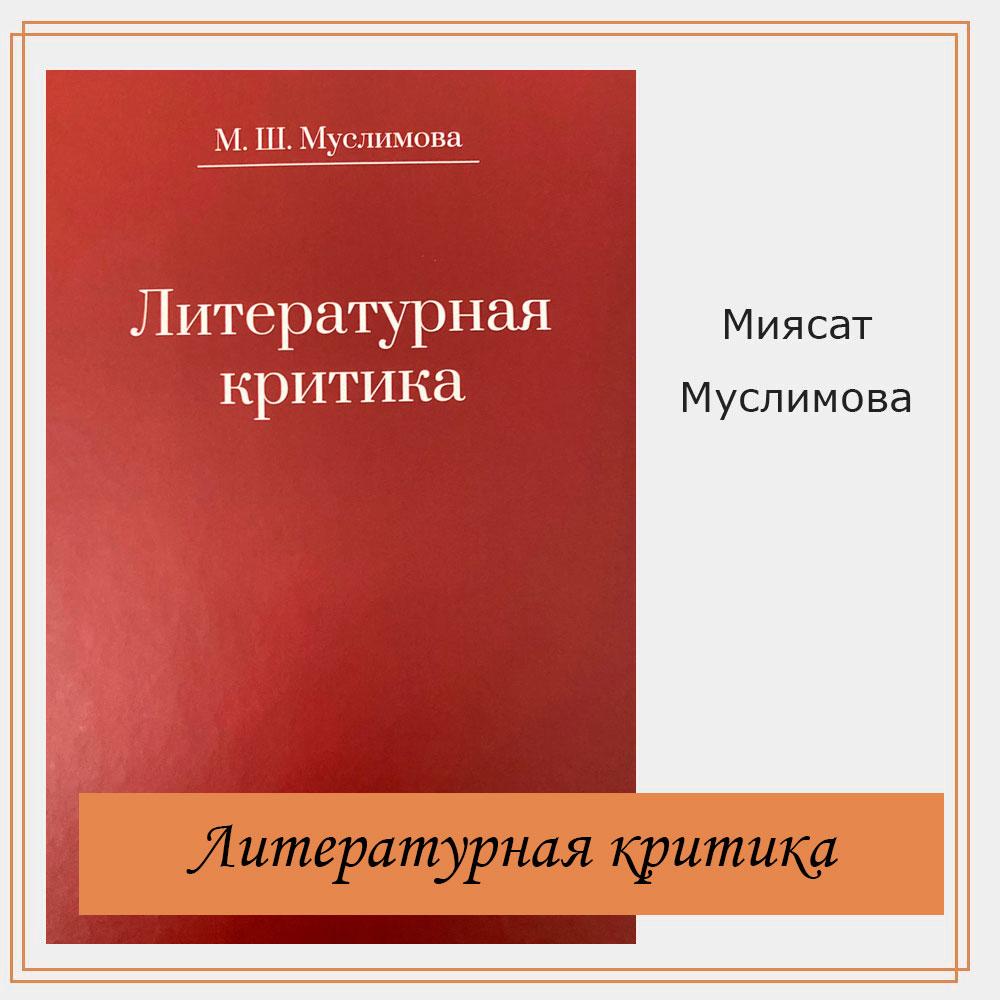-
Жанр: проза
-
Язык: русский
-
Страниц: 3
ПОЧЕМУ ЧЁРНОЕ МОРЕ СОЛЕНОЕ
(Сказка крымских татар)
В далёкую — предалёкую старину на Крымском полуострове, в местечке Карасубазар, жили два брата. Старшего и богатого звали Карим, а младшего бедного Муххарам. Накануне большого мусульманского праздника Курбан — Байрам пошёл бедный брат к богатому Кариму попросить муки в долг.
Но даже горсти муки не дал богатый Карим. Наговорил брату много обидных слов, велел впредь никогда не приходить и, как собачонку, вышвырнул из дома. Крепко захлопнул дверь и защелкнул ворота на огромные замки.
Что делать Муххараму? А делать – то нечего… Побрёл бедняк домой с пустыми руками, как вдруг навстречу идёт старик с белыми, словно снег волосами.
— Ты чего голову опустил, куда бредёшь, что спотыкаешься? – остановившись, молвил старик.
— Да вот сегодня в канун нашего великого праздника Курбан — Байрама, у меня в доме нет даже горстки муки. Напрасно ходил я к брату Кариму, не дал он мне ничего. Стыдно мне на глаза семье показываться! О! Несчастный я!
— Ну, если так плохи твои дела, я тебе помогу. Возьми эти серебряные колокольчики и ступай через густой лес к горе. В горе найдёшь пещеру, там живут карлики. Станут они колокольчики у тебя просить, будут обещать золото, но ты не соглашайся. Скажи, что поменяешь колокольчики только на ручную мельницу, понял? – Старик сощурился, лукаво подмигнул и протянул бедняку серебряные колокольчики.
Пошёл Муххарам через лес, пробирается сквозь кусты и, чтобы веселее было идти, песни поёт. Когда лес закончился, увидел высокую гору, в ней пещеру, а возле пещеры туда – сюда карлики снуют. «Что они там делают?» — заинтересовался Муххарам. Подошёл поближе, а карлики, спотыкаясь и падая, всей гурьбой одну тоненькую камышинку тащат.
— Стойте, стойте… я вам подсоблю! – крикнул Муххарам. Взял камышинку и понёс в пещеру. А под ногами, карлики копошатся, бегают, словно комары пищат:
— Караул! Помогите, разбой! Человека убили!
Оказывается, Муххарам нечаянно столкнул одного карлика с бугорка. Тот упал в колючую траву и от страха бьется, кричит, зовёт на помощь, а сам выбраться не может. Трава цепко держит его за одежду. Нагнулся Муххарам и осторожно вытащил маленького человечка.
— Ну и силён же ты, великан! На что я тяжёл, а ты меня, как пушинку, раз и поднял!
Увидел карлик в руке Муххарама серебряные колокольчики, позвал собратьев и начали они выпрашивать да клянчить:
— Дай нам, большой человек, серебряные колокольчики, а мы тебе взамен ничего не пожалеем! Проси, что хочешь!
Принялись карлики носить из пещеры золото. По песчинке, по песчинке, натаскали целую горку. Заблестели глаза у Муххарама, но вовремя вспомнил, чему учил старик с белыми, как снег волосами, стал отказываться:
— Не возьму я вашего золота! Дайте мне ручную мельницу.
Видят карлики, что Муххарама не уговоришь, не переспоришь, повели его в пещеру, где ручная мельница с каменными жерновами.
— Эта мельница — самое дорогое наше сокровище! — жалобно пропищали маленькие человечки. — Нам с мельницей очень жалко расставаться, но уж больно нравятся и твои серебряные колокольчики! Что же нам делать?
Долго советовались, шептались карлики и решили:
— Ладно, так и быть, забирай мельницу! Покрутишь жернова вправо, намелет она тебе всего, что только пожелаешь. Покрутишь влево, мельница перестанет молоть. Понял? Да не забудь, когда надо остановить мельницу, покрути влево, а то она вовек не остановится, — пищали вдогонку довольные серебряными колокольчиками карлики.
Не успел Муххарам и через порог переступить, а жена сердито кричит:
— Ну что, достал хоть немного муки?
— Ой, жена, и не спрашивай… — отвечает довольный муж, — а стели быстрее на стол чистую скатерть.
Удивилась жена, постелила скатерть. Поставил муж ручную мельницу на стол, повернул жернов вправо, а сам приговаривает:
— Мельница, а мельница, намели нам муки… намели нам муки!
И посыпалась на скатерть белейшая мука.
— Мельница, а мельница намели нам рыбы, намели нам мяса, намели нам…
Много всякой вкусной еды, какую только не просили муж и жена, мелила мельница. И лишь когда всего стало предостаточно, Муххарам повернул жернов влево, и мельница остановилась.
На следующее утро Муххарам говорит жене:
— Довольно нам скитаться по чужим углам, пора и нам жить в своём доме, как живут добрые люди.
Жена согласилась, а Муххарам велел мельнице:
— Мельница, а мельница… нам нужен новый хороший дом с просторными кладовыми и большой конюшней, да чтоб стояли на привязи в конюшне семьдесят три коня! А еще хотим много чебуреков с мясом, сыром и вкусного виноградного сока!
Получили муж с женой всего, что просили, сполна и решили устроить праздник. Созвали всех соседей, родственников, а те никак в толк не возьмут, что это последний в селе бедняк всех на пир созывает! Не обошел Муххарам приглашением и старшего брата.
Пришел в гости Карим, смотрит и глазам не верит! Младший брат только вчера у него горсть муки просил, а сегодня первый богач на селе. « Что за чудеса? Как это можно так разбогатеть? Откуда у брата всё это взялось?» И дал Карим сам себе клятву узнать, в чём же тут дело?
Пирует вместе с гостями, а сам зорко по сторонам поглядывает. Стали гости домой собираться, а Мухзхарам прошёл в комнату, где стоит мельница, крутит жернова вправо, а сам приговаривает:
— Мельница, а мельница, намели мне разных сластей для всех моих гостей! – и каждого гостя подарком оделяет.
Прокрался тихонечко старший брат в комнату, всё увидел, всё услышал.
— Ха-ха-ха… теперь –то я понял, откуда у этого голыша богатство взялось!
Проводил Муххарам с женой последнего гостя, и довольный лёг спать. Прокрался в дом Карим, сунул мельницу в мешок, да ещё и сладостей прихватил. Пришёл на берег моря, а там, на приколе лодка стоит. Бросил в лодку мешок с мельницей, сел на вёсла и поплыл в открытое море.
«Уплыву на какой – нибудь далекий остров, пусть чудесная мельница мелет для меня одного, — размечтался Карим, — тогда я буду богаче всех на свете!»
Долго плыла по морю лодка. Выспался Карим и решил пообедать. Хватился, а в мешке сластей навалом и лишь одна лепёшка. Поглядел на сласти Карим и так ему вдруг захотелось чего- нибудь солёненького!
— Попрошу –ка я у мельницы прежде всего соли. Подсолить лепёшку.
Повернул жернова вправо и приказал:
— Эй, мельница, намели-ка мне соли!
Широкой белой струей посыпалась соль. И глазом не успел моргнуть Карим, а дно лодки сплошь покрылось белым порошком. Когда соли насыпалось по щиколотки, он решил остановить мельницу. Да не тут –то было! Мельница всё вертится и вертится! Ведь не знал Карим, что жернов мельницы надо влево повернуть.
— Эй, мельница, остановись, довольно мне соли! Стой, поганая, стой! Кому говорю, остановись! — Кричал в негодовании, размахивая руками, Карим, которому соли насыпало уже по колено. А мельница всё мелет и мелет соль… и пошла лодка ко дну вместе с мельницей и Каримом.
И сейчас на дне моря лежит эта мельница, а из неё бесконечной струей, соль сыплется. Говорят, будет та соль сыпаться до скончания веков. Вот потому вода в Черном море горько солёная.
ТАТЬЯНА КУЛИК
ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА! ЗА ФРОСЮ!..
В предпраздничный день Победы, извлекая из синего подъездного почтового ящика многочисленную корреспонденцию, мое внимание привлекло небольшое письмо — треугольник. Пока поднималась по лестнице, успела вскрыть конверт. Строчки плясали перед глазами, руки дрожали. От неожиданности остановилась на пороге квартиры и… застыла. Прочитала раз, другой, еще перечитала… А там было, всего — то и читать…
Президент России поздравлял майора запаса Кулика Ивана Васильевича с праздником Победы, благодарил… желал долгих лет жизни. Глаза застила влажная пелена — мой папа, вот уже, десять лет, как умер! Отложив в сторону газеты, журналы, письма, поздравления от друзей, прошла в папин кабинет, села в его кресло. Вытерла слезы. Понимала, произошла ошибка, но…
Вы даже себе не представляете, до чего же я была благодарна тому человеку, который ошибся! Спасибо тебе, неизвестный или неизвестная, за ваш подарок — ошибку ко дню Победы!
Я перечитывала удивительно неказенные слова президента, обращенные к воину победителю, дивилась мудрости, глубине, спокойной строгости изложения текста. Пахнуло отеческой любовью Родины, ее заботой, которую, помню, очень ощущала в детстве, особенно когда смотрела фильмы о войне. В единении со всем зрительным залом переживала и верила в наших героев, в больших военачальников, ведь это они спасут, помогут. Обязательно помогут! Потели руки, сердечко колотилось. А экранные курящие и не курящие дяди, именно от них, как считала тогда я, все зависело, степенно расхаживали в больших кабинетах по ковровым дорожкам, ведущим к огромным дубовым столам. На стенах помеченные флажками висели карты, они задергивались шторками. Я, девчонка, как только могла, торопила военачальников: “Быстрей, быстрей, делайте что-нибудь, ну, что же вы медлите, быстрей…» Сжимая кулачки, жутко переживала за киношных героев, это же наши! «Спешите, торопитесь, дядечки- начальники, — молила я, топала ногами и стучала руками по спинкам кресел: — Ведь солдаты защищают Родину, значит, всех нас и не должны погибнуть!”
Сколько себя помню, День Победы для меня самый любимый праздник, с которым даже в детстве не мог сравниться Новый год со всей мишурой, Дедом Морозом и обаятельной Снегурочкой. Наверное, родившаяся после войны я круто вобрала в себя генную родительскую свежую память.
Вспомнила, как перехватило дыхание, сжалось сердце, глядя на телевизионный экран, где по Красной площади в день Победы девятого мая шли наши мудрые старики. Наши деды – славные победы! “Матерь Божья заступница! — молилась я за них, — не допусти, чтобы кому стало плохо, или чего хуже вдруг кто ненароком подскользнется, споткнется, нога откажет…” Ан, нет! Молодцы!.. Как же они, родненькие, старались! Напрочь, забыли все болячки, маршировали лихо, по – гвардейски, гордо держа седые головы в равнении на трибуны. А небось, кто-то и чувствовал себя неважно, у кого –то подкашивались и не слушались, отшагавшие ни одну державу, израненные ноги, зашкаливало давление, да мало ли еще что в этом возрасте…
Ах, как же достойно прошли они перед нами, своими детьми, внуками, правнуками!! “Вот мы, старые, больные, но и сейчас если Родина позовет, пойдем на ее защиту, заслоним собою отечество, и будем стоять, как бывало, до последнего вздоха, до последнего патрона!” — Вот, что читалось на смелых лицах, вот, что чеканилось в их еще твердом шаге! Поняли мы это? Особенно молодежь, больше вглядывающаяся в отражения зеркальных витрин? Не знаю. Но я поняла. И просила Боженьку продлить всем нашим старикам — защитникам дни на земле, дать здоровья, а нам мудрости и глубокого понимания их выполненного долга. Меня переполняла гордость и… горечь. Не дожил мой папа до этих дней, а как же мечтал с друзьями — однополчанами вот так победно отмаршировать по главной площади страны, по Красной площади.
Пристально вглядываясь в телевизионный экран, мне виделся и мой папа, вон… вон… это же он, в той шеренге, второй справа, да, да… Нет! А так похож! Может вот это он? Точно… он!! Нет, нет… не тот, вот, тот, что слегка хромает, /у папы в последнее время очень болели ноги, от блуждающего осколка снаряда/. “Подождите, — вскрикивала я в отчаянии, — верните, ведь это мой папа!..”
Потом смотрела трансляцию концерта из Кремлевского дворца съездов. Песню “Священная Война”, прошагавшую в солдатском строю от первых залпов до самого победного майского Салюта, ветераны слушали стоя, гордо расправив украшенную многочисленными орденами грудь. Слезы катились по морщинистым лицам. И я ощутила почти вселенское одиночество этих бесконечно убывающих людей, победивших в самой кровопролитной жестокой и несправедливой войне, людей, так и не познавших, что же это такое радостная жизнь в стране победителей или хотя бы сносная жизнь под конец ее, жизни… Да… эта тяжелая тема. Не буду.
Я… я лучше вот, что сделаю, напишу письмо папе. Конечно, конечно — Я ДОЛЖНА НАПИСАТЬ ПИСЬМО ПАПЕ!
“На письма надо отвечать.” — Так учил папа. А наказы папы усвоила крепко. На всю жизнь.
* * * * *
…Здравствуй, папочка! За окном распустился, расцвел посаженный Тобою каштан и вот уже десять лет, как Тебя нет, но это неправда и ничего не значит, Ты всегда со мной, со всеми нами. Твой портрет в красном углу нашего дома, а рядом командирский планшет, пробитый немецким осколком. Ты мой Ангел Хранитель, моя путеводная звезда, мой компас, сверяясь с которым мне иногда становится за что-то стыдно перед Тобой. Когда совершаю хорошие поступки, то похвалы от Тебя не жду, потому что Ты всегда считал, почему это человек должен поступать не по совести? А поступают папочка, ох, и еще, как поступают… И мне часто, очень часто хочется уткнуться в Твое широкое плечо и пожаловаться Тебе, как в детстве, помнишь?.. Я всегда обретала силы, когда Твоя отцовская ладонь гладила мои косы в бантах, снимая все мои девчоночьи быстролетные печали и обиды.
Да и взрослая, будучи уже сама мамой, сколько же раз я спасительно припадала к твоей груди, а Ты успокаивал меня, будто я по –прежнему твоя маленькая дочурка, хотя в моих волосах уже поблескивали серебряные нити. И боль уходила… Успокоившись, я радостно бежала в столовую, чтобы сделать Тебе приятное — приготовить вкусный обед. Ты всегда любил сытно покушать, /сказывалось голодное детство, юность, война…/ Я знаю, папочка, Тебе очень нравилось, когда я готовила, Ты частенько просил сварить наш кубанский борщец или вареники с картошкой, а если это было летом, то с вишней, да чтобы обязательно с косточкой, а сверху медку, да побольше, помнишь, папочка? Ел Ты аппетитно, со стариковской аккуратностью, нахваливал меня, ел бережно, чтобы не смахнуть даже крошечки хлеба со стола.
А в День Победы с цветами мы всей семьей шли к памятникам героям войны. К этому, папочка, нас приучил Ты. Когда была маленькая, то со свойственной детям хвастливостью возлагала большие букеты сирени к подножию постаментов и, оглядываясь на людей, стоявших в глубокой задумчивости, считала, что все на меня смотрят, восторгаются и думают: “Вот, мол, глядите какая пригожая девочка, да с таким букетом, умничка!” Дудки! Это потом, повзрослев, догадалась, о чем, понурившись, думали и продолжают сейчас размышлять эти скорбно стоящие ветераны у святых их сердцу могил, поминая погибших родных и павших товарищей в то лихолетье минувшей войны.
К шести вечера у нас в доме в день Победы всегда накрывался стол. /Я это, папа, делаю и сейчас./ Включен телевизор, на экране, утопающая в цветах, могила неизвестного солдата. Ветерок колышет знамена, а на фоне светлой, траурной музыки звучит баритональный голос диктора. /Господи, представляю, сколько же он, бедняга, репетировал!/ но зато каждая звучащая буква, ни слово, а именно буква произносится и воспринимается, как молитва о всех не вернувшихся домой к матерям, женам, детям… И, наконец, минута молчания… Ты, папа, вставал из-за стола, вытягивался в струнку и виделся мне молодым бравым лейтенантом, только что в срочном порядке, закончившем командирские курсы. Я же стояла неловко, переминаясь с ноги на ногу, не привыкшая держать руки по швам и в упор смотрела на Тебя. Слёз в Твоих глазах не было, но взгляд… Знаю, что Ты в эти минуты был там, в кроваво – огненном месиве Прохоровки, на вздыбившейся от бомб и снарядов земле Орловско-Курской дуги.
Молча, до дна Ты выпивал рюмку водки, морщась, нюхал корочку черного хлеба, потом закусывал. И тут начинались воспоминания о дорогах войны, о друзьях – товарищах… Перебивая друг друга, мы с сестрой сыпали вопросами. Ты принимал их всерьез и отвечал нам основательно, как взрослым. Только глаза чуть –чуть по – доброму улыбались, пряча грусть и суровость той правды войны.
Темнело, вдали вырисовывались светящиеся квадраты домов, по квартире разливался запах любимых цветов, сирени и ландышей, расставленных мамой в вазоны.
Мне было так хорошо, прижавшись к Тебе, слушать, хотя еще многого осознать не могла. И знаешь, папа, что меня в эти праздничные вечера поражало в Тебе? Сейчас скажу… Ты был особо внимателен ко всем нам. Какая-то не всегдашняя нежность сквозила в Тебе, когда Ты обращался к маме, мы, девочки, ощущали Твою прямо-таки не прикрыто обостренную встревоженность и заботу о нас. У Тебя росли две девчонки, как-то у них сложится в жизни? Какие им судьба уготовила ноченьки, каких соловьев? Ты отец, глава семьи, как не переживать, как не думать за будущее дочек? А нашим девчачьим сердцам пока так легко и радостно с Тобой! Хорошо когда в мире рядом родная, мудрая и светлая душа.
… “За Родину, за Сталина, за Фросю!…” /Таким красивым русским именем Ефросиния звали мою маму/.- Срывая голос, кричал командир батареи Иван Кулик, стараясь перекрыть грохот боя и резко взмахивал рукой. Батарея изрыгала смертоносный огонь, смрадно дымились, горели подбитые немецкие танки, злобно ухали, неся смерть, тяжелые вражеские минометы. И негде укрыться от этих взрывов, от смертельных осколков… Падали бойцы, но наши пушки продолжали бой… Папа, Ты рассказывал, а я все это представляла наяву, добавляя виденное в военных фильмах.
Ты объяснял, что вашу артиллерию на фронте прозвали “Прощай, Родина!”, потому что она была всегда намного впереди линии обороны, далеко от пехоты, зарывшейся в землю. Никто не страховал вас, истребителей танков, никто не поддерживал, вы оставались один на один с врагом в открытом всем смертям Прохоровском поле. Сражались насмерть, отступать было некуда. Да и «сорокопятчики» не отступали. Теперь я знаю, «сорокопятка» — это противотанковое орудие сорок пятого калибра.
— По правому флангу у корявой березы пулеметное гнездо… прямой наводкой, прицел… два… Огонь!!! Так его… раз так и раз этак!.. Ваську – друга чтобы помнили…
— Бах!.. Бабах!.. – били «сорокопятки».
— Слушай меня! Ориентир разбитый тягач… «Тигр»! Туды его растуды… Левее, Лешка, еще чуть – чуть… ноль — двадцать, прицел меньше два… Огонь!!!
— Бабах!.. Бабах!.. Бабах!.. – отзывались «сорокопятки».
— Что-о-о… взяли гады?! Сейчас еще получите… Третье орудие, слушай мою команду! Слева заходят… — хрипло продолжал командовать раненный лейтенант…
Видишь, папочка, я до сих пор помню Твои команды на том знаменитом Прохоровском поле, помню, как Ты за праздничным столом, покашливая от волнения, тихо рассказывал о сражениях на Курской дуге, вблизи железнодорожной станции Прохоровка, где на тринадцатые сутки, /столько шло невиданное по мощи сражение!/ Тебя ранило в ноги. Помню, когда Ты говорил о немецких самолетах, которые стая за стаей, протяжно воя, бомбили позиции батарей. Даже земля горела. И негде укрыться солдату. Разгорячившись, Ты нечаянно опрокинул стакан с минеральной водой, задел ложечку, она упала, звякнула…
Я, замерев, слушала и словно присутствовала там, на войне, рядом с Тобой. А ты иногда, забывшись, выкрикивал те слова, которые оправданно звучали в те мгновения жизни на огневом рубеже, смущался, хмыкал. А я будто видела те самые немецкие танки, их было так много, что от лязга гусениц, рева моторов и скрежета металла, как рассказывал Ты, стоял в ушах постоянный гул. И Ты не поверишь, папочка, но этот гул стоял и в моих ушах, я его слышала!.. Веришь? И все эти танки хотели растерзать, уничтожить наши «сорокопятки», Тебя и Твоих товарищей – солдат. Я словно узнавала этих молодых ребят в потемневших от ратного пота гимнастерках, усталых и израненных. И вместе с Тобой, от поднимавшихся в воздух дыма и пыли мне становилось трудно дышать, а под ногами колебалась земля от взрыва бомб и снарядов.
После Ты долго отмалчивался, как – будто виноватился за тех полёгших в боях, вроде бы Ты их не смог уберечь… Ты же был командир… и это тебя тяготило. Но как можно было сберечь ребят в том страшном аду на самой передовой огненной черте? Ты часто перебирал фотографии военной поры, где все Твои товарищи были полны сил, веры в завтрашний победный день. Ты обращался к этим пожелтевшим от времени снимкам, когда Тебе по жизни было нелегко… Обычный Твой первый тост в застолье: за всех павших…
Затем Ты наливал себе из графинчика водки, а зеленоокой красавице маме в широкий фужер пенящееся шампанское. Нам же доставалось по стакану шипучего веселого “Крюшона”, /кстати, очень вкусного и полезного для детей, но почему-то, напрочь, хитроумно вытесненного сегодня негожими заморскими напитками/. Мы дружно чокались, пили до дна и принимались чистить обжигающую руки картошку в мундирах, которую мама по Твоей просьбе ставила на праздничный стол в сохранившемся армейском котелке. Картошка – объедение! Эта память детства и сейчас первейшее блюдо на нашем столе.
А помнишь, папочка, мою командировку в Харьков? По возращении домой, я Тебе о ней рассказывала. Тогда, в первый же день, я отложила все дела и с утра пошла в центр города, где без труда нашла Театральный ресторан. Тот самый ресторан, в котором зимой сорок второго года Ты был контужен.
С охапкой алых гвоздик, я робко приоткрыла дверь фешенебельного ресторана, а навстречу мне уже торопился швейцар, облаченный, как и подобает, в ливрею и фуражку.
— Здрасьте, здрасьте, проходьте… – гостеприимно приветствовал он.
— Да я…
— Трэба столик заказать, чи шо у вас за мероприятие? — Поглядывая на цветы, не мог понять, что мне надо швейцар.
Я оглядела сияющую позолотой старинную лепнину роскошного прохладного вестибюля. Стало неловко, хотела извиниться и уйти. Но тут увидела ту самую широкую мраморную лестницу с покатыми капризно изогнутыми перилами, о которой Ты мне рассказывал, не громко проговорила:
— Там, на втором этаже моего папу во время войны контузило, он Харьков освобождал. Я вот хотела цветы положить, можно? На окно с улицы…
— Да ты шо, дочка! Конечно, конечно… — засуетился швейцар, — а як же?
— Спасибо…
Я вышла на солнечную многолюдную улицу и, поднявшись на носки, стала мостить на широкий подоконник высокого ресторанного окна цветы. Признаюсь, папа, мне было немного неловко. А зря… Проходящий, спешащий народ, удивленно таращился, оглядываясь, шептался. Одна бабуля в летней панамке опоясанной выгоревшим красным, свисающим на морщинистый лоб, когда-то явно кокетливым бантиком, из под которого выглядывало интеллигентное личико в очочках, остановилась и наблюдала, как я пыталась пристроить цветы на покатом подоконнике, с которого падала то одна, то другая гвоздичка.
— На, деточка, тебе пару яблок, они большие, положи их сбоку, вот и будут держать твои цветочки. — Она вытащила из авоськи прямо-таки наливные яблочки, такие точно, как Ты любил, папочка, и протянула мне. – Небось, кого поминаешь?
Я взяла из морщинистых в синих венных прожилках рук яблоки и положила, как велела бабулька, ответила:
— Здесь мой папа воевал, но жив и сейчас. А вот его товарищи, совсем юные хлопчики, здесь сложили головы…
— Надо помянуть…- строго произнесла старушка и я обратила внимание какой у нее, словно у птички, острый носик. – Это святое дело, детка.
А из массивных дверей ресторана с мужчиной в строгом черном костюме с бабочкой на белоснежной рубашке, вышел толстый швейцар. Они подошли к нам.
— Здравствуйте, мне Иван Иванович рассказал, что ваш отец здесь воевал… — Пристально поглядел на меня элегантный пожилой мужчина, потом перевел свой взгляд на подоконник, украшенный цветами.
— Мой папа из этого ресторана выбивал немцев и был контужен, вот тут, на втором этаже, бой шел в зале, на лестнице и наверху… Я хотела посмотреть, если можно…
— Как вас зовут?
— Татьяна Ивановна.
— Александр Николаевич Тулбу. — Представился мужчина и протянул руку. – Чего здесь стоим? За цветочками присмотрят. Иван Иванович, распорядись здесь. – обратился он к швейцару. — А вас прошу со мной, к нам в ресторан. Мы вас приглашаем. Я главный администратор и сейчас доложу директору, что у нас такой гость! Проходите… — Он взял меня под локоть и открыл дверь. Я оглянулась на поникшую бабулю, и мне стало жаль ее. Александр Николаевич, перехватив мой взгляд, осведомился:
— Это ваша знакомая?
— Да.
— Так давайте пригласим ее.
Папа, если бы Ты только знал, как бабулька обрадовалась приглашению! От радости сняла очочки, нервничая сдвинула на бок панамку и теперь стала похожа на шкодливую школьницу. Пока мы поднимались по лестнице, я думала только о Тебе, папа, о том, как Ты молодой лейтенантик с автоматом отчаянно взбегал по этой самой лестнице, а бабулька в это время шептала мне на ухо свое:
— Перед самой войной у меня здесь свадьба была, и я никогда больше сюда не заходила. Это ж надо, сколько лет прошло, а все, как прежде, ничего не изменилось, а ведь ресторан был разрушен…
Нас усадили за стол возле массивной мраморной колонны, и мы принялись разглядывать сверкающий великолепием огромный зал, я впервые, а бабуля второй раз в жизни. Старушка продолжала рассказывать свою свадебную историю, а мне представилось, папочка, что может быть именно вот здесь, возле этой самой колонны сидели в серо — зеленых расстегнутых шинелях, те самые пьяные немцы, которых Ты увидел впервые. Они стреляли в вас, молодых, неопытных сверху из –за грузных колонн в упор… И тут Ты, папочка, не растерялся и швырнул гранату в верхний ресторанный зал, затем другую… Тебя отбросило взрывной волной… Очнулся Ты уже в госпитале.
Появился официант с минеральной водой, фужерами, закусками. Я не заметила, как в сопровождении Александра Николаевича к нам, волоча ногу, подошел небольшого роста мужчина, директор ресторана, и, улыбаясь, представился:
— Скаромод Абрам Давыдович. — Усаживаясь поудобней на стул, он вытянул не гнущуюся в колене ногу, спросил: — А вы откуда будете?
— Из Краснодара.
— С Кубани? — Радостно воскликнул он.- Так у нас Иван на Малой Земле сражался! Ну-ка, Александр Николаевич, зови его сюда.
Я рассказывала о Тебе, папа, о том, как вы, юные солдатики, с такими же юными командирами, вчерашними курсантами, на рассвете прорвались в Харьков и встреченные на дороге украинские женщины, увидев своих освободителей, кричали:
— Хлопчики… хлопчики, скорийше бегите к Театральному ресторану, там все главари сидят! Бейте их, сынки, бейте, гадов, шоб не утекли…
Абрам Давыдович глядел на меня грустными еврейскими глазами и внимательно слушал, а я смотрела на его руку, лежащую на белоснежной скатерти с выгравированным на всю жизнь номером концентрационного лагеря. Да… тут все понятно. А по лестнице, сняв фуражку и вытирая потную лысину, спешил, пыхтел швейцар Иван Иванович.
— Дочка, с цветочками порядок. Будем следить… – отдышавшись, спросил. — Ну як же там Новороссийск поживает, а? Расскажи… Стоит ще? Ох и гарны у вас там девчатки, особенно одна была, медсестричка… Павлиною звали. Жива ли? – Он грустно вздохнул, задумчиво почесал переносицу и произнес: – Могилкам бы военным в Новороссийске поклониться, товарищам своим… Я же там, в пехоте… в морской, значит, бился с вражинами. Письма получал от друзей, а теперь тишина. Э- хе-хе… Кто тогда выжил на войне, тех раны, болезни унесли. Царство им небесное всем… Задела ты мне, дочка, память мою, юность мою фронтовую. – Иван Иванович высоко поднял рюмку и осторожно поставил на белую скатерть, смущенно посмотрел на меня, стараясь незаметно сморгнуть набежавшую слезу.
— Иван Иванович, чарку разрешаю, случай –то такой, ведь война к каждому в жизнь ворвалась, набедствовала. Прими чарку. – Тихо сказал ему главный администратор.
— А моего мужа на войну забрали сразу через два дня после свадьбы, вот тут свадьба была, тут… — затараторила моя бойкая бабулька, показывая рукой в другой конец ресторанного зала. — Вот там мы сидели… весело было… Я всего-то два дня замужем была. Погиб мой Никиточка… А я всю войну шила варежки для наших солдатушек, а в них, в те варежки, чтобы никто не видел, записочки такие клала с фамилией Никиточки и просила, мол, если кто, вдруг чего, ответьте, добрые люди… Получила лишь несколько писем, два были однофамильцами, а другие за варежки благодарили, подбадривали, писали: не грусти, верь, вернется твой Никиток!.. Я и сейчас верю…
— А больше замуж не выходили? – Задумчиво спросил ее Александр Николаевич.
— Нет, я любила всю жизнь только Никиту, никогда ни на одного мужчину не глянула. Долго не верила, что он погиб, все ждала и сейчас жду… — Лицо бабульки покрылось девичьим румянцем. — Учительницей работала, все среди детей, детей, а так хотелось иметь своего ребеночка, но я себе этого не позволила, не могла предать Никиту… А теперь одна… с кошечкой живу. Она у меня…
Папа, когда я Тебе это рассказала, помнишь, что Ты мне ответил? “Вот она, настоящая русская женская верность! За всю жизнь два дня замужем… Достойная женщина, ни то что…”
А молдаванин Александр Николаевич Тулбу уже рассказывал свою историю, как он, будучи студентом Кишеневской консерватории, попал во фронтовую концертную бригаду, где без памяти влюбился в балерину, хрупкую, милую Варюшу из Харькова. Выступая на сколоченных подмостках, или с кузова грузовика, пел любовные романсы и песни, обращаясь к любимой Варюше, отчего исполнение было наполнено таким глубоким содержанием, что становилось понятным и близким всем слушателям. Ох, и ревновал же он свою Варюшу! Особенно когда после исполненного танца, кто-нибудь из молодых красноармейцев, наскоро, тут же, собрав букет полевых цветов, преподносил Варюше и целовал в щечку. Одним словом, война, а у них такая любовь! Потом Варюшу ранило, ее отправили домой. Александр Николаевич каждый день писал ей письма, ждал ответы, которые носил в кармане гимнастерки вместе с Варюшиной фотографией, у самого сердца.
Когда закончилась война, приехал к ней в Харьков, но Варюша, так мечтавшая о большой сцене, уже не только не могла танцевать, она с трудом передвигалась. Он настоял, и они поженились, а потом Варя совсем слегла, и пролежала двадцать лет, и все эти годы Александр Николаевич продолжал любить ее, петь для нее романсы и преданно ухаживать за ней. Теперь он регулярно ухаживает за ее могилкой на кладбище и продолжает хранить верность ей, единственной.
Подходило время обеда, ресторан стал наполняться людьми. Улыбчивый швейцар Иван Иванович, нехотя спустился на свой «боевой» пост, наверное, растревожил ему память мой приход. Тепло попрощавшись, унося с собой возвышенную любовь к Варюше, поспешил принимать и рассаживать посетителей Александр Николаевич Тулбу. Я смотрела вслед прихрамывающему ногу Абраму Давыдовичу и думала папа о Тебе, о времени. Вот так, нежданно-негаданно встретилась я с твоими ровесниками, которые не избежали войны, и каждый из них внес свою лепту в общую Победу. Узнала их судьбы на войне и как живут они сейчас, в мирное время. На душе было грустно и светло.
— Как зовут вас? — Обратилась я к своей бабульке.
— Анастасия Филипповна. — С гордостью ответила та, допивая уже давно остывший чай.
“Да, явно не достоевская вы, Анастасия Филипповна!” — Пропуская бабульку впереди себя, думала я, оглядывая щуплую фигурку в стоптанных башмаках и ситцевом платьице, кроя шестидесятых годов. О-хо-хо-шеньки… А пенсию, небось, всю на кошечку тратит, она ж ей вместо ребенка…
Мы вышли на улицу и остановились возле подоконника, где уже рядом с моими гвоздиками и бабулькиными яблоками на салфеточке лежала пышная сочащаяся сиропом белоголовая ромовая баба, поодаль, горстка дешевых сосательных конфет и детский игрушечный синий автомобильчик…
Когда я Тебе это рассказывала, папа, то скупые слезы текли из Твоих глаз. Ты был уже старенький, много военных осколков бродило по твоему израненному войной телу, не давая покоя по ночам. Воспоминания бередили Твою душу, сказывалась контузия, но ты был терпелив и воспринимал все, как должное. А главное, папочка, Ты никогда не сетовал и не упрекал Родину в том, что мы, страна — победитель живем плохо, а страна побежденных и их союзников, вон как! Богатенькие… Знаю, Ты всегда пресекал такие разговоры, и любовь к своей стране нес, как факел, по жизни.
Папочка! Я с Тобой не прощаюсь. В следующем письме я Тебе подробно напишу о том, как мы ездили на встречу с Твоими однополчанами в Москву, где вы встречались у фонтана возле Большого театра. И одна полная дама, обвешанная в три ряда орденами, все время обнимала Тебя и держала под руку, называя уж больно ласково: “Ванечка, Ванюшенька, Ванёк…” Для меня это было неожиданно… Мой папа, известный человек, депутат Верховного совета страны и, вдруг, Ванёк, Ванюшка…. А мама Тебя всегда называла Иван-царевич…
Я стала ревновать Тебя к этой Елене Алексеевне, которая в ресторане “Прага”, выпив за победу свои положенные военные триста грамм, так врезала гопака, что небу стало жарко! Вот это русская женщина!.. Весь огромный центральный зал ресторана “Прага” смолк, иностранные делегации щелкали фотоаппаратами, крутились возле Елены Алексеевны с видеокамерами, а она все поддавала и поддавала жару в свой знаменитый гопак! Я стала, было, переживать за нее, мало ли… а она, молодец, ничего! На бис сделала еще пару кругов… Большие груди вверх, вниз… а на них весело бряцали, подпрыгивали начищенные ордена и медали.
А Ты тогда шепнул мне на ухо, что Елена Алексеевна, иной раз с Прохоровского поля боя, из – под огня на себе, на плащ – палатке, на куске брезента, как могла, вытаскивала по десять – пятнадцать раненных солдат! Спасла и Тебя… истерзанного осколками танковых снарядов с перебитыми ногами, тащила под бомбами остервеневших немецких самолетов.
Конечно, для нее Ты — Ванька, Ванюшенька… Моя дочерняя ревность моментально улетучилась. Как рукой сняло. Мне захотелось Елену Алексеевну обнять и расцеловать. А Твой фронтовой друг, писатель и поэт, Анатолий Сафонов, выйдя из -за стола, проникновенно прочитал стихи о фронтовой любви, а потом зазвучала популярная тогда песня в исполнении очаровательной Нани Бригвадзе «…я на тебя гляжу любимый…». Пели все: и ветераны, и артисты.
Вечером мы пошли с Тобой в Театр Актера, где со сцены под гитару не очень хорошо, но главное с душой и слезой в голосе пел чубатый актер Петр Глебов, знаменитый как Григорий Мелехов из «Тихого Дона», читала стихи фронтовых поэтов вечная красавица Аксинья-Быстрицкая. А Твой любимый актер, Георгий Жженов, говорил, что правда войны намного суровей представлений о ней, правда войны еще неизвестна…
Когда мы вышли из театра, то на покрытом звездной шалью небе начался салют. Повсюду Русь святая, православная, богатырская, мать святорусская земля отдавала дань памяти своим сынам и дочерям. И среди них был Ты, мой папа — гвардии майор в отставке, командир дивизиона легендарно бесстрашных «сорокопяток» «Прощай, Родина!» Кулик Иван Васильевич.
До свидания, папочка. Я Тебе еще напишу. Твоя дочь — Татьяна Кулик.
P.S. А ту бутылку шампанского, которую Ты, папа, мечтал выпить на 60 -летие Победы, я берегу и велю сыну, Твоему внуку Борису, открыть и помянуть Тебя, русского героя – солдата, на 100 — летие нашей Победы в незабываемой Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Если не придется Борису, то он обязательно оставит наказ своим детям, моим внукам, а Твоим, папочка, правнукам…