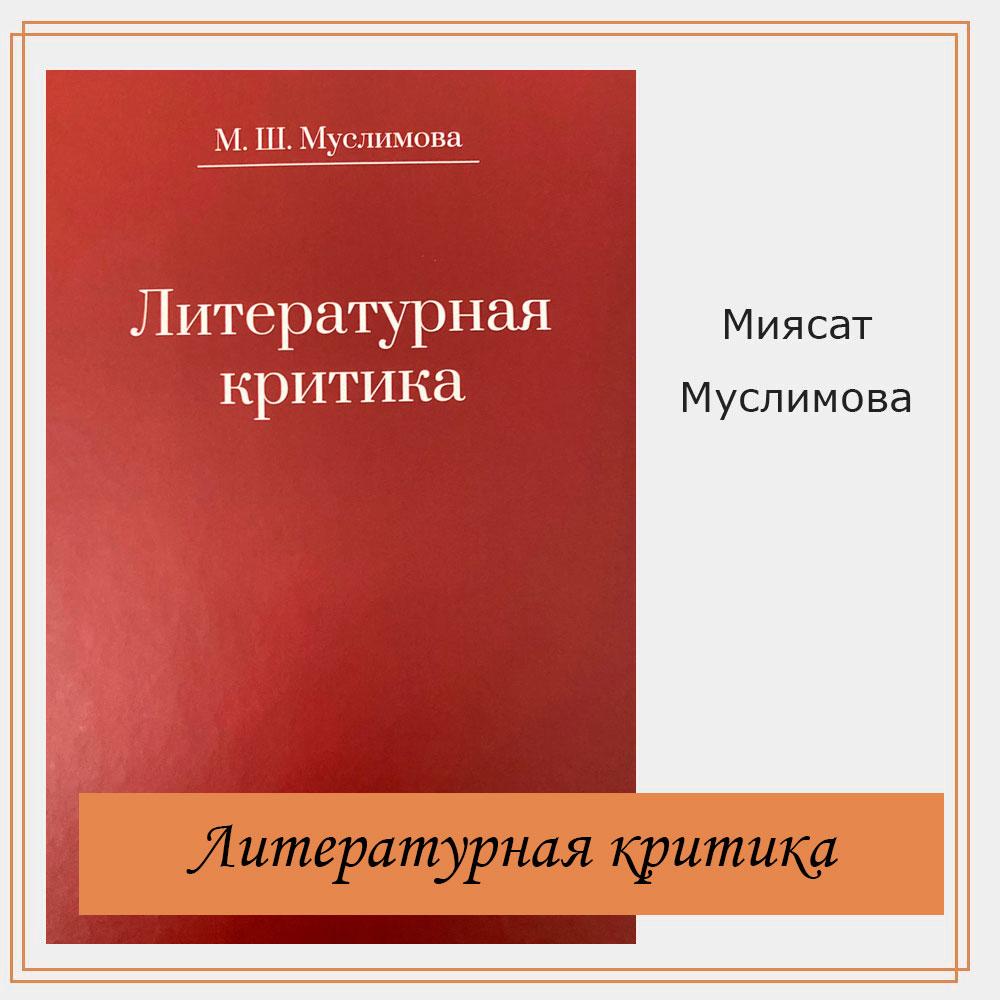-
Жанр: проза
-
Язык: русский
-
Страниц: 487
Я вернулась в Москву августовским вечером – голубым, теплым. Москвичи все еще были дачниками, наш неторговый институтский район не привлекал приезжих, и я оказалась почти одна на широкой пустынной улице, залитой оранжевым сиянием фонарей, – оно создавало фантастическую иллюзию, отражаясь на блестящем металлическом корпусе пустого троллейбуса, который теперь с мерным грохотом доставлял меня к месту назначения. Общежитие, напоминающее больше крепость, чем жилой дом, показалось дружелюбным и родным.
Дина Арма (Хакуашева Мадина)
ДОРОГА ДОМОЙ
Светлой памяти семьи Али Шогенцукова
посвящаю.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. МОСКВА
АВГУСТ
Я вернулась в Москву августовским вечером – голубым, теплым. Москвичи все еще были дачниками, наш неторговый институтский район не привлекал приезжих, и я оказалась почти одна на широкой пустынной улице, залитой оранжевым сиянием фонарей, – оно создавало фантастическую иллюзию, отражаясь на блестящем металлическом корпусе пустого троллейбуса, который теперь с мерным грохотом доставлял меня к месту назначения. Общежитие, напоминающее больше крепость, чем жилой дом, показалось дружелюбным и родным.
Обитатели только прибывали. В обычные дни по утрам старое здание гудело, как литой громадный колокол, от топота спускающихся по лестницам ног. Теперь же одиночные голоса, звуки шагов отдавались и множились эхом, как в глубокой расщелине скалы. В комнате оказалась новенькая девушка, Индира, названная так, как выяснилось, в честь Индиры Ганди. Сухощавая, как двояковогнутая линза (по определению местных острословов), с удлиненными темными глазами и кротким выражением невинности, она стала для меня на этот период человеком номер один.
Её доморощенный инфантилизм скорее трогал, чем раздражал. Она была похожа на меня, какой я была еще год назад. И только глядя на нее как на собственное недавнее отражение, я осознавала в себе нешуточные перемены. Август был золотым и теплым. Я снова отдавалась во власть светлых прозрачных московских вечеров и ночей, – для меня это была смена дневного света на сумерки, – не более, и чувство, что день вообще не кончается, заряжало такой же непреходящей энергией дня. Наше высокое окно старого образца не закрывалось: днем было распахнуто настежь, а ночью прикрывалась лишь одна створка. В светлое время в него вливался теплый запах асфальта, звуки дальнего колокольного перезвона с Новодевичьего монастыря, и почти неслышно – музыка из гигантских громкоговорителей Лужников, а ближе к вечеру, где-то совсем рядом, разносились прелестные мотивы в стиле ретро:
Когда мы были молодыми
И чушь прекрасную несли
Фонтаны были голубыми,
И розы красными цвели.
С вечерними звуками и запахами в окно заплывала мелодия, рожденная в самом сердце августа:
Смерть побеждающий, вечный закон,–
Это любовь моя.
И еще раз, с легким придыханием:
Х-это любовь моя!
Мы подпевали и даже сами заканчивали песню, если она внезапно прерывалась, и пили чай вприкуску с апельсиновым джемом, добытым под боком, на Усачевском рынке.
На выходные мы исследовали Ленинские горы, и я смогла по достоинству оценить фантастическую хирургическую выносливость моей новой подруги: после непрерывных шестичасовых альпинистских маршрутов от нее веяло первозданной стартовой энергией.
По вечерам захаживал Саша, ординатор из Оренбурга, приносил записи «Машины времени» и мы снова слушали до полуночи по маленькому магнитофону, дышащему на ладан:
И если цель одна и в радости, и в горе,
То тот, кто не струсит, и весел не бросит,
Тот землю свою найдет.
На разных этапах он приносил мне литературные новинки: Кортасара и Мюллера, а то и запрещенные ксероксы Фрейда, Юнга, Карнеги и Солженицына. Позже заходили Вадим и Бахтияр, тоже хирурги-ординаторы, отчаянные спорщики, при этом еще просто вечно полуголодные молодые иногородцы со стойко повышенным обменом; начинались стихийные обсуждения чего-то конкретного и насущного, которые, как правило, скатывались на философствования. В щуплом маленьком Саше загоралась яркая лампочка, и вскоре он начинал искриться едким остроумием, которое всех неизменно очаровывало. Мы с ним невольно составляли одну команду, которая развивала этакую сократовскую мощь, пытаясь дойти до конца любой идеи, и вели наше мелкое, но крепкое суденышко мысли по мутной бурной реке, обходя громадные валуны и пороги, пока, гордясь собой, не выводили его в спокойное полноводное русло нашей выверенной концепции. И тут-то в нем что-то надламывалось, он сникал, и яркий свет небольших темных глаз разом мерк, но через неопределенное время снова разгорался. Мы пили чай с вареньем, чем-то еще, что с трудом наскребалось по скромным сусекам нашей и соседских комнат, и скоро начинался легкий озноб от перепитого чая и ночной прохлады, которая незаметно заползала через окно, кто-то закрывал створку, и спор продолжался дальше. Иногда мы не расходились до утра, умывались, завтракали все тем же чаем, если везло – кофеем, и бежали в клинику. Моя бессонная ночь сказывалась только странной истомой в теле и раздражающей плаксивостью, несвойственной в обычное время.
Саша заговорил впервые о себе спустя год со дня нашего знакомства. Выяснилось, что он родом с Сибири, из–под Иркутска. На родине у него остались сестры – Аньша и Ленша. Они — эвенки (вот чем объяснялся экзотический раскосый тип его лица). Однажды Сашу и его сестер какие – то люди с боем определили в интернат, забрав у кочующих родителей «из лучших побуждений». Они всего лишь выполняли распоряжения не то администрации, не то власти по отношению ко всем детям Севера, чтобы те не превратились в «диких кочевников», как все поколения предков, а впервые «прикоснулись к знаниям и осваивали науки», а заодно — жили оседло. «Непонятно, — сказал с недобрым характерным смешком Саша, — как жить оседло и заниматься земледелием в тундре, где относительное тепло стоит только три месяца и под слоем земли в десять сантиметров – вечная мерзлота! На стойбища приехали какие-то люди и принялись бурить скважины для добычи нефти. Местные жители не получали от собственной нефтедобычи ни копейки, все средства по сей день текут в карманы тех, кто стоит за бурильщиками. Нефть добывалась без учета хрупкости почвы. Она попала в пресные озера, погибла рыба. Скопление тяжелой техники вызвало повреждение почвы, ее эрозию. У нас каждое растение за год успевает вырасти лишь на миллиметры, чтобы восстановить поврежденную флору нужны десятилетия.
Раньше наши народы кочевали вместе с северными оленями, составляли с ними единое целое. Их называли–то «человек – олень». Теперь это уже почти невозможно: олений зимний корм – ягель – почти исчез. Кроме того, местных из привычных теплых чумов поместили в выстроенные дома с огромной квартплатой. Никто из них не хочет платить за это насильственное проживание. Но неплательщиков постепенно вытесняют в общежитие. Думаю, несостоятельные скоро будут выселены из квартир.
Только относительно недавно я понял, что мы явились заложниками уродливой и преступной государственной реформы и невольными свидетелями того, как разрушался многовековой уклад наших северных народов. Дети предшествующих поколений и мои сверстники в семь лет практически все были вырваны из семей. Они постепенно теряли связь с родителями, с родственниками, утрачивали способность слышать и понимать тайгу, охотиться, разводить оленей и кочевать с ними и собаками.
Я почти не помню свой язык. Большинство из нас не бог весть чего добились по части наук. Правда, была сформирована небольшая национальная интеллигенция. Но какой ценой! Почти все оказались пасынками Севера, который не прощает нарушения своих законов. Это цепенящее чувство пустоты и растерянности … от него спасались все, — кто как мог, в основном алкоголем да наркотиком. Несколько поколений было вырвано с корнем и потеряно. Еще более потерянными оказались дети интернатских. Большая часть спилась, остальные разъехались, в основном в центр, как я…»
–Как же те, что остались? – обронила я.
–Нынче Север обезлюдел, кочевники, стоянки… их осталось очень мало. Над стойбищами гулял веселый смех. Теперь его неслышно.
–Но народ-то…? Народ-то остался?
Я прочла в глазах Саши знакомую горькую иронию:
–Остались в основном большие народы: эвенки, чукчи… Малые народы Сибири почти исчезли.
Неожиданно его глаза снова ожили: «Ты никогда не задумывалась о мире рыб?»
— Рыб?
-Да, рыб. Я очень часто сомневаюсь в верности наших законов, чаще всего нелепых, порой чудовищных. Когда я хочу найти настоящую альтернативу какому-нибудь идиотскому закону, я думаю о законах животных, птиц и рыб. И многому нахожу объяснение. Вот лосось – удивительная рыба. Он живет в океане, но на нерест обязательно возвращается домой, там, где он родился. В океане, в миллиардах кубометров воды эти рыбы безошибочно находят нужное направление и начинают свой первый и последний путь домой. По ходу следования косяков лососей пожирают акулы. Но они выходят в речное русло, плывут против течения больших и малых рек, где на порогах их ждут прожорливые голодные полчища медведей и стаи голодных орланов. Они погибают тысячами в этой неравной схватке, почти не едят и не отдыхают, обманывают хищников, проплывая опасные места ночами; они теряют весь жировой и энергетический запас, превращаясь в призраков самих себя, что движутся, одержимые инстинктом, которому нет рационального объяснения: одна только любовь к родине. Любовь меняет их, из обычных светло-серых рыб они превращаются в красно-зеленых красавцев. Преображенные лососи безошибочно находят дорогу и всегда возвращаются домой, затем только, чтобы дать жизнь потомству и умереть. И так – тысячи лет, всю их жизнь.
ОБЫЧНЫЕ ДНИ. День первый
Отделение было переполнено. Несколько больных лежали в коридоре. Последней палатой во время обхода оказалась четвертая мужская. Старик Залесский тяжело и часто дышал, открыв рот. Костлявые крупные кисти рук со старческой пигментацией на бледной коже непрерывно двигались по одеялу. Когда я подошла, напряженное, неподвижное лицо с восковым лбом заметно оживилось, он слабо улыбнулся: «Доктор, голубчик…» – у него начинал дрожать подбородок и увлажнялись глаза. «Викентий Дмитриевич, Вам обязательно будет лучше», – я старалась говорить очень уверенно. Он постепенно успокоился и доверительно прошептал: «Вы знаете, я очень хочу жить, как это ни странно, то есть ни смешно… Хотя это никому не надо, кроме Маши»…
Тут только я заметила маленькую худенькую женщину с испуганными огромными глазами на морщинистом бледном лице. Я вспомнила, что она здесь бывает постоянно. Никто не знал и не интересовался, где она ела и спала. К ней все привыкли и уже не замечали, как часть больничной обстановки. Когда я заходила, она суетливо и растерянно отходила от кровати больного и почти сливалась с серой стеной, бормоча слова извинения.
Услышав свое имя, она улыбнулась, что-то попыталась сказать, но не сказала, очевидно, из-за смущения, только дрогнули бескровные губы.
–Это ваша жена? – полуутвердительно спросила я.
–Нет, это моя подруга, — ответил спокойно Залесский, — единственная, — добавил он так же спокойно.
–У вас нет родственников? – спросила я снова.
–Нет, как же, есть. Внучатый племянник, Мишенька…
Он закашлялся и, отдышавшись, продолжал: «Мишенька – большая умница… крупный ученый-физик. Но он не может приходить, у него крайне ограниченное время… Леночка, падчерица, дочь моей покойной жены… у нее семья, двое детей, и дети, надо сказать, весьма трудные…» – он отвернулся к стене.
Едва я вышла из палаты, Машенька бесшумно подошла ко мне. Она смотрела умоляющими черными глазами, и кроме глаз трудно было в ней видеть что-то другое. «Доктор, вы извините, он почему-то скрывает, он совсем не спит…»
–А вы?
–Я здоровая, – она смутилась и мне показалось, что ее бледные щеки порозовели.
–Я добавлю к назначению снотворное, не беспокойтесь.
Она благодарно и кротко улыбнулась. Я двинулась к ординаторской, но Машенька незаметной тенью скользнула за мной. «Доктор, простите мою назойливость… Викентий Дмитриевич горд, чтобы жаловаться, у него свои понятия чести. Но он очень плох. Он всегда был необыкновенно деятельным, – друзья, знакомые, масса деловых связей. А в такой критический момент его жизни – никого. Он очень переживает, хоть и не говорит ничего…»
Я чувствовала свою беспомощность. Во мне поднимался и рос знакомый, безнадежный протест.
–У вас есть номера телефонов его родственников? – спросила я.
Машенька суетливо пошарила по карманам, извлекла ручку и клочок бумаги и записала два номера.
–Я обязательно им позвоню, – сказала я, вошла в пустую ординаторскую и набрала первый записанный номер. Ответил далекий мужской голос:
–Слушаю вас…
–Вас беспокоит лечащий врач из больницы…
–Я все внимание. Что-нибудь случилось?
–Я по поводу Викентия Дмитриевича.
–Вот как?.. А что – он уже..?
–Нет, – ответила я зло, – но он тяжелый, его бы не мешало проведать.
–Послушайте, дама, очень сожалею, что не имею чести быть с вами знакомым. Может быть, вы действительно врач, как говорите. Но пока что меня не покидает уверенность, что вы из благотворительной организации…
Я бросила трубку и больше не стала никуда звонить.
По пути домой я зашла в «Продукты», как обычно, заняла очередь в концах обоих длинных хвостов – в кассу и к прилавку. При беглом взгляде – монотонная неуклюжая пестро-серая лента. Неоновый свет стирал с лиц живые различия, краски, оставлял лишь анатомическую разность. Лица- маски. Но при этом витало нечто неуловимое, – знакомый общий дух, сотканный из привычного смирения, привычного безразличия, привычного раздражения. Впереди меня стояла старушка в выцветшем пальто, облезлой меховой шапке. Продавец, дюжая крашеная блондинка с мужскими руками и непроницаемым широким лицом, без слов уставилась на нее. Старушка молчала, не понимая. «Ну?» – требовательно гаркнула продавец. Старушка засуетилась, виновато, быстро заговорила, будто оправдывала собственную растерянность. Её обслужили, и она неожиданно протянула сухую руку с клочком бумаги и карандашом. «Вот здесь, дочка, укажи цену, а потом еще подпись пониже». Еле слышный голос осекся. «Это еще зачем?» – зычно возмутилась продавец.
– Да чтоб не думали, что присваиваю. Вот ведь что надумали, ироды: отмечай, говорят, цены в магазинах, да чтоб за подписью! А то кормить не станем, – голос старушки задрожал.
По очереди прокатилась волна рокота, и вдруг она взорвалась, затараторила: «Какие люди нынче стали… Бессовестные… Стрелять таких».
Продавец спокойно взяла бумагу и карандаш, что-то написала и отдала обратно со словами: «Приходи, бабка, я тебя без очереди отоварю. А вот это передай своим».
В записке, которую дрожащими пальцами держала старушка, было твердой рукой выведено: «Вы – свиньи. Продавец Захарова Анна».
В общежитии я перекусила отваренными варениками с творогом, добытыми в магазине, дочитала последние семнадцать страниц «Буранного полустанка» и пошла на дежурство.
Рабочий день кончался. Сотрудники растекались по улицам, вестибюль заполнялся посетителями. Я дежурила с Майей Сергеевной. Мы чаевничали в ординаторской, перед вечерним обходом, и Марина Моисеевна составляла нам компанию. Она томно откинулась на спинку кресла, при этом её роскошный бюст обрисовался очень рельефно. Она курила, щуря в табачном дыму небольшие карие глаза, закинув ногу за ногу. Мы с Майей Сергеевной не осмеливались ей мешать. В дверной проем я увидела бледное смуглое лицо Аднана, обрамленное черной бородкой. Его взгляд был прикован к ноге Марины Моисеевны, которой она чуть покачивала. Она недавно кончила блестящий монолог о Хэме (так она называла Хемингуэя), пересыпая его крепкими выражениями. Её рассуждения были больше адресованы личной жизни писателя, которую она называла «собачьей» и считала всему виной Фитцджеральда с его пагубной тягой к спиртному. «Я никогда не понимала этой дружбы», – заявила она многозначительно, и мы поняли, что она знает еще больше, чем сказала. Майя Сергеевна обомлела, уничтоженная таким информационным триумфом. На тарелке оставался кусочек торта. «Мариночка, еще один, последний кусочек!» – промурлыкала Майя Сергеевна. Марина Моисеевна улыбнулась сквозь табачный дым и покосилась на дверь, где в проеме все еще маячила одинокая фигура. «Аднанчик, мой мальчик, иди пить чай», – позвала она тихо тлеющего Аднана. Он судорожно облизнул коричневые губы розовым языком и отрицательно затряс головой. Майя Сергеевна нежно поцеловала Марину в щеку: «Она – сама доброта», – сказала она в пространство с усталой улыбкой и принялась за последний кусок торта. Марина Моисеевна встала, разогнулась, разминая обширный стан, и понесла свое обильное тело к двери. Майя Сергеевна с улыбкой провожала её глазами. Стоило Марине исчезнуть за дверью, её подруга поджала губы, брови над блеклыми глазами поползли вверх. «И все-таки эту женщину я не понимаю, – сказала она как бы между прочим, – она, конечно, эрудированна и не глупа, но нельзя же так», – она многозначительно и пристально взглянула на меня. Я молча ожидала продолжения, которое незамедлительно последовало.
–Не пропускает ни одного мальчика, — прошептала она доверительно, наклоняя к моему уху голову, увитую тусклыми редкими кудряшками, — и всех до одного водит домой!» Я почувствовала, что мне ничего другого не остается, как сказать ожидаемое «какой ужас», чтобы довершить собственным штрихом премилую сценку. В дверях показался царственный бюст Марины Моисеевны. На увядших губах Майи Сергеевны обозначилось нечто похожее на улыбку. Марина села на место, полы её халата распахнулись, юбка взметнулась выше колен, обнажив монументальные бедра, обтянутые дымчато-серыми чулками. Их обладательница «не заметила» этого: в проеме по-прежнему темнел мужской силуэт. Марина снова зажгла потушенную сигарету с ярким алым кольцом у основания. На этот раз из ординаторской выскользнула Майя Сергеевна, легко ступая, и что-то бросила нам со слабой улыбкой.
Марина продолжала самозабвенно курить. На минуту она оторвалась. «Ты заметила, во что превратилась Майка? — спросила она меня, щуря один глаз, — живые мощи! А её послушать: муж – равных не сыщешь, сын – умница, на хорошем месте… Не понимаю, к чему этот спектакль. Всем давно известно, что мужик её раз в месяц домой заявляется, а сына недавно из вытрезвителя забрали». Она передернула плечами, энергично потушила окурок о тарелку, попудрила пористый нос, махнула мне рукой и исчезла в дверях.
Среди ночи меня вызвали в неврологическое отделение. Я шла по длинному коридору, освещенному мерцающими жужжащими лампами дневного освещения. Нарастал какой-то протяжный странный звук. Он приближался, монотонный, нескончаемый. Коридор свернул налево, и я внезапно наткнулась на женскую фигуру в белой ночной рубашке. Она стояла, растопырив руки, издавала непрерывное мычание, под ногами темнела лужа, сзади на койке – ворох мятого постельного белья. В зыбком больничном полумраке её лицо белело так же, как белая казенная рубаха; бесстрастное, с пустыми глазами, с черным овалом раскрытого рта. Всклокоченные полуседые волосы торчали в разные стороны. Я увидела подоспевшую молоденькую медсестру.
–Почему она не в палате? – спросила я.
–Да кто такую в палате потерпит? – укоризненно воскликнула сестра, насильно укладывая больную в постель.
–В двух палатах больные так и сказали: или мы уйдем или её уводите.
–Ей же нужен уход. Где родственники?
–Родственники, – усмехнулась она, – родственникам здоровые нужны, да и не всякие здоровые… Здесь каждый четвертый такой. Все в пролежнях, гниют заживо, а подойти некому. Да вы что, новенькая?
Я молча кивнула.
–А санитарка? – спросила я.
–Одна на все отделение, на вес золота. Если родня заплатит, то подходят к больному. А иначе – ведь никаких сил не хватит. Здесь каждому по сиделке нужно.
Она отвела меня в 209 палату, где лежал больной, на обложке истории болезни я прочитала заключительный диагноз: «Гипертоническая болезнь третьей стадии. Левосторонний гемипарез». Жена больного с воспаленными глазами и усталым лицом засуетилась, подвинула стул к кровати. Я измерила давление: 200/ 140 мм ртутного столба. Больной тяжело, хрипло дышал, лицо посерело и тускло блестело, он высоко лежал на подушке, жадно хватая воздух открытым пересохшим ртом. Я схватилась за фонендоскоп: над всей поверхностью легких – сухие хрипы. «Хорошо еще, что только сухие», – подумала я.
–Нарастающий отек легких, лазикс и пентамин, быстро!
Сестра, сопровождавшая меня, кивнула и мгновенно исчезла. Я считала пульс -105 в минуту, нитевидный. Хрипы нарастали. Появилась сестра.
–Сначала снизим давление, введем пентамин, чуть позже – лазикс.
Она кивнула и взялась за шприц… Вскоре давление снизилось, хрипы стали убывать. В палате стоял тяжелый запах.
–Надо бы проветрить, – тихо сказала я женщине.
–Ничего не помогает, – прошептала она возбужденно, – через пять минут все то же. Из четырех тяжелых больных за двумя вообще не смотрят. – Последнюю фразу она прошептала очень тихо, наклонившись ко мне. – Раз в месяц придут, откупятся и уходят. А эти несчастные тут месяцами лежат без движения… Я нянечку все время прошу, как могу, помогаю… – её глаза покраснели еще больше.
–Вам самой нужно отдохнуть, – сказала я, – зайдите в ординаторскую, там – свободный диван. Я скажу сестре.
Мы вышли с женщиной из палаты, когда больной заснул. Я довела её до ординаторской. Она меня благодарила. «Ради бога, не надо меня благодарить. Вы же видите, мы здесь бессильны…», – оборвала я её почти резко. Я подошла к окну, распахнула его настежь и задохнулась от порыва ветра. Я жадно вдыхала свежую до остроты прохладу осенней ночи другого невидимого мира.
День второй
Вернувшись с работы, я застала Татьяну, которая пришла проведать Милочку. Накануне вечером Мила получила письмо от мужа следующего содержания (оно было зачитано вслух):
«Здравствуй, дорогая Мила!
Прости за такое тяжелое для тебя (да и для меня) письмо. Этот разговор я хотел начать раньше, но не мог. Вот уже два года, как у меня есть женщина. Недавно у нас родился сын. Тяжело об этом говорить, но моральный долг требует, чтобы я остался с ней, так как одной поднимать маленького ребенка – сама понимаешь – очень тяжело. А нашему как-никак уже 8 лет, он умница, одним словом, не парень, а золото.
Милочка, ты, конечно, не поверишь, но я тебя по-прежнему люблю, но здесь все слишком далеко зашло, и я не в силах поступить иначе. Обстоятельства, как говорится, сильнее нас.
Прости. Будь счастлива.
Нестеров.
Р.S. Напиши свои соображения насчет бракоразводного процесса…»
Милочка истерически хохотала, потом разрыдалась, и мы ее отпаивали то холодной водой, то горячим чаем, то валерьянкой. «Да что же это делается! – воскликнула она сквозь рыдания. – Дай-ка письмо этого… Нет, вы только послушайте: «моральный долг требует!» – тут она начала хохотать. – Он еще говорит о какой-то морали!»
–Мила, все мужчины такие, нечего удивляться, – пожала плечами Юля.
–Я тут стараюсь: все для семьи, семья – это святое, а он…
Она снова залилась злыми слезами.
Милочка жила в нашей комнате уже второй год, и её жизнь все это время походила на круто кипящее варево, поминутно выплескивающееся из котла. Ее речь то и дело прерывалась игривым смехом, она лукаво щурила раскосые зеленые глаза и обнажала острые белые зубки мелкого хищника.
«Как дела, крошка Бетти?» – обращалась она ко мне, и я моментально попадала под власть ее искрометного обаяния. Оно медленно обволакивало меня бархатным покрывалом. В ее глазах весело мерцали зеленые горячие огоньки, которые имели способность моментально разгораться. За Милочкой тенью следовал Чары, смуглый худощавый туркмен.
«Здесь рыжая лисица не пробегала?» – спрашивал он насмешливо и, завидев ее в дальнем углу комнаты, вспыхивал сухой паклей.
«А вот и черная голова! – восклицала Юлия и махала ему, чтобы он заходил. Он садился на стол, после двух-трех фраз между ним и Милочкой неизменно вспыхивала ссора. Милочка разражалась гневом и слезами, но все кончалось перемирием с последующим удалением в специальную комнату, которая периодически предоставлялась им Бабилоном. Милочка заблаговременно подружилась с ним, охотно оказывала всевозможные услуги и делала небольшие подношения.
По моим скромным подсчетам, Чары был четвертым любовником Милочки за последний год. Его предшественник, молодой кандидат медицинских наук из Белоруссии, очаровал Милу своим кругозором и искушенностью в делах любви. Он до сих пор поздравлял ее с каждым праздником и, бывая в Москве, неизменно заезжал к ней. В это время у нее был другой возлюбленный, и Мила умело лавировала между ними, умудряясь избегать их случайного столкновения, искренне клялась им в любви и преданности.
Завидев розовое подвижное личико Милы с задорно вздернутым носиком и неизменной дразнящей улыбкой, Юля восклицала с добродушной завистью: «Опять вся в любви! И семья в порядке, и любовники не переводятся. Удачливая ты, Милка, донельзя!» Мила в ответ заразительно смеялась, являя собой совершенный символ женского счастья и благополучия.
Периодически к Миле приезжала свекровь, которая частенько стряпала на общественной кухне, сокрушаясь по поводу такой насыщенной учебной программы.
Теперь Мила лежала с мигренью, крепко обвязав голову полотенцем, и тихо стонала. Рядом с ней опустилась Таня, которая несла на себе печать фатальной обреченности. Она подняла на меня праведные голубые глаза, и тени её длинных ресниц испуганными бабочками скользнули по бледным щекам. Дрогнули в слабой улыбке бескровные маленькие губы. Она понимающе долго и красноречиво смотрела на меня, потом перевела взгляд на Милочку. Та перехватила её взгляд, и замотанная полотенцем голова гневно слетела с подушки: «Ты меня жалеешь? Жалеть меня не надо, ты себя пожалей! Саму будто с креста сняли! Я бы на твоем месте румян и помад из рук не выпускала!» Татьяна побледнела еще больше и горько разрыдалась. Юля энергично накинулась на Милу, а я принялась успокаивать Таню. Примирение произошло спустя полчаса. Но милочкины раскосые глаза еще сухо тлели, и гнев, загнанный вглубь, просвечивался, как яркий свет сквозь папиросную бумагу. Само поражение еще больше подхлестнуло её боевой дух. Татьяна же после бурной сцены окончательно истаяла и казалась совсем бесплотной.
Дверь в комнату распахнулась и вошла мамина двоюродная сестра: две громадные сумки продуктов. Объятия, смех, вопросы-ответы и шикарный домашний обед, приготовленный ею, несмотря на мои яростные протесты. Я с тоской ожидала разговора, который созрел после обеда.
–Как твои дела?
–Ты имеешь в виду…
–Ты знаешь, что я имею в виду. Ты по-прежнему увлечена стихами?
–Да, по-прежнему.
Она молчит, но за словами несется почти зримый подтекст, произносимый ее стальным голосом: «Детка, сколько раз можно повторять, что в этой юдоли печали каждый должен крепко стоять на ногах, чтобы честно вынести свой крест, ты уже взрослая, чтобы не понимать этого и тешить себя глупыми детскими игрушками».
Но она меня щадит и не называет «вещи своими именами». Во мне, как обычно в ее присутствии, растет противное ощущение собственной несостоятельности. Ее глаза опять приковывают горящим холодом, растворяют бледную маску лица, выразительные черты и губы. За ее глазами – тысячелетия железно проверенного здравого смысла. Ее глаза – стальное сито, через которое она меня, дробя на части, пропускает, если же они встречают внутренний протест, то недобро загораются, вспыхивают холодным огнем.
Иногда она разражается свободным, теплым смехом, он льется щедрой рекой, она откидывает назад густую светлую гриву и тщетно пытается остановиться, и тогда я хорошо понимаю причину нашей глубокой многолетней привязанности друг к другу.
Сейчас она что-то чувствует за моим молчанием и без обиняков спрашивает:
–Ты ходишь в университет вольнослушателем? (Информация, любезно подаренная ею на кухне моими правдолюбивыми соседками).
–Ты же сама знаешь.
Я, не поднимая глаз, прекрасно вижу ее всю. Проходит целая вечность, пока она не начинает говорить, точнее диктовать, царственно откинув голову, отливая серой сталью глаз: «Ты прекрасно знаешь, что надо делать, чтобы быть серьезным человеком и хорошим специалистом».
Я читаю в ее глазах больше, чем слышу из разговора. Они трезвее и холоднее глаз человека, потерявшего последнюю надежду. Она заставляет меня наклоняться ниже к земле и дышать земным холодом. Это ценится и называется «быть здравомыслящим и разумным». Это я и так умею. Это умеет каждый. Но кажется никто от этого не становится счастливее.
Она встает, чеканно, энергично направляется к двери. Прямой разворот плеч, длинный шаг стройных ног, высокие крутые бедра, надменно белеющее лицо без тени грима и обжигающие холодом спокойные серые глаза.
Я провела родственницу до метро и отправилась на переговорный пункт. Обычно это был ближайший, на Комсомольском проспекте, рядом с Парком Культуры, но мог быть на Кировской или на Горьковском. Высокий нежный голос мамы струился по немой узкой колее тысячеметрового провода и, вмиг преодолев его, звучал в моей руке, разливаясь теплыми живительными струями до самых стоп:
–Диночка, как твоя жизнь? Где ты питаешься и чем?
Я просто слушала звуки ее голоса, отвечая машинально:
–Вполне приличные обеды за 80 копеек и шикарные – за рубль двадцать.
–И что, ни разу не было отравлений?
–Конечно, не было. Мам, ты забыла, что у меня обычно не бывает проблем с пищеварением.
–Старайся готовить сама. Тебе выслать деньги?
Я говорила «выслать» в крайних случаях. Это был мой «принцип выживания».
–Дина, ты знаешь, о чем я прошу тебя больше всего.
Я знала: не брать в пример с девушек… с неустойчивой моралью.
Из трубки полился глубокий баритон отца, так и не ставший певческим. После сдержанного приветствия он спросил:
–Где ты чаще всего бываешь после клиники?
–В библиотеке, гуляю по Новодевичьему и слушаю служения. Действует потрясающе.
Я почти вижу, как по лицу отца разливается недоумение:
–В монастыре? Ты же атеистка!
–Папа, если бога нет, то от кого мне ждать наказания? От тебя?
–От государства, – говорит он неожиданно серьезно после некоторой паузы.
–Думаю, у государства есть дела поважнее, чем моя персона.
–Гмм…. Ладно, мама берет трубку.
Снова нежное мамино сопрано: «Диночка, ты приедешь на Новый Год?» У меня в руке оставалась последняя пятнашка, еще не проглоченная ненасытным железным удавом: «Мам, у меня последняя монета…» И наша связь обрывалась.
В пять минут разговора я умещала разношерстную информацию – о – себе: как мне Москва? Моя Москва – это ежедневное движение по треугольнику: общежитие – клиника – столовая, если остается немного времени на библиотеку и удается «стрельнуть» билетик в театр, кино или консерваторию, то – движение по многоугольнику. …Нет, сейчас не холодно, только в конце декабря появилось некоторое подобие зимы.
Если бы я могла рассказать, что Москва – это много миров, которые порой не соприкасаются, и в каких-то я чувствую себя дома больше, чем дома; Москва – это «чертово колесо», которое способно выкинуть в черную пустоту сквозь весело мигающие огни аттракциона. Как было рассказать о том, что живет во мне и чем я захлебываюсь, – то, что есть во мне одинокого, отчаявшегося, ненайденного, неопределимого, – это мое «я», которое бьётся, как в тисках, в поисках выхода; как во мне дремлют образы и требуют для себя формы, что я отдалилась от людей, одичала, затаилась в себе, но со светом, с тревожной улыбкой, сама себя увела подальше. Как рассказать, что меня на самом деле толкает и ведет неутолимый голод духа. Я ощупываю все сферы чуткими пальцами незрячего, иначе я ничего не могу поделать с этой лихорадкой всеядности.
Если бы даже я хотела, то не смогла бы пояснить, что значит перекапывать по библиотекам тонны литературной руды, чтобы найти хоть что-то, что хоть отчасти объяснит скрытое по ту сторону; что значит не прятаться от белесых рентгеновских глаз библиотекарши из профессорского зала Иностранки, чтобы избежать ежедневного вопроса «А зачем вам Ницше?», и что-то сбивчиво на это отвечать, а потом спокойно сказать «мне надо», впервые превратив в «яблочко» ее белые глаза.
Я не могла бы никогда объяснить матери мою зеленую тоску по великой простой женской «норме», незыблемой, утвердившейся и законно уважаемой, воспетой тысячелетиями, которая уже никогда не могла быть моей в «чистом виде»: ведь я была одержима поисками призраков. Я никогда не смогла бы поведать о том, что значило трястись в паранойяльной лихорадке, тайной и грешной, и оплывать ночами подобно свечному огарку, над листом бумаги, и снова ощущать тщету этой тайной страсти, чтобы наутро та оставшаяся малая часть меня, что еще сохраняла слабую связь с реальностью, снова устремлялась в мутные потоки дня вдогонку за оборотнями света, забывая, путая дела, документы, расписания, лица, имена, чтобы, одурев от дневного хаоса, возвращаться ночами к настоящему, единственно реальному, что светится и освещает мрак ночи; и, стряхнув с себя дневные одежды, нырнуть нагой в его теплые струи, и пробираться, замирая, к золотистой мерцающей сердцевине, что напоминает медовую янтарную мякоть спелого абрикоса.
УВЛЕЧЕНИЯ
В конце лета и начале осени клиника все еще была полупустой, и после работы большая часть дня была свободна. Узнав о моих ежедневных походах в библиотеку иностранной литературы, Индира проявила неожиданный ненавязчивый интерес, и мои одинокие поездки, непонятные для окружающих медиков, были встречены ею с восторженным энтузиазмом.
Я заказывала «Мир как воля и представление», Индира – «Диалектику природы», которую усердно конспектировала, и вскоре её высокие татарские скулы начинали нежно розоветь от усердия. Здесь, под гулкими сводами, невидимыми вследствие своей заоблачной высоты, поселился мой личный ангел, который дарил отдохновение особого рода, похожее на своеобразный старт к полету.
В юности моя горячая любовь к книгам не шла ни в какое сравнение с апатичным чувством, которое внушалось мне реальностью. Глубокая тоска, с которой я близоруко всматривалась в действительность, искала за её пределами что-то более значимое и яркое. Самым глубинным, интимным переживанием всей моей жизни была неспособность принять единственную сюжетную линию собственного существования. Она была из серии моей застаревшей страсти «всегда быть повсюду». Ее же можно было обозначить примерно как «быть одновременно всеми и всем». Из энного числа возможностей я каждый раз вынуждена была выбирать только одно единственное решение, не зная наперед, к чему оно в конечном итоге меня приведет. Я каждый раз мучилась убежденностью, что поступи я иначе, все могло бы быть гораздо лучше или интереснее. Так было до тех пор, пока я не наткнулась на книгу Макса Фриша «Назову себя Гантенбайн» (или «Homo faber», точно не помню), где главный герой, получив редкую возможность прожить свою жизнь заново, проживает ее точно так же, как первый раз, несмотря на заведомое знание всех последствий. Таким образом, я получила сносное доказательство фатальной заданности одинокой линии любой жизни.
Я с медлительным упоением погружалась в атмосферу текстов, проживая их глубже и острее обыденной жизни. Если мои нормальные жизнерадостные ровесники говорили, например: «Такое-то важное событие случилось летом или осенью», то я говорила: «То-то и то-то случилось, когда я читала Герберта Уэллса или Джека Лондона». Позже, оценив собственную странность, я пыталась привязывать течение моего времени к общепринятым и давно утвержденным хронологическим рамкам, но неизменно путалась, и меня тактично поправляли, удивляясь моей слабой памяти. Про себя же я так и осталась в подчинении у своих литературных часов.
Я по-новому открывала для себя Россию – величественную и непостижимую, когда в течение нескольких лет переживала эпоху Льва Толстого, и неповторимые русские времена года Тургенева, и несравненный период Бунина, протекавшего под знаменем одной его фразы, ставшей моей:
Я человек,
Как бог, я обречен
Познать тоску всех стран,
И всех, и всех времен.
Позже для меня открылся клубящийся в пурге Петербург Блока, его типичные тоскливые улочки, увиденные глазами Достоевского; и неправдоподобно изысканный, тонкий, прозрачный слог Мандельштама и других декадентов.
«Реальная» Англия для меня была открыта Джоном Голсуорси и Оскаром Уайльдом, а Англия, полная зловещих тайн и головокружительных приключений Конан Дойлем. Я знала старую Англию Диккенса, и женскую – сестер Бронте, Вирджинии Вулф и Айрис Мердок.
Я постигала героические и любовные Франции Гюго, Золя и Мопассана, и «тайны парижского дворца» Дюма, открывала неподражаемую атмосферу французских провинций времен Кола Брюньона, и среди душистого лета видела, как склевывает спелые вишни Ласочка, – по примеру молодого животного, – прямо с дерева. Алые вишни – алыми губами.
Помню свое удивление от внезапной догадки о том, что немецкие авторы выстроили целые миры, подчиняясь по сути одной идее, которую я про себя назвала «немецкой».
Я прошла пыльными древними дорогами Кастилии и Севильи вместе с великим долговязым рыцарем и его круглым оруженосцем, ощутила неповторимый аромат Андалузии, и окунулась в таинственный омут испанских ночей Гарсии Лорки.
Моими настоящими Колумбами, посвятившими меня в таинство стереоскопического восприятия Америки, были Томас Вулф и Теодор Драйзер, а позже – Хемингуэй, Фитцджеральд и Сэлинджер; а Фолкнер открыл мне американский штат, не обозначенный на официальной географической карте – Йокнапатофу.
Я оказалась навсегда запертой в бескрайних песках пустыни вместе с женщиной Кобо Абэ, и открыла фантастическое величие Латинской Америки через Маркеса, Жоржи Амаду, Борхеса, Кортасара.
Пристойная тишина будней маленькой комнаты разрушалась моим внезапным неуправляемым смехом, и в проеме двери показывалось недоумевающее лицо мамы, которое тотчас заражалось вирусом веселья, когда она видела лежащие передо мной книги ОГенри, другой раз – Джерома К. Джерома, и еще раз – Ильфа и Петрова. За чтением советских авторов мной неожиданно обнаруживались совершенно разные, но абсолютно мои миры собственного непостижимого отечества. Ибо книги я не читала, но проживала.
Порой в ускользающем потоке мыслей, которые были разбужены чтением, я чувствовала, что во мне зреет нечто, похожее на новую концепцию. Она не соответствовала прочитанному материалу, а рождалась спонтанно. Но чаще всего мои «оригинальные» откровения, до которых я доходила, оказывались элементами древних систем знаний. Однажды, например, путем долгих кружений по скользким, но упоительным кольцам неформального самообразования я пришла к идее, что мой путь к собственной внутренней гармонии возможен, если отпустить на волю интуицию, которая всегда безошибочно находит путь к законам универсального естественного порядка. Каково же было мое удивление, когда вскоре за чтением какой-то книги по восточным религиям я узнала, что это – один из основных законов даосизма.
К этой же «статье» пристрастий следовало отнести мою стойкую киноманию. Эта одержимость, в плену которой я так и осталась, обретала порой гротескные формы: я не слышала ни одного вопроса из внешнего мира, – моей единственной реальностью на время просмотра и некоторое время после становилась жизнь экрана. Ее с полным основанием можно было причислить к моему личному жизненному опыту.
Такую «аномалию» собственных приоритетов я объясняла слабым импульсом жизни, а особенное пристрастие к литературе — его компенсацией. Эта убежденность длилась достаточно долго, чтобы порядком отравить мне жизнь; я все пыталась «выправить» свое положение, искусственно усиливая жизненную активность и не относясь всерьез к собственным литературным занятиям. Благодаря этому я, добровольно взяв на себя львиную долю маминых обязанностей, прошла неплохую школу по части обустройства дома и кулинарии.
Каждое утро начиналось борьбой с беспорядком, – он лез из бесчисленных невидимых щелей разнообразным сором, оседал танцующей пылью, кружащейся в косых солнечных лучах, что пробивались через мутные мартовские окна, разъедал ржавчиной трубы и прорывал их грязной водой, образуя обширные желтые подтеки на потолке соседей нижнего этажа. Он мгновенно захламлял квартиру разбросанными по углам вещами, властно заявлял о себе неожиданно обнаруженными алчными личинками моли, неслышно грызущими шерстяные носки в забытом ящике платяного шкафа. Раньше я не вникала в библейское представление о том, что господь сотворил космос из хаоса раз и навсегда, но обнаружила только узкий мостик, переброшенный через бурлящую протоплазму бесчисленных останков, – тонкая, незащищенная колея порядка, которую каждый момент требовалось пролагать вновь и вновь, вырывая ее из зияющей, ненасытной пасти энтропии. Свой космос приходилось отвоевывать ежедневно, ежеминутно, – без этой непрерывной борьбы прожорливый дракон мог проглотить очень скоро. Если беспорядок представлялся мне драконом, то человеческий желудок – настоящим Молохом, который требовал себе ежедневных трехразовых жертв, изощренно оформленных в виде гастрономических блюд. Я честно отдавалась этой борьбе, пока не почувствовала, что бытовая текучка закрывает меня с головой, и вскоре оказалась очень близка к представлению о совершенно плоской модели земли, которое бытовало до Эратосфена.
Но однажды утром, безо всякой видимой причины, я отчетливо сказала себе: «Литература – это и есть сущность жизни. В этом только и было дело. Именно литература и искусство сплетают и сворачивают рыхлую аморфную массу видимостей и придают ей необходимую форму». Для меня стало ясно, что я все перепутала, принимая быт за реальность и наоборот. Призрак быта мистифицировал меня чуть не пол — жизни, и надо было только сейчас все это осознать. Вскоре, в доказательство моего открытия, я наткнулась на строчки в томике Малларме: «Мир существует, чтобы войти в книгу».
Порой я проводила в библиотеке все дни, путешествуя по ней с неистощимым исследовательским интересом. Это было паломничество в поисках книги, возможно, каталога каталогов. Библиотека состояла из огромного, бесконечного числа шестигранных галерей, с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами. Из каждого шестигранника видно было два верхних и два нижних этажа – до бесконечности. Устройство галерей было неизменно: двадцать полок, по пять длинных полок на каждой стене: их высота, равная высоте этажа, едва превышала средний рост библиотекаря. К одной из свободных сторон примыкал узкий коридор, ведущий в другую галерею, такую же, как первая и как все другие. Библиотека была всеобъемлюща, на ее полках можно было обнаружить все возможные комбинации двадцати с чем-то орфографических знаков или все, что поддается выражению – на всех языках. Все: подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог Библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментарии к этому Евангелию, перевод каждой книги на все языки, интерполяции каждой книги на все книги, трактат, который мог бы быть написан (но не был) Бэдой по мифологии саксов, пропавшие труды Тацита.
Было еще светло, когда мы умиротворенно покидали бетонно-стеклянный необъятный храм, и по пути следования обнаруживали какую-нибудь постановку в «Современнике» или театре им. Маяковского, влетали на полном бегу в последнюю дверь последнего вагона, «стреляли» билеты (почти всегда удачно), и умиротворенно погружались в уютные кресла прохладного полумрака зрительного зала. Иногда это были симфонические или органные концерты, или кинофильмы. Однажды мы примчались на противоположный конец Москвы, чтобы увидеть экранизацию «Триумфальной арки», но вышли с середины, решив больше не обольщаться кино-суррогатами. Так мы просмотрели фильмы Феллини, Бергмана и Тарковского, а на некоторые я шла повторно в одиночестве. Огромные летние полупустынные московские проспекты, моя молодая, неиссякаемая сила, играючи покрывающая эти уже ставшие моими мили, этот особый знакомый голод: увидеть, узнать, почувствовать, – мы в то лето отдавались ему с упоением одержимых. Но вечерами, открыв дверь нашей сотой комнаты, мы вспоминали о голоде более насущном, – и стремглав уничтожали ужин, приготовленный на скорую руку.
***
Мы встретились с ним, как было условлено. Когда я передавала ему рукописи, он посмотрел мне в лицо и засмеялся срывающимся старческим смехом: «Ничего, княгиня, верьте в свою счастливую звезду!»
Мы познакомились на одном из органных концертов консерватории, когда я сдавала свое пальто в гардероб. Он обратил на себя внимание своим пристальным цепким взглядом. Я тогда с мистическим чувством отметила, что именно таким и представляла себе Мефистофеля. После концерта он вырос из-под земли и проговорил мне под ухом сухим голосом: «Разрешите, я вам помогу», надел на меня пальто, вызвался проводить, но я сбежала. С тех пор он стал неожиданно вырастать из-под земли, и при его виде меня охватывала тихая паника. Вскоре я поняла, что это судьба и смирилась. После собственного благоразумного вывода все действительно объяснилось просто: он жил через два дома от нашего общежития и был почтенным членом Дома Ученых, где его встречали необыкновенно радушно и благообразные бабушки-вахтерши, и солидные пожилые господа с аккуратными полуседыми бородками. Неожиданно осененная его высоким покровительством, я получила карт-бланш, беспрепятственно проходя на лучшие постановки и презентации.
Он называл меня «восточной княгиней», кроме того, ему доставляло удовольствие амплуа роковой женщины, которое он для меня избрал. Я старалась соответствовать. Мало-помалу, Мефистофель из злого превратился в доброго гения, интеллигента старой закалки, педанта, публициста- фанатика, ведущего непримиримую борьбу со своими воинственно настроенными недругами по перу. При этом он был всегда уравновешен и оптимистичен. Однажды он пригласил меня «отпраздновать еще одну публицистическую победу» и, заметив мой настороженный взгляд, рассмеялся: «Нет-нет, ничего личного!» Я сидела в пустынной холостяцкой квартире, слушала Лялю Черную, пила хороший коньяк, ровно столько, сколько требовалось для повышения альфа-холестерина, и закусывала самыми разными хрустящими орешками. Кажется, я приобщалась к светскому образу жизни. Уже дома я обнаружила, что оставила в гостях свои рукописи. Я с детства привыкла, что вещи играли со мной в прятки. На этот раз это были мои стихи, которые я набирала на печатной машинке, чтобы «набить» руку.
При встрече Л.Д. интригующе улыбнулся и сказал: «Я просмотрел то, что вы у меня оставили. Это было совсем неплохо». Мне не удалось скрыть смущения. «Это серьезно, судя по всему?» – полувопросительно сказал он, и я кивнула. Он сказал, что хорошо знаком с московскими литературными кругами и предложил показать мои сочинения своему давнему приятелю. Эта мысль показалась мне такой нелепой, что я рассмеялась. Это было примерно то же, что принять приглашение на участие в стриптизе. Я поблагодарила и отказалась. Он был искренне удивлен и долго не мог понять причины, а я не могла её объяснить. Наконец он понял, и впервые за время знакомства выражение его лица стало отстраненным и официальным: «Если вы серьезно относитесь к себе и своим делам, то ваш дефицит веры можно назвать трусостью. Это неминуемо приводит к банкротству». Я чувствовала себя подавленной, и он смягчил тон: «Вы любите Дон-Кихота?» Я машинально кивнула. «А вы не задумывались, почему? Ведь он не был смешон даже тогда, когда воевал с ветряными мельницами. И знаете, почему? Им руководили страсть и вера».
На следующий день я позвонила ему и обронила неуверенно: «Кажется, я действительно ничего не теряю». Вся эта затея мне представлялась бесполезной игрой.
Теперь мы шли по Большой Пироговской, которая освещалась фантастическим оранжевым светом, сверху сыпался оранжевый мартовский снег, и сквозь него – горбоносый, с острым подбородком профиль моего спутника. Было холодно. Я была заморожена снаружи и растоплена изнутри. Мы бродили долго, Л. Д. расспрашивал о моих планах, которые едва ли имели для меня осязаемые очертания. Потом озабоченно и важно говорили о каких-то глобальных проблемах. Я не могла не потешаться про себя комизмом нашей ситуации: мы решали мировые проблемы, когда сами нуждались в самом простом: я – в моральной поддержке, он, возможно, в сознании, что кому-то необходим.
Вскоре снег прекратился, и над нами внезапно повис белый яркий месяц. Справа темнел сквер, а впереди слабо высвечивались светлые стены Новодевичьего монастыря, который размытым контуром терялся где-то высоко в небе. Все вместе создавало ощущение зыбкой ирреальности, которая сейчас исчезнет и уступит место привычному.
Мне казалось, стоит только постигнуть её, и я перейду ту заветную грань, за которой открываются все объяснения.
В клинике мне позвонил Лион Дмитриевич: «Дина, я за вас очень рад… Впрочем, за меня это лучше скажет Б.Г.»
-Алло, здравствуйте! Спасибо за новизну. Можно поинтересоваться, в каком измерении вы живете?
***
Порывисто открылась дверь, она на миг застыла в дверях и тотчас на меня накинулись ее маленькие, крепкие руки. Она недоуменно трясла головой, так что разлетались ее седые, остриженные волосы, потом рассмеялась хриплым, радостным, коротким смехом.
Она постарела еще больше, но глаза остались прежними – будто какой-то шутник навсегда отразил в них солнечные зайчики.
«Майские праздники, говоришь? Ну, вот ты и попалась, девочка моя, в плен старухи! Теперь я тебя не выпущу, пока не выпотрошу всю-всю!»
Я почувствовала знакомую мертвую хватку маленьких пальцев. Она потащила меня, прихрамывая, в единственную маленькую комнату, спальню, гостиную, комнату для музицирования, виварий одновременно. Выполняя такие разнообразные функции, комната представляла собой нечто невообразимое: на старинном комоде, забитом посудой, всевозможными диковинными фарфоровыми статуэтками, стеклянными вазочками, высились две клетки. В одной сидел пестрый нахохленный попугай, в другой суматошно чирикала чета канареек. Слева по-прежнему стоял черный рояль, занимая полкомнаты, за ним – бочка с вечнозеленой древесной лианой, разросшейся по всей стене. Между ее ветвей и листьев выглядывали улыбающиеся фотографии детей и взрослых – ее внуков и детей. Напротив двери стояли круглый тяжелый стол с толстыми ножками, покрытый белой скатертью. Справа в углу – железная кровать с никелированными набалдашниками и взбитыми подушками. Все по-прежнему. Только теперь в Москве. («Теперь я москвичка. Решила ею стать, чтобы быть поближе к своим», – заявила она мне по телефону). Я планировала эту встречу уже давно, но смогла выбраться только на праздники.
Внезапно под ноги подкатилось что-то мягкое, теплое, пушистое и залилось тонким лаем. Это был совершенно черный щенок с белым пятном, наискось делившим его физиономию на две ровные половины – черную и белую, при этом казалось, что он держит ее наклоненной.
–Как тебе моя берлога, а? – спросила А.А., и я в ответ невольно рассмеялась.
Она усадила меня за стол, села напротив, подперла подбородок крепким кулачком и принялась спокойно и весело разглядывать меня. В ее глазах дрожали и прыгали солнечные зайчики.
–Ну-ка встань! – скомандовала она отрывисто и хрипло.
Я встала. Она жестом заставила меня пройтись. Я прошлась, не сдерживая смеха:
–Хороша, – удовлетворенно констатировала она, достала сигарету и протянула мне пачку. Я отказалась.
–Крепче могу предложить: ты как?
–Я убогая трезвенница, давайте-ка чай!
–Испортилась девка! Иди за мной на кухню! – И она бодро заковыляла к маленькой кухоньке.
–Как со здоровьем?
–А ну его, не спрашивай. Ты знаешь, сколько мне стукнуло? 78! Ну, как, впечатляет?
–Как с хозяйством справляетесь?
–Это ерунда. Оно так же, как болезнь: чем больше почет, тем круче растет. А я то и другое луплю, как сидоровых коз. Ты мне лучше вот что скажи, – прохрипела она, громыхая посудой, – как с музицированием? – и потащила меня к роялю. Потом с грохотом открыла крышку, откинула пюпитр. – Ноты, надеюсь, взяла?
–Ну, конечно…
Я поставила ноты и сыграла ей первую часть концерта, который мне стоил не одной бессонной ночи.
Когда я кончила, то услышала тихое всхлипывание. Старушка плакала, ее сморщенные щеки блестели. Она, шаркая разношенными шлепанцами, припадая на левую ногу, подошла ко мне, закрыла глаза и тихо дотронулась губами до моего лба. «Зря я тебя по рукам лупила, – выдохнула она. – Руки-то все равно держишь скверно».
Мы сидели за роялем два часа и больше. Она кричала, ругалась, хвалила прокуренным резким голосом. На меня накатывались волны ее гигантской энергии, удивительной для ее маленького старческого тела. Все также твердо и уверенно бегали по клавиатуре ее упорные маленькие пальцы, то же железо звенело в голосе, все те же неистребимые искорки в глазах, переливчатых, прозрачных, как морская гладь. Ее левая нога уже совсем не гнулась, именно этой ногой, подумала я, она больно давила на мою правую, когда та злоупотребляла педалью.
–Тьфу, безвкусица, – плевалась она тогда. – Что ж ты всю красоту педалью замазываешь?
В конце урока она объявляла:
–А теперь – гаммы! – и у меня внутри что-то обрывалось.
–Фа диез минор, пожалуйста… раз-и-два и три-и… Медленнее…раз-и … медленнее. Ты меня слышишь? – Я уже смотрела на неё с ненавистью, она меня держала четвертый час, я не сделала уроков и опаздывала в школу. Я останавливалась.
–Что такое? – спрашивала она голосом, в котором уже дрожал надвигающийся шквал.
–Я опаздываю… – предательски звенели слезы.
–Я тут ни при чем, даже если ты не пойдешь в школу вообще. Не сомневаюсь, что там ты такой же лодырь, как здесь.
Часто кончалось тем, что, замученные, злые, мы плакали обе.
–А.А., вы чай обещали, с моим тортом, — спохватилась я.
Она встрепенулась: «Ой, у старухи мозги набекрень!…сейчас принесу», – и опять энергично заковыляла на кухню. Я помогла ей накрыть на стол. Она с наслаждением, мелкими глотками пила чай, негнущимися четырьмя пальцами держа ручку чашки и оттопырив под прямым углом пятый. Меня всегда смешила эта ее манера.
–Чего улыбаешься? Ух ты, коза! Вот поглядим, какой ты будешь, поживи только с мое…Я вот все хочу спросить: как там твое сочинительство стихотворное?
–Продолжаю… Все свои стихи мне до сих пор кажутся незрелыми. Да и неизвестны мне эти критерии зрелости.
–Ах, боже мой, критерии ей подавай! Больно умными стали. Вот ты никогда не слышала, к примеру, как небо звучит? Осеннее – так, весеннее – совсем иначе. Звезды смеются колокольчиками, степь звучит виолончелями и скрипками; болото гудит органом, а как тоска воет – боишься: не дай бог, услышат. Любая сторона жизни имеет свой звук, только подслушать надо. Вот как услышишь все, соберешь воедино, перемешаешь, отожмешь выжимку из этой мешанины, как хорошее вино, – вот тогда, считай, зрелость и наступила. Все в мире звучит и свою песню имеет, настоящий музыкант это всегда услышит. Думаю, так же и поэт. Но сейчас ты лучше о конкретных вещах думай: что делать-то будешь дальше?
Я молчала.
–Не знаешь, стало быть…
–Не знаю, – повторила я эхом.
–Довольна, что лекарем стала?
–Да, но только трудно.
Она хмыкнула: «Ну, милая, трудно оно везде трудно, где дело горячее. Трудно бывает хорошо, а бывает трудно, где нудно».
–Ну уж что не нудно, так это точно. Не знаю, как и объяснить вам… Я всегда хотела в работе летать. А летаю, когда пишу.
–Ишь, канарейка выискалась… Послушай старую седую голову: не бойся учиться дальше, иди туда, куда ведет тебя твоя душа.
Я вышла от А.А., когда уже смеркалось. Низкое закатное небо, бардовое, фиолетовое, густо-синее с блекло-розовым подсветом на закрученных кучевых облаках горело, менялось, причудливо выгибаясь гигантским эфирным телом.
Я вышла на магистральную улицу и попала в людской поток. Он с равномерным рокотом катился по тротуарам, дороге, разношерстный, но единый в своем движении. С переулков в людскую реку вливались тонкие ручейки, она наполнялась, пенилась разноцветными одеждами; её потоки сплетались, размыкались, растекались по улицам, неслись к мосту. Закат стал мрачнее и ярче. Сумерки медленно сползали на город с темнеющего неба, разметавшего тяжелые облака, зажженные багровым светом закатной агонии, и величественный лик умирающего дня отражался на каждом лице многотысячной толпы. Затерявшись в ней, я вскоре оказалась на мосту, народ вокруг возбужденно рокотал в ожидании.
Грянул первый залп – и гигантский цветистый сноп рванулся ввысь, ахнул, на миг замер, расцвел сверкающим огненным шаром и рассыпался с сухим треском мириадами множащихся и мгновенно меркнущих ярких разноцветных огней, – и длинное, ликующее «У-р-р –а-а-а!» прокатилось над головами, рванулось вверх, навстречу рассыпающемуся огненному цветку.
В поднятых кверху лицах я узнавала собственный бездумный неприкрытый восторг, ожидание, обнажались подлинные лица взрослых детей. Я ощущала почти физическую сопричастность этим людям, гораздо более глубокую, чем сплоченность при виде одного зрелища, – это, я поняла в какой-то миг, была сопричастность всему, что совершалось, виделось, двигалось, дышало вокруг: побледневшим в сумраке улицам и домам, времени, дробно отсчитываемому залпами салюта, разметавшемуся по городу синему закату, в причудливой игре которого брезжила тонкая улыбка вечности.
КАВАЛЕРЫ
Первый год жизни в Москве мне показался длиною в жизнь. Я одиноко вращалась по своей орбите в нашем космосе под названием общага, ежедневно скользя с открытым пропуском мимо бдительного недоброго ока вахтеров, с которыми мне так и не удалось сократить дистанцию. Тяжело захлопывалась дверь старого лифта, отдаваясь гулким грохотом до девятого этажа, я входила в его тесное холодное лоно, и громоздкий металлический лязг был последним свидетельством моей окончательной изоляции от внешнего мира. Не нужно было живого воображения, чтобы почувствовать себя заключенной, — я так и не изжила этого ощущения до конца пребывания. Мне было интересно каждое новое лицо, но тут я познакомилась с тоской, она стала навязчивым фоном, который в принципе не мешал жить, но не давал чувствовать себя счастливой. Странное чувство, — ему нет объяснения и даже названия: будто я лишилась чего-то очень важного, но не знала, чего именно. Неясные образы сновидений, рожденные из зыбучих песков подсознания, прерывались и стирались пробуждением, но окрашивали день в свой цвет, и я оказывалась в разорванном пространстве между сном и реальностью.
Между тем меня медленно затягивала атмосфера громадного здания, напоминавшего дрейфующее судно. По утрам в утренней сомнамбуле я брела с чайником, иногда – со сковородой, на общежитскую кухню по длинному коридору, не обремененному излишними деталями интерьера, становилась к свободной плите кухни, где мои соседки уже общались в полный голос в сопровождении собственного эха, метавшегося под высокими потолками, и оглушительного треска раскаленного масла, кипящего на сковородах.
Я тихо плавилась в иссушающем зное арабских глаз, накалявших холодные акустические своды лестничных пролетов до нестерпимого цельсия родной Сахары, — так, что даже я, термически устойчивая южанка, не выдерживала и успевала несколько раз сгореть и возродиться, каждый раз беспомощно трепеща новорожденными крылышками. Новоявленная птица Феникс. Одновременно назревала африканская экспансия, причем достаточно скандально, чтобы вызвать пусть не широкий, но некоторый общественный резонанс. В нашу комнату начал захаживать высоченный субъект по имени Той. Он входил почти без стука, бесшумно скользил к стулу, усаживался без приглашения, лениво свешивая длинные руки, которые едва не касались пола. Пальцы сумеречного цвета, унизанные золотыми перстнями, тоже были удивительной длины и совершенства; такими же были ногти, напоминающие цветом сердцевину морской раковины. Перстни тускло мерцали. Он их менял каждый день, также, впрочем, как золотые цепочки, талисманы и браслеты. Эта неустанная забота о смене золотых украшений приводила моих девиц в неистовство, а меня веселила, хотя эмоции свои я держала при себе, чтобы не оскорбить праведного социалистического негодования. Он не обращал ни малейшего внимания на молчаливую выразительную осаду, в которой каждый раз оказывался, облокачивался на спинку стула так, что приподнимались передние ножки, и оставался сидящим на двух задних. Эта нестабильность до конца его пребывания вселяла в меня нешуточную тревогу, — я каждую минуту ожидала падения, но последнего так и не последовало. Лицо Тоя ничего не выражало, глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, не отражали света и были полны четырехсотлетней скорби. Только черные зрачки, слившиеся с радужками, двигались синхронно моим движениям. Он не отягощал себя разговорами, ибо не смущался узкой цели своего визита: просто смотреть. Садился и смотрел. На меня. В такой же ситуации с любым другим обязательно возникла бы неловкость. Здесь же по непонятным причинам её не возникало. Ему это шло. Как шли бесконечные смены золотых украшений («Он что, сундук золота с собой привез?»), которые удивительно гармонировали с кожей цвета сумерек; как шла особая манера двигаться – скользить, будто не касаясь пола, и смотреть открыто, почти не мигая. Однако интрига тем не ограничилась: у Тоя был черный Ситроен, который, по слухам, хранился на платной стоянке, однако его владельца буржуазный образ жизни в советских условиях, похоже, совсем не стеснял. Напротив, несколько раз, встретив меня, он широко распахивал передо мной дверцу машины, предлагая подвезти, я отказывалась, и тогда он медленно следовал за мной, пока я шла по тротуару. Сцена вызывала легкий ажиотаж, и ко мне чуть не приклеилось «Дама с черной собачкой» (под собачкой подразумевались, надо думать, негр и черный Ситроен одновременно). Ситуация осложнялась тем, что у Тоя был гарем. Последняя информация исходила от девушек нашей комнаты (ей трудно было не доверять хотя бы на 50%). Центральной фигурой гарема, по сведениям, была угнетенная немка, которая три раза на день готовила, стирала и даже мыла мужу ноги. Оставалось ли ей время на учебу при такой жизни, неизвестно. Кроме немки, была еще тройка добровольно закабаленных с разных стран и континентов. При этом он, продолжали пристрастные наблюдатели, приходит в чужой корпус, уставится и смотрит часами, как удав на жертву. У него неполный интернациональный комплект, как видно. Ну, уж нет! Хороша Маша, да не ваша. И поскольку мою судьбу за меня всенародно решили, мне оставалось ей повиноваться.
После визита Тоя я по его примеру долгу изучала в зеркале собственное странное сочетание тонкого большеглазого лица и сильного тела, которое могло выглядеть почти массивным, если бы не талия, — узкая для столь развитых форм. Лицо, длинная шея, длинная талия и своеобразные пропорции создавали стойкую иллюзию «худенькой высокой девушки». Я долго вглядывалась в темноту зрачков, за которыми стояли неведомые мне самой безмерные пространства. Но в какой- то момент на меня уже смотрела незнакомая женщина с темным лицом, полногубой спокойной улыбкой и непроницаемым взглядом, исполненным неизбывной тоски, как глаза Тоя:
«И не свой народ назову своим народом,
И не возлюбленную – возлюбленной».
За пределами клиники и общежития у меня появился очень респектабельный, приличный жених. Он был весомо молчалив, носил галстуки, отличался здоровым цветом лица и неплохим чувством юмора. Но по какой-то нелепой случайности все его романы были связаны с профессорскими дочерями. При мне он краснел, (это мне льстило), но далеко не потому, что я по роковой случайности тоже была дочерью профессора. Вскоре он от кого-то узнал об одной скандальной истории, которая произошла со мной в ранней юности. Он ничего не стал выяснять у меня, а просто увлекся дочкой другого профессора. Поначалу мне было обидно, что он не узнал о том, что в основе моей злосчастной истории лежало невинное недоразумение. Потом я рассудила, что для такого принципиального и серьезного человека какое-то жалкое объяснение ничего бы не изменило. Его новая возлюбленная была миловидной уютной блондинкой, и кроме случайной родственной принадлежности к профессуре, она, опять-таки по чистому совпадению, оказалась племянницей его шефа. В конечном итоге она и стала его женой, но я даже близко не допускаю, что последнее обстоятельство стало определяющим. Вскоре он блестяще защитился. Но почему-то, видит бог, день нашего расставания я не могу назвать самым черным в своей жизни.
Следующий поклонник обладал той мрачной порывистостью, которая больше всего убеждает женщин в искренности чувств. Почти ничто из происходящего не могло вызвать его улыбки. Его способность все воспринимать буквально приводила меня то в умиление, то в отчаяние, в зависимости от ситуации. Так что в общении с ним мне приходилось постоянно балансировать на грани патетики и трагики. Как-то он впервые долго и пристально посмотрел на меня и сказал: «Ты часто бываешь грустная. Даже в веселье ты – грустная. У тебя есть все, что надо. У тебя есть я. Что тебе не хватает?» Я подумала и сказала «птичьего молока». С тех пор он мне регулярно дарил коробки конфет с соответствующим названием. Такую же последовательность он проявлял в своей привычке дарить цветы: только раз в неделю, только гвоздики и только по три штуки. Однажды после какого-то праздника он изливал мне душу и в пылу откровения горячо воскликнул: «Знаешь ли ты, что я поклялся своей бывшей жене, что вторично женюсь на более молодой и красивой!» Это и была его causa sui. И когда мы расстались, я не скажу, что терзалась мыслью о том, что моя жизнь кончена.
Из многочисленных друзей нашей комнаты я невольно вывела еще один общий типаж, похожий на одно лицо, которых можно объединить безликим «интеллигентные мальчики». О них трудно говорить в отдельности, — только в общем. Прозрачные и призрачные, из типовых городских квартир, они умели одинаково интриговать при знакомстве многозначительными паузами, недоговоренностью, легким цинизмом, что создавало своеобразный ореол, за которым предполагалось нечто… Однако очень скоро я уже ничего не могла поделать с чувством жалости. Их самодовольная развязность и апломб чаще всего прикрывали слабость и неуверенность в себе. Даже если в момент беседы с ними во мне просыпался интерес, то позже я не могла отделаться от ощущения, что все это я уже где-то слышала. Их радость была истерична, желания поверхностны и нестойки, грусть наигранна, смех натянут. Они произносили интеллектуальные речи, в которые сами не верили. Со временем в них накапливался изрядный запас скепсиса и апатии, которые убивали последние проблески интереса. Я еще долго шарахалась от подобной «синтетической» интеллигенции.
И вот, наконец, я встретила его. Это был он. Уверенность пришла не сразу, но этот честный, умный взгляд, открытая доверчивость, сдержанное, но последовательное внимание, — все, все убеждало меня, что ошибки быть не могло. Сухой, крепкий, он был олицетворением силы, надежности. В нем не было пустых мудрствований, — если ему нечего было сказать, он молчал. Меня все больше притягивала безыскусная прямота, понимающее молчание, спокойная уверенность. Мне так хотелось, чтобы он понимал, что мне казалось, — он понимал. Я так устала от регламентированных отношений, что говорила все, что думала, я дурачилась и дулась, если хотела. Спустя год он предложил стать его женой. Когда я дала согласие, он счастливо, растерянно улыбался и лишь твердил, что и не смел надеяться. Правда, на немедленной свадьбе не настаивал. На протяжении последующего полугода наши счастливые встречи продолжались. Однажды я спросила его, не сомневается ли он в своем выборе. Он прямо и определенно ответил, что нет, но внезапно исчез. Я потребовала объяснений, случайно с ним столкнувшись, и он произнес с задушевностью старого испытанного друга: «Ты понимаешь, я ищу возвышенной любви».
Долгое время я сожалела, что не потомственная христианка, и веселила брата тоской по монастырю. Он провозгласил, что в принципе ничего невозможного нет, и предложил мне перечитать «Монахиню» Дидро, чтобы лучше ознакомиться с будущей обстановкой.
К нам в комнату захаживали несколько флегматичных, но настойчивых поклонников со Средней Азии, периодически навещали некоторые представители Закавказья, Ближнего Востока и Африки. Со мной водили бесперспективное знакомство один неотразимый чаровник с Западной Украины и ветреный венгр. Последний проявил неожиданную основательность, заявив между делом, что мог бы снимать квартиру на двоих (я не сразу сообразила относительно второго) и регулярно заполнять холодильник на известных условиях. И, не дав мне опомниться, умчался, сверкнув обворожительной белозубой улыбкой: «Подумай!»
Ничто не предвещало мне особой встречи, и тут я увидела его, — своего,
в собственном общежитском подъезде. Короткая вспышка узнавания. Момент, за которым – века. Статное, легкое тело и особое опознавательное свойство: неявно, целомудренно дремлющая сила в щедром разливе прямых плеч. Лицо, высеченное скупым тонким резцом. И эта сдержанная манера, за которой только свой, такой же почувствует сжатую пружину. Я знала, что передо мной – кабардинец, классический, чтобы ошибаться. Но меня что-то удерживало, чтобы запросто спросить: «У адыгэ?» Мне казалось, он меня тоже «опознал». С тонкой улыбкой, проворный. Явный плут. Но почему не спросит сам? Мы достаточно долго обменивались беглыми взглядами, пока однажды по дороге в метро не увидела его с товарищем; они оживленно говорили на чистейшем кабардинском. Когда я их обогнала по узкой тропке только что выпавшего, рассыпчатого снега, он заговорил в полный голос… обо мне: «давно хочу познакомиться с этой девицей. Смущает только, что она арабка». Но я и на этот раз не выдала себя: мешала, как видно, моя дремучая доморощенность. Мы познакомились, когда, осмелев от присутствия подруги, я как-то поравнялась с ним по дороге, и сказала безо всякого видимого предлога: «Вы знаете, а ведь тоже кабардинка». Он не смутился, не удивился, и, кажется, не слишком обрадовался, отреагировал как-то буднично.
Однажды в коридорах клиники я столкнулась с клиническим ординатором Раджи. В отличие от Тоя, он явно был выходцем из демократических слоев. «Приходи на день рождения», — сказал он, с трудом подбирая слова. Я поблагодарила, хотя недоумевала: мы только здоровались. «Обязательно сходи! У них очень уязвимое расовое чувство!» — порекомендовала умненькая Мышка, когда я на бегу поведала ей о своих сомнениях. Вечером я уговорила Сашу пойти со мной на неведомый день рождения, и из гулкого коридора с жужжащими лампами дневного освещения нас разом поглотила небольшая, совершенно черная комната с пульсирующей красной лампой. Я невольно попятилась назад, видя, как на
красно-черном фоне двигались в танце черные фигуры. Другие сидели и стояли вдоль стен, и когда глаза привыкли, я с облегчением узнала несколько знакомых. Мы стояли в стороне и болтали с Сашей, когда подошел Раджи; я поздравила его и вручила подарок, а он пригласил меня на танец. Невысокий, плотный, он двигался необычайно легко. Меня вела чуткая умная рука, которая знала мое любое последующее движение и сообщала его телу. Это была чистая танцевальная импровизация; не только этот, но и любой последующий фрагмент танцевального рисунка был загадкой для меня самой, однако мы ни разу не сбились. Танец складывался сам собой и рождал ощущение полета. Мы не сказали ни одного слова, но у меня возникло чувство, которому нет названия. Все равно, как если бы мы прожили жизнь, или вместе преодолели бы какую-то вершину, например, Эльбруса или Килиманджаро, или прошли сквозь джунгли, или пережили бы рождение и крах нескольких цивилизаций.
Однако танец имел самое банальное продолжение: Раджи начал меня преследовать. Его черный силуэт мелькал то там, то здесь, и вырастал в местах самых неожиданных. Мои просьбы, уговоры, объяснения не действовали. Вскоре я собралась духом и сказала, что заявлю в милицию. Это подействовало, но лишь на время. Он зачастил в нашу комнату, превратившись в совершенно ручное создание. Он одаривал всех скромными, но равноценными подарками, так что некоторое время оставалось непонятным, кто инициировал появление экзотического гостя. При малейшем техническом неудобстве он, тактично ссылаясь на какие-то обстоятельства, исчезал. Девушки были от него в восторге. «Я могу быть твоим бой-фрэндом», — сказал он мне как-то, застав одну. Я сказала нет. Почему? У тебя есть жених, который живет в общежитии? Нет. В этом случае он не видел причины. Я была почти в отчаянии, так как никакие доводы не действовали. «Я мусульманка», — сказала я наконец. Он удивленно уставился на меня. Ты пять раз делаешь намаз? Нет, но его делали мои бабушки. Что-то в нем изменилось, он попрощался и ушел. Но через три дня вернулся и сделал мне предложение. Он оказался мусульманином.
Пол-года спустя у меня появился еще один настойчивый поклонник — ходячий эталон благополучия, с моей исторической родины. Бывая в Москве, он неизменно заходил ко мне в общежитие. Я редко могла уделить ему внимание: наша комната напоминала настоящее вавилонское столпотворение. Он приезжал в Москву по коммерческим делам. Периодически он развлекал меня забавными рассказами, за которыми всегда сквозил его неизменный успех, однако имел неплохое чувство меры, и прекращал дозволенные речи там, где они через минуту походили бы на вульгарное бахвальство. (Мне всегда везло на ювенильных типов, которым в зрелости требовалось столько же демонстративного самоутверждения, сколько в юности). Но за этой его парадной ролью я чувствовала что – то очень живое, незастывшее, некую зыбкую вибрацию, какой-то особый способ проникновения в мой потаенный мир, — то, что бессознательно я всегда ожидала. Начиная с подросткового женского дебюта, меня примеряли к себе, как костюм в гардеробной. Поэтому с появлением нового поклонника я невольно задавалась вопросом, что же на этот раз: удлинить рукава или наглухо застегнуть ворот? Его чуткий нос ощутил аромат моего белого цветка, который распускался только ночью, а днем плотно смыкал свои лепестки, превращаясь в непроницаемый закрытый бутон; он не походил на нежные весенние первоцветы, — это был удивительно живучий, бессметный рододендрон с мощным, почти грубым стеблем и неувядаемым корнем, один из тех, что приносили мне в детстве с высоких вершин мамины братья Лева и Мага, — теперь он расцвел во мне, и безудержный рост его приносил мне невыразимые мучения и радость. Я никому не выдавала этой тайны, твердо зная, что его жизнь во мне, по сути неуничтожимая, обязательно будет высмеяна или опошлена радеющими мужчинами. Мне казалось, что мало кто понял бы или расценил как извращение правду о том, что существуют ненасытные губы, щедрые широкие бедра и неистощимое лоно моей души, которая, как хищное животное, с наступлением сумерек, сворачивает на дикую девственную тропу поиска новых форм, чтобы облачить то безымянное, что растет и бьется во мне, требуя выхода, и, облекаясь в форму, расцветает. Кажется, мой новый знакомый действительно боялся присутствия моего виртуального цветка, попросту не знал, что с ним делать. Разумеется, было бы куда удобнее, если бы растение пристойно произрастало на подоконнике, в горшке, то есть там, где положено. Его можно было бы поливать, постригать и формировать по собственному усмотрению, а если бы оно надоело – просто выбросить и заменить другим, новым. На самом деле, этот невидимый цветок, выросший на несанкционированной почве, (который только источал сомнительный аромат, и факт существования которого не был очевиден), причинял много неудобств. Кроме того, сомнительной являлась сама необходимость его существования, которая лишала спокойной предсказуемости и уверенности в процессе безраздельного овладения женской душой. В результате новый мой знакомый относился ко мне так, будто его не было вовсе.
Но, не смотря ни на что, я чувствовала себя в устойчивом фокусе его интереса. Однажды его прорвало, и он признался, что очень любит меня так, как никогда никого не любил. Он плакал. Я была потрясена. Кажется, он возвращал меня к жизни. Однажды в разговоре с нашей общей хорошей приятельницей (его и моей), я что-то почувствовало, не скажу даже, что именно. Через несколько фраз стало ясно, что её он так же страстно любит, причем объяснение последовало чуть ли не на следующий же день за моим. Он не обременял себя долгими поисками формы и объяснился теми же словами. И также плакал. Я безо всяких объяснений прервала отношения. Всю последующую неделю я постоянно путала реакции: например, на клиническом семинаре, когда все дружно рассмеялись какой-то остроте профессора, я внезапно расплакалась и выбежала из аудитории. Но это был еще не конец.
В тот же день, когда я вернулась домой на летний отпуск, на меня обрушился шквал телефонных звонков. Оказалось, что я вожу сомнительные знакомства с кем попало, за этим следовали откровения столь интригующие, что я не решусь их воспроизвести. Вывод был прост. Оказывалось, что я не та, за кого выдавала себя все годы. Об этом свидетельствовали множественные факты, которые излагались подробно и противоречиво. Никто из моих друзей и доброжелателей в это, разумеется, не верил, но негодующе пересказывал информацию другим, те – еще кому–то, и так дальше. Почти весь отпуск я употребила на то, чтобы выслушивать шокированную общественность, и проясняла свой новый имидж, который вырастал из мутных потоков грязи, что стекался с разных сторон к моему телефону, раскаленному от стыда и возмущения. Так я узнала о примитивных интригах, предпринятых моим экс-поклонником по возвращению домой. Он наводнил город гнусными слухами, особенно усердствуя перед мужчинами нашего общего окружения. Ему внимали благосклонно. Иногда благодарно.
К нему примыкала достаточно обширная группа «доброжелетелей» (я недооценила степень активного интереса к собственной персоне), которая усиленно муссировала эту информацию. Больше всего старалась моя близкая приятельница, похожая на неудачную пародию Пиковой Дамы. Свои собственные похождения, о которых как-то в порыве откровения она мне поведала и взяла с меня слово молчать (что я и делаю по сей день), приписывались мне.
Я думала. Я даже вывела про себя возможную, наиболее эффективную технику: вероятно, ей следует придать форму правдоподобия, излагая, к примеру, всем известный факт, но затем вывернуть все до неузнаваемости. Я стала ловить на себе заинтересованные взгляды, большинство моих приятелей приобрели необычную сдержанность манер. Однажды на какой-то общественной сходке меня проигнорировали практически все, кто на ней присутствовал. Очень скоро я сама по себе уже мало что значила по сравнению с собственной репутацией. Я была лишь ее тенью, придатком. Ситуация была до смешного банальна. Но мне ничего не оставалось, как констатировать факт, что именно банальные ситуации приобретают самое большое могущество и силу.
Я не кончила суицидом, как это бы полагалось, возможно, для добропорядочных кабардинок прошлых эпох. Я просто перестала спать, и в бесконечные часы ночных бдений думала о старом кабардинском кодексе чести, который испокон веков, еще до недавнего прошлого, завоевал себе мировую славу, и одновременно безмолвно констатировала воплощение его современного двойника. Грязный призрак молвы с въедливым похотливым взглядом неусыпно и назойливо преследовал меня.
Вскоре по приезду в Москву мои расшатанные нервы заявили о себе, когда я неожиданно разревелась при своей соседке – умнице Мышке, которая заставила меня все рассказать. Мышка не успокаивала меня, долго молчала, размышляя. Потом сказала серьезно: «А ведь ты впервые столкнулась с очень интересным феноменом – дискредитацией. Я сама этого не избежала и также тяжело пережила, долго об этом думала, много чего читала. Сложная, очень старая статья женской дискредитации. Мужчина дискредитирует женщину, которая не отвечает его ожиданиям. Так проще всего, чтобы подчинить, хотя бы внешне. Или выместить злобу и бессилие. Чтобы утвердить общественное мнение во вторичности женщины по сравнению с мужчиной, в ее «врожденной порочности» и т. д. и т. п. Оклеветанные теряют социальный статус, становятся уязвимы и легко управляемы. Существует мнение, что первой жертвой реакционного христианства стала Мария Магдалина. Сначала были дискредитированы, а потом сожжены десятки тысяч женщин во время «охоты на ведьм». Думаю, это были те, что не умещались в тесные рамки общественной морали: не так думали, действовали, себя вели. Были слишком индивидуальны, слишком ярки, слишком свободны. Были несравнимо богаче и шире узкой морали. Тысячи лет страшной охоты сделали свое дело, большинство женщин обрело рабское сознание. Не думаю, что с тех пор что-то кардинально изменилось. Изменились только формы репрессий. Сейчас тоже идет «охота», только в другой, более «цивилизованной» форме. И тоже на «ведьм».
В этот момент забежала Юля и быстро оценила ситуацию. «Что же ты ей лекцию читаешь, господи? — с чувством заметила она, — Она ей нужна сейчас?»
Но талант уместности Мышки никогда не давал сбоя. Ее «лекция» странным образом меня успокоила и уравновесила. А может быть, дело было просто в ее физическом присутствии и незаметном участии, которые действовали как непогрешимый оберег.
ВЕЧЕРИНКА
Комната для торжества была мне любезно предоставлена комендантом общежития Бабилоном. По — настоящему его звали редким, теперь уже реликтовым именем Демьян, (но, опережая навязчивую ассоциативность читательского сознания, спешу уточнить, что при этом он был отнюдь не бедным). Другим, более известным именем Бабилон был окрещен при разговоре советского обитателя общежития с другим, англоязычным, когда первый вместо tall baby – высокий ребенок, окрестил коменданта baby long, подметив удивительное сходство с ребенком, который слишком быстро вырос. Комната для торжеств располагалась в торце длинного коридора и являлась самой большой из всех имеющихся на этаже. Точно такая же планировка была на всех других этажах. Подобные комнаты никогда не пустовали и сдавались «перелетным». Было странным, что одна из них оказалась пустой. «Это что же, в обмен на нашу лояльность?» — спросила Юля, старшая в нашей комнате. И стоило коменданту скрыться из виду, как Леночка продолжила Юлину мысль, кося лисьими глазками: «Молчание тоже покупается. Иногда без денег».
Временные жильцы постоянно менялись. Поговаривали, что Бабилон сколотил себе целое состояние, но никто никогда не мог этого подтвердить, — официальных свидетелей не находилось, кроме неофициальных: ими были многочисленные бывшие пассии коменданта, которые с одинаковой точностью описывали несколько сберкнижек с фантастическими цифрами, на которые они натолкнулись, когда искали материальную компенсацию нанесенному моральному ущербу, и одиноко ревизировали демьяновский номер. Не найдя ни рубля, вскоре они все до одной к нему возвращались. Это было одной из тайн Бабилона. Никто из женщин не мог объяснить, чем же была для них эта связь, но Леночка, однажды «по глупости» опалившая свои крылья о его неугасимый жертвенный костер, потом промолвила, что это было чем-то. Он являлся великолепным физическим образчиком – с идеальными пропорциями, стройными ногами, и при этом совершенно безликий. Бабилон говорил мало, только когда это было необходимо и только то, что необходимо – по форме. С течением времени он не старел, но и не расцветал – просто не менялся. Когда спустя лет десять я оказалась в Москве и, еле переводя дыхание, заехала на Пироговку, затем только, чтобы вновь окунуться в эту непередаваемую атмосферу, ставшую центральным символом моей молодости, я наткнулась на Бабилона. Он был первый, кого я увидела, оказавшись снова в холодном чреве общежитского вестибюля, и казался таким же, как в день нашей первой встречи, когда я испытала безотчетный страх. Потому что комендант, сказала я себе тогда, но вскоре решила, что причина в другом. Он представлялся мне всегда отлаженным стальным механизмом. Но если стальной механизм когда-то изнашивается, то биологическому это не грозило. Бабилон смотрел на меня глазами цвета металлик и даже улыбался. Впрочем, при встрече он улыбался всегда. Но я не обольщалась, так как воплощала в его глазах символ женщины вообще. Не то, чтобы он не ценил женщин: напротив, — чутко реагировал, но не на конкретную женщину, а на атрибуты женственности,- этакий непогрешимый тест на оптимальный уровень эстрогенов, или на фенотипическое соответствие видовой норме пола. Однако, являясь безусловным ценителем достоинств физических, Бабилон, тем не менее, мог оценить и неовнешвляемый «тонкий» слой женщины. Он был по-своему умен и даже не лишен чувства юмора, но оставлял странное ощущение, возможно потому, что ничего не выражал. Ни одной идеи. Ничего. Пустоту. В ней провисали и теряли смысл все слова и действия. Всё бледнело и утрачивало суть перед его всепоглощающим ничто.
Откуда он взялся? Никто даже не задавался подобным вопросом, будто он жил и будет здесь жить вечно. Результат беглых связей многих поколений в коловороте движения разношерстной толпы огромного города, где у большинства давно не осталось ни корней, ни стойких привязанностей. Я что-то ему говорила и думала о том, что его наверняка можно было назвать красивым, но облик ускользал; стоило только отвернуться — и он представлялся человеком без лица. Бабилона побаивались все, даже аспиранты третьего года. Некоторым нервическим субъектам, преимущественно женщинам, он внушал мистический ужас. Дело в том, что в респектабельном номере коменданта регулярно случались очаги самовозгорания. Это было темное дело, и долгое время ходили упорные слухи, что Бабилон устраивал поджоги сам, чтобы получить какую-то страховку. Другие утверждали, что это дело рук шутников, которые от большой «любви» подбрасывали пакеты с зажигательной смесью, пока, наконец, не нашелся очевидец, который случайно оказался у коменданта в критический момент. Он неожиданно почувствовал запах гари, а вскоре внезапно задымил матрац, так что привычный Бабилон сам хладнокровно и деловито залил свою постель пеной из огнетушителя, который предусмотрительно повесили у двери.
Мы готовили, как обычно, почти всем этажом, но при этом центральной фигурой всегда оказывалась Роза. Она никогда не давила и не управляла, но невольно выходило, что руки её мелькали быстрее и увереннее других, хватка оказывалась самой крепкой и проворной, советы — своевременными и действенными, а улыбка — самой веселой и добродушной. К вечеру праздничный стол был почти готов. Он был преимущественно куриным, но моя скромная доля, разумеется, не могла покрыть гастрономических потребностей непредсказуемого числа потенциальных участников, так что по большому счету стол был как всегда сборно-импровизированным.
Стали появляться гости. Пришла какая-то хрустальная блондинка, — настоящая: тонкокожая, с лазоревым взглядом, неправдоподобной талией, такая субтильная для нашей полнокровной компании. Кто-то вызвался быть телохранителем, чтобы её не снесло первым же взрывом веселья.
На пороге появилась знакомая немка, округлая женственная кошечка трезвого мужского склада; она могла безошибочно рассчитать все, вплоть до отдаленных последствий любовных связей. «Зачем ты поступила на медицинский, у вас же врачи очень бедные?»- спросила она меня с обычной обезоруживающей прямотой. Не желая расписываться в собственной недальновидности (ибо этот аспект мною поначалу вообще не был принят во внимание), я ответила вопросом на вопрос: «А ты зачем?» — «Чтобы не считать всю жизнь копейки», — и подробно изложила иерархию финансового роста немецких врачей, — от выпускника до владельца частной клиники, легко оперируя многозначными цифрами. Я молча впечатлилась. Еще недавно она продемонстрировала пример своеобразной немецкой щедрости, почти расточительности. На Новый год она вздумала одарить нас подарками, при этом малышка принесла длинный список, написанный каллиграфическим почерком педанта, и принялась зачитывать наши пронумерованные имена и фамилии. Очередному счастливцу выдавался милый сувенир из мешка. Роль Санта – Клауса выполнял смуглый возлюбленный из какой – то арабской или африканской страны.
«Не понимаю, зачем вам оказывать гуманитарную помощь странам третьего мира и вообще нуждающимся, если у вас самих нечего есть?»- спросила она меня другой раз. Я слегка опешила: кажется, это был вопрос не совсем по адресу. Но мой небольшой паралич был вызван другим: непонятно было, зачем она сама пользовалась услугами «бедной» страны. Однако я промолчала. Девушка эта, с сияющими удлиненными синими глазами, и дальше огорошивала меня непосредственностью и социально-политическими вопросами, полными явных парадоксов. Если к подобному положению вещей я и мои соотечественники привыкли настолько, что попросту уже почти ничего не замечали, обозревая свою жизнь «изнутри», то здесь я была озадачена упрямой констатацией этих парадоксов «снаружи», свежим взглядом со стороны. Но вскоре до меня докатился пущенный кем-то термин «антисоветчица», и все как будто встало на свои места. Она пришла все с тем же смуглым возлюбленным, богатым наследником, который её «очень любил». («Он тебе сказал об этом?», — спросила я.- «Разве я выгляжу такой глупой? — парировала она с милым акцентом. — Он меня содержит с первого дня»). Кроме того, он готов был по окончанию учебы поехать с ней в Германию и принять католичество.
Явился упомянутый выше худощавый нервический ординатор Чары, — четвертый сын, четвертый раз успешно замещающий первого и отсутствующего мужа Милы, которая пользовалась самым высоким негласным рейтингом женского благополучия. На общественных мероприятиях она любила надевать на него галстук и, зацепив кончик двумя пальцами, водила его за собой повсюду. Картина принципиально не менялась и без галстука, поэтому Чары заслужил определение «раб любви». Милочка не уставала поправлять его «несносное» туркменское произношение, особенно азартно она упражнялась в этом на публике, осуществляя свою высокую цивилизаторскую миссию: «Что бы ты без меня делал?» Она считала, что цивилизация до его мест еще не докатилась, что без «культуры из центра» и без нее, Милы, он бы зачах и навсегда остался неучем. У Чары кривились в легкой улыбке полные темные губы и блестели непроницаемые черные глаза: «Это точно. Мы бы все просто умерли». Я чувствовала в нем гораздо больше того, что он говорил, и знала, что он это знает. Между нами установилось странное немое взаимопонимание, похожее на молчаливый заговор. Я знала, к кому обратиться за помощью в случае крайней необходимости.
После Чары пришла роскошная незнакомка, похожая на кающуюся Магдалину работы Тициана, и через десять минут была уведена кем-то из присутствующих, которого я могла рассмотреть только со спины. Незаметно возник славянский Лель (неужели они еще не перевелись?): русоволосый, статный, с серо-голубым взором на прекрасном лице, слегка отстраненный, как и подобает полу — божеству, так что вечно бодрствующий созерцатель во мне встрепенулся и восхищенно замер. (Я всякий раз попадаюсь в одну и ту же ловушку: за красотой я всегда – до сих пор, — предполагаю бездонные глубины, которых чаще всего там нет). Заплыла переодевшаяся Роза, большая, теплая, ласковая казашка, мировая мама, на смуглой, полной груди которой выплакивалось и находило утешение, кажется, все общежитие. Рядом оказался круглый незнакомец: фигура, голова; лицо — свежее, розовое, с мягкими чертами и яркими глазами-незабудками: рекламный американский фермер. «В какой же газете вы работаете?» — спросил он меня. Я сказала, что работаю в клинике. Он правдоподобно удивился. «Но вы ведь брали интервью у моего друга!» В результате выяснения маленького недоразумения выяснилось, что он шел вообще-то не ко мне, однако остался. Пришли четыре незнакомые девицы, одетые в майки основных цветов радуги, с английскими буквами на груди и спине. Но в середине вечера они вольно или невольно совместились и составили вместе требуемое слова, которое я тут же прочла: «LOVE».
Разумеется, была Мышка в черно-белых тонах, подтянутая, собранная как всегда. Она никогда не пользовалась косметикой, не красила волос неопределенного цвета, но это вызывало лишь неподдельное уважение её мужеством: она не боялась раствориться на фоне невообразимого женского цветника. При малом росте и невыразительном лице с мелкими чертами, она была пропорциональна, что позволило ей избежать скучного клише «деловой дамы» или уж того лучше «синего чулка». Всезнающая, все умеющая, вездесущая, с высоким зарядом неукротимой ровной энергии и свежей бодрости, Мышке уже сейчас было предложено место в ведущей клинике Москвы. Неулыбчивая, деловитая, немногословная, она в нужную минуту всегда оказывалась рядом и находила выход из любого безвыходного положения. «Мышки творят этот мир», — острота, пущенная кем-то на первых этапах её появления, незаметно переродилась в аксиому, которая уже без тени иронии вошла в сознание каждого из её окружения. Некоторые полагали, что у нее проблемы с чувством юмора. Она принимала шутки без обычной оживленной реакции, в своей плоскости, все же остальное встречалось ею с ледяной вежливостью, так что попытки шутить дальше пресекались сразу. В ней все было определенным: манеры, взгляды, мнения, цели. Наверное, именно поэтому она все делала по существу. Мышке ничего не стоило с вежливой прямолинейностью пресечь лишний разговор, а если это было невозможно, она умела без промедления выйти из него и сразу удалиться. Она умудрялась говорить только то, что нужно, делать то, что требовалось в конкретной ситуации, оказываться только там, где её ждут. Это чувство уникальной уместности больше напоминало талант, который достигался редким сочетанием ума, здоровой бескомпромиссности и железной воли. Наши философствования и споры она называла «ненасущным теоретизированием, которое может подождать» и была в основе своей практиком, но могла быть и блестящим теоретиком, если в какой-то теории была конкретная нужда.
Впрочем, однажды Мышка все-таки снизошла к участию в общественных спорах, обнаружив с себе определенные феминистские наклонности прогрессивного толка (о которых мне уже было известно). Кто – то из мужчин считал, что «феминизация не что другое, как сублимация, и в женском исполнении все это может кончиться простым вырождением, если только подобным глупостям не поставить железный заслон». Это грубо-натуралистическое мужское крыло блокировалось женской партией, во главе которой, разумеется, оказалась Мышка: «Вы сами во всем виноваты (то есть, мужчины), — произнесла она спокойным контральто с металлическим тембром, — дали женщине права и образование». В Мышкиной ораторской магии присутствовал некий посыл, и каждая её фраза проливалась благодатной влагой в атмосферу засушливой почтительности, которая неизменно воцарялась вокруг её маленькой персоны. – «Вы дали женщине шанс убедиться, что она может (пусть в другой форме), но по сути столько же, сколько и мужчина, а то и больше. И после этого хотите социально адаптированного, умного человека ограничить старыми рамками трех К. (!) Кажется, только сейчас женщина доела эдемское адамово яблоко, и по простоте, сама того не ведая, перегрызла горло мужским амбициям, — добавила она, насмешливо кося черными глазами, которые в сочетании с её железной хваткой непогрешимо выдавали её статус достойного потомка Чингиз-хана. — Вообще – то, с легкой руки мужского мирового сообщества произошла катастрофическая путаница: реально на поверхность выплыл не пресловутый женский вопрос (женщина стала наконец тем, чем должна была стать), а мужской, — это мужчины в небывалом смятении: они не могут приспособиться к новой женщине и изменившемуся новому миру».
— И как же ты относишься к современной морали полов? – спросил кто – то из мужчин.
— Неужели ты считаешь, что нормальная здравомыслящая женщина может всерьез относиться к современной «морали полов», как ты выразился? Ведь она – с мужским лицом.
— Женское предвзятое мнение.
— ?- немая реакция Мышки была еще выразительнее вербальной. «Возьмем обычный пример, — спокойно произнесла она. – За свою жизнь среднестатистический мужчина соблазняет множество женщин. Охотник, он применяет для достижения своей цели все средства, и самым распространенным является обман, точнее, огромный диапазон различных отработанных форм мужского обмана. Для романтически настроенной юной девушки этот герой кажется единственным на всю жизнь. Возможно, так бы могло быть, будь он героем. Но он только обманщик, который использует ее доверие. При традиционном исходе (то есть, соблазнении), этот мужчина общественным мнением объявляется «настоящим» и даже «молодцом», а женщина в народном просторечии – одним определенным известным термином. И это при том, что реальная ситуация прямо противоположна: молодая женщина в этом случае переживает глубокую личную драму, а мужчина над ней смеется или празднует очередную победу, сообщая подробности друзьям. Этот сценарий затерт до дыр, но он не отмирает. Более того, он живуч, он процветает, при всей своей древней тысячелетней истории! И вы хотите, чтобы я к такой морали относилась всерьез? На самом деле она лоббирует исключительно мужские интересы, а в целом насквозь аморальна. Но самое парадоксальное заключается в том, что подобная «мораль» при всей своей очевидной нелепости поддерживается большинством женщин! Здесь следует признать, что мужчинам в течение огромного отрезка времени существования такого вот «морального закона» удалось главное: сформировать в женщине сознание рабыни. Но все меняется. Уже меняется».
Именно с подачи Мышки я впервые услышала о «фаллоцентризме» или, точнее, «фаллологоцентризме», который Мышка интерпретировала без тени манерности или ханжества: «Благодаря ему мужчинам кажется, что они могут иметь не только всех, но и все. Именно поэтому они пребывают в иллюзии, что мир все еще принадлежит им». Мы вместе, без малейшего нажима друг на друга, оказались единомышленниками в глубинном восприятии мужчины и женщины, когда сошлись на том, что мужчины – это взрослые дети женщин, что женщина видит сквозь времена, события и пространства, а мужчина видит и верит только в то, что очевидно, что является глазу. Мужчины – упрямые дети, ведомые женщинами, которые утверждают обратное. Взрослая женщина с ними не спорит, она лишь снисходительно улыбается. Когда мужчина вступает в мертвую плоскую пустыню рационального познания и умирает от жажды, женщина насылает на него спасительный дождь. В подтверждение Мышка вырвала из меня признание, что первый импульс влюбленности у меня возникает только тогда, когда я почувствую в мужчине ребенка и однажды пожалею его.
После Мышки заставили высказаться меня. Настаивали в основном мужчины, рассчитывая, очевидно, на кавказский традиционализм и патриархальность.
Моя манера явно уступала Мышкиной безапелляционности: «Что больше всего стимулирует человека держаться на плаву в самой критической ситуации? – спросила я для начала почтенную публику, — скажу по собственному опыту, который мне представляется типичным: что – то, вероятно, чувство собственного достоинства, не позволяет себя ощущать, а значит, становиться жертвой разных обстоятельств. По — моему, вся развернутая картина женской социализации идет от этого импульса. Врожденная любознательность и живость ума обеспечили женщине формально равное положение с мужчинами. Реального равенства нет. До него очень далеко. Еще существует целая система объективных условий дискриминации. Но еще больше, несравненно больше внешнего фактора женщины действительно носят в себе рабское сознание, подкрепленное целой системой общественных ценностей и морали. Все вместе не дает женщине почувствовать себя свободной». Мужское крыло казалось разочарованным. Мы проговорили тогда почти всю ночь, и наутро испытывали некоторое чувство неловкости от созерцания вывернутых наизнанку душ, ослепляющих запретной наготой.
По легкому оживлению женщин я спиной почувствовала Жору, (будто призванного проиллюстрировать типаж мужчины, который так ловко обрисовала Мышка!)- небрежного, изысканного, с ленивой грацией: море обаяния и безответственности. Шелковистая шевелюра, кожа с редким золотистым оттенком, будто её круглый год покрывал бархатный загар Средиземноморских и Карибских пляжей. Нахальные глаза цвета спелых каштанов на удлиненном породистом лице. Он был «бандеровец», с Западной Украины. Каких только многозначных эпитетов не было послано в его адрес! Но все проклятия не доходили до всевышнего, и наш Казанова вновь и вновь поглощал свои жертвы с непринужденной бездумностью волны, омывающей прибрежный песок. Если вдуматься, все обвинения в его адрес были беспочвенны: он и пальцем не шевелил, как наживка оказывалась проглоченной целиком и добровольно. Или так: он только ходил под деревьями, а плоды сами падали в его раскрытую корзину. Похоже, Жора был создан срывать необозримое многообразие женских ароматов: от первых острых, свежих, до последних пряных, волнующих; он собирал нектар с женского разноцветья, легко порхая с цветка на цветок, без труда пробирался в целомудренные бутоны и купался в обильной пыльце широко распахнутых чашечек, щедро раскрывавших ему свою сокровенную сердцевину. Был ли он медоносом или только мотыльком – трудно сказать. При первых ощутимых флюидных вибрациях в мою сторону, во мне безотчетно сработал инстинкт самосохранения, — я сразу (хоть и не без известного усилия) установила безопасную дистанцию. «Куда вы, ослепительная?» — взывал он ко мне при встрече парализующим низким баритоном. Иногда я казалась ему восхитительной, что, впрочем, принципиально ситуации не меняло. Это обстоятельство повергло его в веселое замешательство и, кажется, позабавило. Разбуженный ленивый азарт походил на каприз. Однажды, заглянув в нашу комнату и обнаружив мое одиночество, он сослался на жару и медленно расстегнул рубашку, явив моему взору молодую рельефную грудь песочного цвета, живописно поросшую темно-золотистыми короткими
волосками, тоном темнее волос на голове. Все было проделано с таким изяществом, что моя отяжелевшая правая рука так и не поднялась для звонкой пощечины. «Не напоминает ли тебе этот рисунок силуэт кавказского орла?» Я сказала, что ценю его тактику. Он ответил, что его больше обрадовало, если бы я её разделяла, и добавил после небольшой паузы тоном дельфийского оракула: «Я уверен, что это произойдет очень скоро». Бедняжка, он и не знал, что последней фразой подписал себе окончательный приговор. Орел на его груди не прибавил ему информации о кавказской психологии.
С Жорой пришел Вадим, молчаливый, ироничный, с выразительными глазами и руками: умными, сильными, с длинными чуткими пальцами. Его уже сейчас признавали богом полостной хирургии.
Пришла девочка Ана. Она была югославка, жила в Венгрии, училась в Союзе, встречалась с поляком и носила японские контактные линзы. У нее была обезоруживающая манера все вещи называть своими именами, которая поначалу шокировала, но мы к ней привыкли, а вскоре оценили, насколько это удобно. Она недавно вышла замуж, и заявила нам об этом уже постфактум. В первую минуту мы растерялись, осознав свою неготовность достойно встретить это знаменательное событие, но находчивая (за чужой счет) Юля сообразила: «Сейчас в честь этого чудесного случая споет наша Дина!» Все захлопали и закричали: «Спой, спой!», а Юля молча придвинула стул к моим ногам. Я потребовала сырых яиц, как в том старинном добром фильме, но их не нашлось. Тогда я торжественно взошла на сцену, с двух сторон любезно поддерживаемая (ввиду ее особой шаткости), откашлялась, объявила: «Эпиталама из оперы А. Рубинштейна «Нерон»!», и отпустила на свободу все скрытые резервы своих неслабых голосовых связок:
Пою тебе, бог Гименей!
Тот, кто соединяет невесту с женихом!
Ты любовь благословляешь,
Ты любовь благословляешь!
Пою тебе, бог новобрачных!
Бог Гименей, бог Гименей!
У заглянувшей в дверь Люды округлились глаза: «Я думала, вы включили радио на полную катушку!»
Пришла Светочка Т., источавшая нежный, едва уловимый аромат полевых цветов. Сначала она казалась угловатым подростком, но скоро раскрывался её особый тонкий стиль, который меня завораживал. В ней не было ничего, что могло быть направлено вопреки: чьим – то словам, воле, даже невысказанным мыслям, логике сиюминутной, пустяковой ситуации. Она будто видела любой невидимый предел и легко обходила его, не потому что не могла его преодолеть, — просто не хотела ломать, так как всегда знала выход. Тому были свидетелями её широко расставленные глаза, меняющие свой оттенок от светло — серых до зеленых, и прелестный выразительный очерк губ, и многообразие мимики её чистого лица, особая чуткость тонких, теплых рук, трогательная и вместе с тем уверенная посадка головы с копной кудрявых каштановых волос, непринужденное изящество манер. Она никогда ничего не комментировала, только могла что-то ненавязчиво обронить с неподражаемой нежной улыбкой. Но чаще всего она — то и исчерпывала или объясняла проблему, только легко касаясь её, словно то был хрустальный бокал, и благодаря ей все объяснялось так просто и естественно. Вместе с тонким ароматом она оставляла ощущение недосказанности, незавершенности, недо… Может быть, именно поэтому я так искала её общества, тщетно пытаясь найти то, что наконец дало бы мне необходимую уверенность её безусловного расположения и симпатий. Света невольно будила мои мысли, но не направляла их. Я пыталась удержать её под разными предлогами, — когда могла, она оставалась, но я никогда не могла сказать, что она целиком со мной, — в ней обитал какой-то неуловимый дух,
который только свободно парил, а в руки не давался.
После оживленной трапезы начались танцы. Я осталась с Вадимом и заговорила с ним о его перспективах. Он отвечал односложно, как бы нехотя, и в конце концов признался, что не видит никакого выхода: «Я знаю, что при возможностях центра я мог бы вырасти. В этом я не чувствую предела. Меня оставляют хоть сейчас. Но нет никаких вариантов приобрести жилье. Куда я привезу семью? Что ж, вернусь домой. Тоже неплохо». Ему светила областная больница и тяжелая клиническая рутина: грыжи и аппендициты. Я вспомнила слова Жоры, что Вадим рожден для «высшего хирургического пилотажа», и мне стало грустно. Мы пошли танцевать, чтобы переключиться на более веселый лад.
После Вадима меня пригласил женоподобный юноша, исполненный лунной прелести, будто сошедший с портретов Караваджо. Во время танцев он весело сообщил, что «открыл» меня. «Я тебя тоже», — вежливо ответила я. Еще бы, ведь интерес ко мне обличал в нем мужчину. Он представлял совершенно особую прослойку мегаполисов – unisex, некий средний пол юнцов с безволосыми ликами, с плавной девической грацией обнимающих женский стан своих подруг (или друзей), и их узкобедрые плоскогрудые подруги, среди которых мой женский фенотип, начиная с полновесного третьего номера белья, кончая высоким сопрано, отмечали меня клеймом неактуальной древней расы, стереотип которой исчерпал себя и уплывал за ненадобностью в прошлое. Там же, в прошлом, оставался вульгарно первобытный тип Тарзана, страдающий передозировкой анаболиков, слезливо–сентиментальная Золушка, роковая красотка Кармен с провинциальным душком, кино-дивы с ярким янь и избыточной мышечной массой: Шварцнегер, Сталлоне и другие супермены. Бесполые, длинные, сине- джинсовые ноги унисекса, его стильные мальчишеские стрижки, усредненные манеры и стиль унисекса, без грубых претензий на тяжеловесную определенность пола…Словом, унисекс набирал мощь и из так называемого маргинального столичного феномена незаметно переместился на первый план, превратившись на моих глазах в некий унисексоцентризм, что пришел к власти с невозмутимой уверенностью избранника эволюции.
Незаметно для меня прибыл мой бывший пациент, молодой грек.
Впервые увидев его античную голову с короткими тугими завитками на трогательном затылке, в котором соединились вся сила и хрупкость andros, я мгновенно узнала её, – предмет моей подростковой ностальгической тоски,– ею были изрисованы все мои школьные тетрадки. Чудом заблудившийся в заснеженной Москве, он заработал очаговую пневмонию, но быстро оправился не без моего скромного участия. Невозмутимый, молчаливый, непосредственный, он обладал свободной грацией первых. Никогда не предварявший своих действий словами, С. поставил свою кассету (сертаки, разумеется), молча подошел ко мне и повел в танец. Мы двигались легко и удивительно согласованно. «Ты когда-нибудь уже танцевала это?» — спросил он.
-Не знаю, — ответила я. И это была правда: никогда раньше не танцуя сертаки, я теперь вспоминала его. Он не удивился странным ответом. Впрочем, он никогда ничему не удивлялся.
Тем временем я отдавалась происходящему, и оно проникало в меня с медлительным сладострастием: музыка, полная чарующего света и солнечных нездешних ритмов, постепенно заливала, наполняла знакомым щемящим чувством. Танцующие пары, объятые весенним таинством ночи, увлекали за собой, волновали. Кажется, сегодня в этой комнате сосредоточилось все мировое либидо, которое высекало искры из любых случайных прикосновений. Я все глубже погружалась в стихию музыки, движений, ночи, накатывающей волнами в приоткрытое окно и пузырящая тяжелую старую кисею занавесей, с томительными ночными запахами. Я острее ощущала тоску, безмерную, всепоглощающую, и вместе с острым наслаждением от переживания этого момента, росло бессилие до конца слиться с ним, преодолеть непроницаемую прозрачную стену, которая оставляла мне только роль зрителя. Я снова различала знакомый черный сосок воронки этой восхитительной, вечно юной, зыбкой поверхности жизни, которая засасывает болотом, в котором, не касаясь дна, все тонешь и тонешь.
***
Было около полуночи, когда я провозгласила без обиняков: «Мы пойдем купаться к пруду!» Кто-то уставился на меня с откровенным изумлением, но, предусмотрев подобную реакцию, я воззвала к духу здорового авантюризма. Ему соответствовали немногие, — человек семь. Мы вышли. Весна еще не проклюнулась и не обрела подобающие зрительные формы, лишь по ночам орали, как дети, мартовские коты, объятые любовным пламенем и отстаивающие права на свою территорию, но что-то томительное было разлито в воздухе, волнообразно набегало и теснило грудь. Март выдался сырой и теплый, но ночи были по — северному холодны и ветрены, однако овладевший нами веселый дух не давал замерзнуть. Наш громкий дробный смех взрывал пустое пространство широкого ночного проспекта и беспрепятственно катился вперед и назад. Незаметно приблизились и смутно забелели стены Новодевичьего монастыря, вскоре блеснул черный глянец пруда. Раньше здесь разводили карпов монахи, теперь плавали скромные серые утки. Сейчас они спали. Вадим полез на одинокий фонарный столб: он задумал укусить фонарь. Несмотря на то, что эту идею присутствующие не разделяли, он все-таки достиг цели, но его отчаянная целенаправленность в последний момент разом исчерпала себя, и он съехал. «Кто со мной?» — спросила я громко. Даже темнота не способна была скрыть испытывающего взгляда Светы: «Я думала, ты шутишь». — «Какие уж тут шутки: я в купальнике», — и стала раздеваться. В воду влез один Чары, но с воплем выскочил. Едва окунув руку в воду, мои коллеги один за другим отскакивали от пруда: каждый порыв энтузиазма оказывался погашенным ледяной водой. Со мной уже никто не спорил («бесполезно, клинический случай»). «Послушай, могут быть судороги. Ты хотя бы держись берега», — сказала Света тихо, но проникновенно. Я пообещала и зашла в воду. Меня пронзила острая боль в левой стопе: я наступила на острый камень или скорее осколок бутылки (позже пришлось её перевязать: сильно кровила. Благо, было кому). Сама не знаю, почему я назвала какой-то первый пришедший в голову предлог для вечеринки, не называя истинного. Тело онемело от студеной воды. Но мне это не мешало. Я ритмично плыла: вдох над водой, выдох в воду. Я уже не чувствовала боли. Я не чувствовала даже тела. Плыл один мой бесплотный дух. Требовалось купаться до зари, пока водоем не осквернит нечистое животное. Я купалась до зари в новогоднюю ночь 22 марта – по адыгскому календарю.
ГРИША
Уверенные общественные прогнозы не оправдались: я не заболела. Но это случилось вскоре после того, как на меня обрушился первый московский ливень, как холодный душ. Меня свалил не столько ревматизм, (который я сама себе поставила), сколько потрясающий приступ ипохондрии, один из тех, что случался со мной по весне, и я всерьез начинала испытывать весь невыразимый диапазон предсмертных мук. Но тут прилетел мой ангел-хранитель Гриша, увенчанный золотистым нимбом над лысеющей головой. Этот странный тип с крестьянскими руками и простецкими манерами обладал необозримым умом и редкой информированностью. Его типаж средневекового славянского крестьянина «от сохи» со светлой, не самой ухоженной бородой, сразу мерк и отходил на второй план, когда в силу входили глубокие смысловые поля. Он смотрел на меня насмешливо и спокойно из-под плюсовых линз, которые заметно увеличивали его голубые всевидящие глаза весельчака-философа. Например, узнав мою национальность, он вскричал: «Это же один из самых куртуазных народов мира! У адыгов, как у испанцев, на одну встречу 20 приветствий! А адыгское хабзэ похожа на кодекс самураев!» Это было неслыханно после таких уже классических определений как «кабардино – балкарцы», а то и «кабардино — болгары», и все в таком духе. Он вырвал у меня слезы умиления!
Он начал наше знакомство с того, что реализовал наконец мою давно лелеемую мечту обойти все объекты русского модерна (результат непреходящего влияния моего соседа Адика). Гриша оказался их истинным знатоком! Ни минуты не мешкая, от уверенно начал с особняка Морозовой на Спиридоновке. «Особняк работы Шехтеля», — сказал он и удивился, когда я заметила, что мне это известно. Затем он показал мне особняк Дерожинской в Штатном переулке, особняк Рябушинского на Малой Никитской с дивной лестницей в виде морской волны, и особняк Миндовского. Он указал мне на окна в виде раковины («типичная деталь модерна!») на фасаде скоропечатни в Трехпрудном переулке, фасад доходного дома на Арбате, и гостиницу Метрополь с мозаикой Врубеля – модерниста. (Все еще находясь под сильным впечатлением, я обежала за день Доходные дома Эйлерса и Лидваля, оказавшись вскоре на три дня в Ленинграде).
Мы вели с ним интеллектуальные разговоры до благоговейного изнеможения, переносясь в другие измерения и координаты, где благодарная душа истончается и сворачивается в теплый клубочек. Мы говорили об архетипах Юнга, (и у меня возникло дерзкое желание определить их в произведениях моих любимых авторов) и феноменологии Гуссерля, об осознанном озарении «бессознательным» Анри Бергсона, пытались выявить преимущества атеистического и теистического экзистенциализма. Для нас была близка идея Мартина Хайдеггера, что потаенная сущность проявляет себя видимыми знаками, понятными для посвященного глаза, и становится таким образом непотаенной, что она, эта сущность невыразима обычными словами, — только поэзией. Мы сходились на том, что сущность – это поэзия. Выяснилось, что мы оба дозрели и «выстрадали» понятие идеи «вечного возвращения», когда после опустошающего странствия во внешний мир возвращаешься к себе, — и только тогда становится прозрачным «Царство божие внутри нас». Мы с одинаковой тоской говорили о девственной нетронутости первичной эмпирии, которая, очевидно, все-таки существовала до Фомы Аквинского, и являлась залогом утраченной ныне цельности древних людей, когда еще материя не была отделена от духа, и они не были по отдельности препарированы.
Я могла ему рассказать о своих тайных полулегальных походах на лекции по модернизму в МГУ, не опасаясь быть неверно истолкованной, и пересказала услышанную мысль лектора, (что пролилась целительным бальзамом на мою душу, отравленной односторонней советской методологией), когда представитель экзистенциализма Ворингер на вопрос «помогает ли изображение энтропии в литературе снижению энтропии жизни», ответил «нет», и добавил: «Литература и искусство – это отдых измученного человечества», видение и изображение «бессмертных позитивных основ». Это – тяготение к чистым летящим формам. В архитектуре это — парящий готический стиль, (например, Кёльнский собор). Я могла поведать ему о том, как беззвучно рыдал сидящий впереди меня мужчина, когда исполняли одну из фуг Баха на вчерашнем концерте. Нет слов. Одни звуки, а он плачет. Как –то мы простояли пол — дня на выставку И. Глазунова, чтобы оказаться перед гигантским полотном с изображением толпы знаменитостей 20 века, начиная от Альберта Эйнштейна, кончая Голдой Мейер. Гриша мог пригласить меня в обеденный перерыв на документальный фильм «Образы старого мира» неведомого мне Душана Ханака, чтобы, кроме прочего, мы услышали одну простую мысль: «Человек – это духовная сущность, но сегодня об этом забыли».
Иногда, удовлетворяя свое любопытство, он заставлял меня задумываться и рассуждать на неожиданные темы, например, относительно моей собственной социализации. Он упредил мой неуверенный монолог заявлением, что женщины в целом счастливо избежали этого рабства (в смысле психологической зависимости), которое стало мужским ярмом. Я пыталась думать вслух. Под «социализацией» я понимала все большее усвоение некой роли, которая задавалась невидимой, но могущественной силой. И поскольку она навязывалась извне, а не шла изнутри, то не определяла и не проясняла моей сущности. Она задавала лишь внешние, механические рамки, и, согласно правилам этой «социо» — игры, определяла ценность моей личности настолько, насколько удачно я в них вписывалась. Вскоре я заметила, что существует определенный род чуждой мне породы людей, которые с готовностью принимают эти правила. Для них все было просто, и никогда не постижимую для меня дилемму «плохо-хорошо» они легко и уверенно решали в этой плоскости. Такие со временем становились солидными, респектабельными людьми, которые пользовались всеобщим уважением, особенно те из них, кто в этой игре достиг ювелирного мастерства. Именно они носили высокие эпитеты «умные», «деловые», «разумные», именно к ним относились с глубоким почтением. Они определяли любое общественное мнение и твердой рукой подписывали железный вердикт любой общественной репутации. «Твоя социализация, следовательно, была поэтапной?» — спросил меня Гриша с дотошностью психолога — профессионала. Я снова задумалась. «Если в юности, — сказала я, — она началась активно, то позже меня постиг обратный процесс, -«десоциализация», — наподобие роста насекомого, когда гусеница заключает себя в плотный кокон для невидимого внутреннего роста; в свое время летучее существо внутри кокона окончательно созревает, сбрасывает с себя ненужную уже броню и вылетает свободной бабочкой. Бабочка, — это стадия внутренней десоциализации при формальном соблюдении внешней».
Он мог глубоко и заинтересованно «копать» любую проблему, а потом её беспощадно высмеять, так что мне порой становилось обидно. Я сказала ему об этом. На это Гриша, весело поблескивая стеклами очков, рассказал мне историю, изложенную Бертраном Расселом: на одном птичьем дворе появился индюк. Каждое утро, в девять часов, выходила хозяйка и кормила его. Индюк вскоре решил, что это – закон вселенной, и начал строго и неукоснительно следить за ним. Закон никогда не нарушался, и индюк считал это собственной заслугой. Однажды в одно прекрасное утро хозяйка свернула индюку шею. «Мы можем думать и придумывать о своем предназначении во вселенной что нам угодно. Но возможно, больше всего мы нужны для поддержания азотного баланса Земли».
Он ознакомил меня со своим бессмертным опусом под названием «Эромахия», где беспощадно выворачивались наизнанку и тщательно анализировались все типы человеческих взаимоотношений, которым придавались исчерпывающие определения типа «наездник» и «верблюд» (или последнее принадлежало Ницше?) «Мы охотно съедаем блюдо, которое нам нравится, срываем цветок, которым мы восхитились. В любви — так же: мы «съедаем» и «срываем» тех, кого любим», — (цитата из его сочинения). Как бы там ни было, я до сих пор не понимаю, как его творение не стало отечественным бестселлером. (Много позже, уже дома, мне на глаза попалась центральная газета, где помещалась чудная фотография Гриши с его любимой кошкой). Я же была искренне очарована его книгой, и спросила, не пытался ли он писать что-нибудь в художественном жанре. «В такую авантюру можно пуститься, если быть вторым Киплингом, чтобы написать «Книгу джунглей» — 3. А если уж быть художником, то – Гойей, чтобы создать современный «Капричос», — добавил он. Впрочем, улыбнулся он, ему к счастью ни то, ни другое не угрожает. Я ему польстила, сказав, что он воплотил идею Оскара Уайльда, ибо сам стал произведением искусства.
Только Грише я могла выплеснуть всю ностальгическую накипь. Я рассказала, как, очутившись с Индирой в Лужниках, я внезапно застыла, когда из прокашлявшегося громкоговорителя вырвались неведомо откуда взявшиеся звуки строгой, целомудренной страсти – кафы, уорк-кафы, поплывшей над завороженной покорившейся громадой геометрического тела стадиона, и мои дурацкие несдерживаемые слезы… Рассказала, как однажды, в толчее вагона мой взгляд остановился на обычной, набившей оскомину картине: группа усталых женщин с тюками и баулами. Я ни минуты не сомневалась, что это — свои. В черном пространстве разверзающейся пустоты тоннеля, навстречу которой мы с грохотом неслись, они не проронили ни звука. Мы миновали мою и еще две последующие станции. И все — таки я не ошиблась: они заговорили по-кабардински. Поведала о своем соседе — соотечественнике, которого я «вычислила» подобным же образом.
-Когда-нибудь ты должна была отделиться от пуповины. Это последние приступы боли.
-Национальной пуповины?
-Да.
-И ты считаешь, это – неизбежно?
-Считаю. Хотя это не совсем про тебя.
-То есть?
-Я хочу только сказать, что ты — меньше всего представитель типичной национальной культуры. Ты — результат сплава культур, и даже знаю, каких: своей — адыгской, русской, европейской и отчасти восточной.
Но я не была застигнута врасплох, — лишь удивлялась его прозорливости, сразу определившей мое слабое место, предмет недавних мучительных исканий в непроходимом лабиринте с идиотской вывеской «Кто есть я?» Чем все-таки была эта моя застарелая отчужденность, которая нигде не давала чувствовать себя дома? В кабардинских аулах я была своей и одновременно не своей из-за слабого знания языка и еще чего-то неопределимого, но во мне еще оставалась большая часть меня, которая не умещалась в эти рамки.
Именно поэтому мне иногда казалось, что адыгство меня стесняет, чтобы я могла постоянно выносить это тесное фашэ, — оно было на размера 2-3 меньше нужного и трещало по швам, особенно в моменты, когда я начинала язычески «фонтанировать». В такие моменты мне не хватало вольной греческой тоги. Но очень скоро я начинала тосковать по своей исконной одежде, проникаясь презрением к примитивному разгулу чувств и страстей, и меня с новой силой влекло к неповторимому терпкому аромату адыгского духа, который никогда не блестит, — только мерцает.
В Москве я чувствовала себя как рыба в воде, но и здесь большая моя часть оказывалась невостребованной, и в дремотном состоянии составляла мою невольную тайну. Она же весьма интриговала Гришу, и он говорил: «Не становись, как все. Ты слишком другая». Я смеялась: «Именно поэтому мне это и не угрожает». В отличие от Москвы, моя «вненациональная» часть в рафинированно-адыгской среде вызывала скорее вежливое отчуждение. «Если ты и представляешь свою культуру, то в её периферийном, нетипичном проявлении,- продолжал умненький Гриша.- Надеюсь, это тебя не задевает?
— Не беспокойся за мои амбиции. Давай обратимся к более знакомому полю русской культуры. Скажи по совести, можешь ли ты её, не дрогнув, назвать сейчас русской?
-А разве я когда-то называл её русской? Особенно московскую?
-И все-таки, она — русская. Вот эта мешанина из массы культур, включая африканскую. Все это – новая русская культура в стадии ежеминутного формирования и становления.
Он смотрел на меня с любопытством и недоверием.
— Эта вавилонская мешанина осмысливается через русский язык. — Терпеливо продолжила я. — Она же, и это — самое главное, — оседает и укрепляется в сознании большинства, база которого – русская культурная основа.
-Что ж, принято.
-А теперь перенеси все вышесказанное на меня. Перед тобой лицо новой адыгской культуры. Пока еще маргинальной.
-Почему тебе не нравится мысль, что ты — вненациональный феномен?
— Потому что такого быть не может. Вненациональный, наднациональный, и больше всего — пресловутый интернациональный — абстракции, которые себя не оправдали. Это такой же абсурд, как вырастить дерево без корней. Зато национальное — не абстракция. Это то, что я ощущаю, как себя. Больше, сильнее себя.
Если раньше американцы говорили об Америке, как об огромном плавильном котле, то сейчас говорят о миске салата, где каждый ингредиент имеет свой неповторимый вкус. Они страшно рады обнаружить каких-нибудь индейских или ирландских предков. Мне это понятно: это – тоска по утерянным корням. И это – не только культура. Это – поток жизни, как-то особенно, особенно ощущаемый. Как-то особенно окрашенный. Например, то, что понятно без слов только мне и моим соотечественникам. Это и есть та стихия, которая называется «моя национальность», о которой теперь все бояться или стесняются говорить. Говорить на эту скользкую тему стало дурным тоном. Я это понимаю: проблему легче замалчивать и даже скрывать, чтобы она не вышла из-под контроля, как джин из лампы Алладина».
Внезапно я почему-то смутилась и остановилась в нерешительности. Но Гриша нетерпеливо махнул рукой: «Продолжай!», и я продолжила после некоторых колебаний:
— С некоторых пор я пришла к выводу, что мой затянувшийся национальный кризис носит не личный характер, как я думала раньше, а является отражением общеадыгского, объективно существующего. Младенец в матери видит себя. Видя склонившееся над ним лицо, он думает, что это он и есть, что это — его лицо. Ты же помнишь первый кризис в психологии, когда ребенок впервые видит свое отражение в зеркале. Он не может понять и принять, что он — другой, он — не мать. У черкесов существует древнее табу: не показывать ребенку зеркала. Они фальсифицируют причину, объясняя это тем, что у ребенка долго не вырастут зубы. Дело на самом деле в другом: это грозит преждевременным кризисом первичной идентификации, болезненным отъединением от матери. Так что все просто: нам дали заглянуть в зеркало раньше срока.
-И все-таки для меня, кроме прочих, существуют две самые великие нации, — сказал Гриша с улыбкой. – Сверхнации. У них свой язык, свои законы, образ мыслей, свои ценности, облачения и своя особая повадка, как клеймо или метка, по которой «свой» безошибочно опознаваем. Одна – оплот материального и мирского. Это – мировая финансовая олигархия, у которой весь мир сидит в кармане, что бы мы себе не воображали и какие бы законы не выдумывали. Другая – оплот духовного. Благодаря ей должны сохраниться и расцвести населяющие землю народы. Со временем они могут напоминать цветущий луг с множеством самых разнообразных цветов, каждый – со своим ароматом. Я позволяю себе мысленно такие утопии. Хочется думать, что духовная олигархия когда — то будет так же действенна, как сейчас – финансовая».
Иногда мы дурачились и изощрялись.
-Сейчас я выясню твою истинную сущность через перекрестный допрос…Ты – правильная кабардинка с кондовым этноцентризмом.
-Да.
-Ты – конченный космополит, у которого далеко позади остался узколобый этноцентризм.
-Да.
-Ты — представитель своего этноса.
-Да.
-Ты ощущаешь себя представителем любого другого этноса.
-Да.
-Любой другой культуры.
-Да.
Мы весело отстегивали нескончаемые капустные листья на таинственном феномене гигантской капусты под названием «самоидентификация», но вскоре оставляли ее пресловутую национальную часть:
-Ты ощущаешь себя Вселенной.
-Еще как!
-И пронырой – атомом.
-Им тоже.
-В тебе живет вечная девственница.
-Да.
-А вместе с ней настоящая гетера или гейша.
-Да.
-Ты ощущаешь себя матерью каждого ближнего, даже собственного начальника.
Я рассмеялась, весело кивая.
-Теперь ты же – про себя.
-Мне близки зооморфные обличья. Я – волчица, которая вскормила Ромула и Рема.
-Круто и очень скромно.
-Я – страшная скромница.
-Да ну?
-Одновременно я – чудовищно полигамный мужчина, который хочет каждую женщину, даже из тех, что еще не видел.
-Это внушает большие надежды.
— Не опошляй! Это — художественная абстракция.
-Все равно приятно.
-Я ощущаю себя каждым живым существом и каждым неорганическим предметом.
Гриша недоверчиво покосился.
-Это не головное чувство. Я ощущаю это где –то в животе.
-Тогда это действительно правда, — сказал Гриша. — И это все ты?
-И ты тоже.
Когда мы обрывали последний лист с нашей капусты, то натыкались на абсолютную пустоту.
-Ну, а это как называется? – спрашивала я.
— Экзистенциалисты называли это экзистенцией, а Юнг – самостью. На самом же деле все это — только различные дискурсы, которые лишь выглядят убедительными, на самом же деле они призваны прикрывать наше бессилие в определении вечно ускользающей сущности. Особенно нашего самого нижнего «я», грунта, с которого смыты все несметные наносные слои идентификации.
— Твое собственное ядро, которое дальше не разлагается.
-Это – просто пустота. Это не ничто, пустота – это безмолвие, которое не хочет быть названо, не может быть никак названо.
— Твое настоящее я – это пустота в середине капусты. То — то я все детство считала, что меня в ней нашли.
Мы стояли на автобусной остановке, возле рекламной тумбы. Мне бросилось в глаза: «..Впервые дебютирует группа ЗУБЫ!», «Купим очень дорого — ВОЛОСЫ!» Возле тумбы, почти у её основания тяжелый, серый мартовский снег подтаял очень странно, неоднородно, образовав рельефную проталину, похожую на слово. Я стала под нужным углом и прочла COMMUNIS. «Боже мой! — сказала я Грише. – Посмотри, у нас даже снег тает лозунгами!» Но пока Гриша искал глазами странную надпись на снегу, она превратилась в обычную проталинку с неровными краями. Уже дома, в результате запоздалого брожения остаточных знаний латинского, меня неожиданно осенила мысль, когда я вспомнила истинное значение COMMUNIS: объединение.
ГЕРА
Вечером, когда я готовила ужин, пришел Гера, — в дверном проеме, опережая его, появился огромный букет сирени. Наша странная дружба началась с того времени, когда я вела так называемые суицидные палаты – мужскую и женскую. Больные поступали обычно из реанимации, чаще всего после отравления медикаментами, а затем, как правило, переправлялись в психиатрию.
В одной палате с Герой лечился юноша, который выпил уксус после скандала с бабушкой, и величественный красавец, который целыми днями молчал, уставившись в одну точку. В женской палате одновременно с Герой лечилась совсем молоденькая женщина. В начале беременности у нее обнаружился врожденный порок сердца. Вскоре муж и свекровь дали ей понять, что для супружества она не пригодна. На следующий день она выпила две пачки транквилизаторов. Я покупала ей продукты, — к ней никто не приходил. Койку напротив занимала холеная яркая брюнетка. Насколько я могла понять из её объяснений, она устала болеть язвенной болезнью. Её регулярно проведывал муж с маленьким мальчиком и больная мать. Ближе к двери пожилая женщина – врач, которая поступила с тяжелым отравлением. Вскоре после смерти второго мужа у нее обнаружили лимфогранулематоз. Своих детей она не имела. Двое пасынков, которые были ей очень дороги, разъехались, и связь с ними была утрачена. Впоследствии, вскоре после выписки она оформила завещание на обоих сыновей мужа, устроила шикарный банкет своим друзьям, а наутро отравилась цианистым калием. Где она его достала, никому не было известно, — этим занялся следователь.
Сам Гера, Герман, попал в больницу после вен. диспансера. Его заразила невеста. Вскоре туда же попал её отец, которого, как оказалось, заразила она же. Все это я узнала от его брата — наркомана. Отравление было нетяжелым, и Гера вскоре выписался, хотя оставался апатичным и подавленным. Наше знакомство не прервалось. Он звонил мне на работу, приходил вечерами домой. Я заметила в нем перемены, — теперь это был открытый, разговорчивый человек. Довольно скоро я поняла причину: он приходил выпившим. На мои робкие замечания Гера отвечал: «это лучшее, что я могу для себя и вас сделать». Когда, случалось, он приходил абсолютно трезвым, — все сбивалось на банальный визит вежливости. Я заметила, что он в своем отношении ко мне достиг той грани, за которой было возможно либо полное отчуждение, либо попытка более тесного сближения. Мне приходилось прилагать немало скрытых усилий, чтобы сохранить status quo. Оттолкнуть его — значило бы навредить неокрепшей еще психике. На этот раз он тоже был под воздействием спиртного, — очевидно, только так он достигал необходимой степени раскованности и откровения. Гера сел за освещенной настольной лампой стол единственной комнаты. В нем чувствовалось возбуждение, и тем больше бросалась в глаза болезненная бледность, опавшие плечи, узкая грудь, нервные тонкие кисти рук. «Продал я дачу, поздравьте, — сказал он, как-то злорадно улыбаясь. «Я ничего не знала про вашу дачу», — заметила я, расставляя чайные приборы. Он отказался есть. «Ну как же? Она долго была целью, а затем гордостью нашей семьи. Как свободная минута выдастся – на дачу. Как выходной – на дачу. Строить, копить, приобретать! Чем же мы хуже других? Отец был из бедной семьи. Впечатления тяжелого детства одолевали его всю жизнь. Ночи не спал, все хотел что-то доказать. До начальника дослужился. И в семье начальником был. Мать его ненавидела, но слушала. Правда, как что – истерика. А что ей было не слушать? Ничего своего в ней не было. Она, как флюгер, от ветра зависела. Все правде нас учили, порядочности. За вранье били. Поначалу-то мы свято верили в их правду, а потом было уже как-то все равно. После школы родители стали кричать: надо добиваться! Чего? Ради чего? Они и сами толком не знали. Просто надо. Но не нам. Как только мы с братом стали осознанно оглядываться вокруг, нам этого ничего уже не было надо. Надо было родителям. А спроси их, они бы ответили: во-первых, всю жизнь на вас положили. Вот извольте за это «выйти в люди», то есть занять посты, чтобы они потом всем могли сказать: мой сын работает там-то и имеет столь-то».
Он вернулся к столу и сделал несколько глотков остывшего чаю. «Личной жизни мы не имели: дача была нашей личной жизнью. Культурный досуг — также дача. Мастеров отец не нанимал, экономил. Опять же трудовое воспитание детям — лодырям. Сплошная мука: найти-выбить, доставить-использовать. Отгрохали, наконец, двухэтажную, с колоннами. Спустя полгода папаша помер,- надорвался на даче да любовницах молодых. Я еще через год мамаша преставилась. Перед смертью сказала, что оставляет нам круглое состояньице, составленное из папашиных взяток. Так и осталась стоять наша красавица двухэтажная, никому не нужная. А кому она нужна? Я её еще во время строительства возненавидел. А братцу, тому уже вообще ничего не надо. Он все папашины взятки «банкирам» отдал, на наркотики. А как деньги закончились, мы о ней и вспомнили. Только что же с ней стало! Более жалкого зрелища я никогда не видел. Пришлось продать за бесценок».
Я сидела за столом, напротив Геры. Лицо, освещенное светом, было бескровно, но темные глаза жили независимой жизнью, оживляли его. «А как вы сейчас, Гера?», — спросила я, пытаясь отвлечь его от темы.
-Вас интересует, как проходит день советского инженера? Извольте, я расскажу. Я встаю, полусонный шарю по комнате, глотаю чай с бутербродом. Бросаюсь к автобусу, где меня со всех сторон сплющивают, матерят. Автобусная стихия выносит меня к метро. Нужно поспеть к восьми, поэтому 7 часов — час пик для трудяг, эти в основном заводские и фабричные, — производственники. До девяти еще далеко — это час пик служителей науки и искусств, им на работу – к десяти.
Меня заглатывает метро, — шикарная преисподняя. Я наблюдаю бесчисленную движущуюся массу людей, которая растекается вокруг по велению разных указателей. Иногда это громадное людское скопление людей приводит меня в ужас, мое чувство собственной значимости полностью уничтожается. Правда, к такой обезличенности постепенно привыкаешь, но до конца с ней не смиряешься. Потом я с грохотом несусь сквозь свет-мрак, свет-мрак. В стеклах вагонов отражаются с утра безрадостные уставшие лики попутчиков. Преломляются, тонут немые, нераспознанные мысли, надежды, привязанности, мечты. На миг мы выброшены на поверхность: пролетают мимо клочки зелени, серые зигзаги дорог с игрушечными машинами, строгие прямоугольники домов, и в части окон утреннее солнце уже зажглось багровым пожаром. Секунда – и нас вновь оглушает мерный гул туннеля. В голове остаются выхваченные фрагменты жизни, как смазанные кадры ленты, как фотоснимки. Снова обманчивое ощущение беспредельности, невообразимости этого рвущегося вперед движения, ощущение гигантской мощи неведомых механизмов. Яркие вспышки сливаются в сплошную огненную линию перед станциями, и бесстрастный голос из репродуктора прорезает внезапную тишину остановок. Лихорадочная минутная толчея, — и мы опять мчимся в разорванном пространстве по грохочущему туннелю, схваченные со всех сторон плотным кольцом тел. И так вот – изо дня в день, из года в год, — все мимо, мимо. Жизнь, годы, времена – все мимо.
Вскоре я у цели, и за мной захлопываются ворота, которые напоминали упавшую с неба гильотину. Надо выдержать восемь часов – ни минутой раньше, ни минутой позже. Если я выполняю весь объем работы за три часа, то мне нужно куда-то деть остальные пять. Пять часов томления по воле. Вырваться я и не пытаюсь: гильотина и те, что охраняют её, никого не выпускают. Я регулярно расписываюсь в журнале прихода и ухода. Я напоминаю себе муху, схваченную паутиной. Творческий запал, дерзкие планы, свежесть, энергия, — все это давно рассеялось, еще в первые годы, растворилось в этом беспощадном, мертвящем часовом ритме».
Тут он замолчал, встал — и неожиданно в изменившемся освещении черты его лица утратили гармонию, рассыпались, глаза потухли, — он показался отталкивающим, неживым. Абстрактный выхолощенный силуэт, живой мертвец. Внезапно он ритмично замахал рукой перед своим лицом, упершись бессмысленным взглядом в ладонь.
-Смотрите, у меня почему-то две руки, две ноги, голова. Зачем так много? Ведь для иных достаточно только ноги, только руки или только головы, для большинства – одного туловища. Но как же мне быть, если я хочу, чтобы работали все мои члены, весь я?.. Странное желание, не так ли? — он криво усмехнулся и сел на место. – Когда я, наконец, дома, — продолжил он, откинувшись на спинку стула, — посреди своих четырех стен, — я включаю радио или телевизор. Ничего другого я не хочу. Иногда кажется, что я таким образом заполняю пустоту внутри себя. Стоит нажать на кнопку – и на меня обрушиваются потоки всевозможных шумов: музыки, слов, главное – слов. Слова обретают независимое существование. Они лезут изо всех щелей, стаями срываются с потолка, загромождают воздух. Ночами мне снятся омерзительные жирные гусеницы. Сотни, тысячи этих тварей ползают по мне, и я знаю, что это – слова.
Гера взглянул на меня, и снова его лицо изменилось, ожило.
-Свалился на вашу голову, а у вас и без меня проблем хватает. Выслушивать чье-то нытье. Я бы молчал и работал, как надо, но ни сил, ни желания.
-Мне знакомо все, что вы говорите.
Он благодарно посмотрел на меня, смутился.
-Не подумайте, что я принадлежу к Базаровым. Я даже склонен надеяться на «прекрасное коммунистическое далеко». Но я устал. Я хочу просто жить. Я не хочу светлых идей, не хочу высших сфер и интеллектуальных заоблачных полетов. Я с презрением и ленивой завистью взираю на кипучую энергию, честолюбивый запал, жадный поиск – все эти суетные и привлекательные производные первозданной незамутненной полноты жизни. Они меня отталкивают и вызывают тоскливое чувство. Я же хочу пользоваться только той гаммой физиологических ощущений, которая мне причитается по закону природы: я хочу дышать воздухом полей и лесов, а не выхлопами транспорта и человеческими испарениями, хочу видеть яркие свежие краски, а не размытые серые.
Однажды я подумал, что здесь, в городе, мы порой годами не ступаем по обычной земле, — не по городской грязи и пыли и даже не по земле газонов в городском сквере, а по настоящей земле. Мы ходим по камням, асфальту, живем среди стекла, бетона, кирпича, железа, пластмассы. И так – годами, десятилетиями, и так складываются у нас каменные, стеклянные, железные и пластмассовые понятия и такие же ценности.
Я порой физически ощущаю, как высасывает из меня соки эта синтетическая гигантская машина, которую мы же и запустили, без которой уже не можем обойтись. Как любим, как дорожим и гордимся своим железобетонным муравейником! Мелькаем, снуем, сталкиваемся, разбегаемся и пытаемся во всем этом найти смысл жизни.
Господи, как я бываю счастлив в лесу, подальше от своего каменного «дома». Я просто дышу, просто иду, просто валяюсь в траве — и счастлив. Подумать только, без смысла жизни – и счастлив!
-Но вы могли бы жить у себя на даче! – воскликнула я. – Чем не природа!
-Вы шутите! Ежедневно участвовать в этом великом дачном исходе? Забитые пригородные электрички, потные тела, узлы, баулы, ругань, смрад и давка. И такое – дважды в день, утром и вечером. Особенно в субботу утром и в воскресенье вечером. Не ездить в город можно только месяц в году – в заслуженный отпуск. И ради чего? Маевки, пьянь всякая, горланящая на весь лес; мусор, битые бутылки и битые морды! Нет уж, увольте! Лучше тихо гнить в городе.
Вспомните, как давно вы видели небо, нет, не эти мутные клочки в колодцах между домами, когда оказываешься без зонта и смотришь вверх: не надвигается ли дождь, а густой, незамутненный простор над головой, в котором паришь и растворяешься, когда долго смотришь в него, лежа на теплой летней траве. Когда в последний раз вы испытали это чувство глубокого покоя и освобождения, будто причастились, это ощущение возрастающей свежей силы и тайной сопричастности, — где оно, когда было испытано и возникало ли вообще?
И вот когда во мне поднимается эта незаглушаемая животная тоска по настоящей жизни, по простым чувствам и свободным их проявлениям, по живым краскам, по радостной полнокровной пластике движений, раскрепощенным совершенным формам, по ощущению естественной красоты человеческого тела, — не на сцене, не в спорткомплексе, а на фоне свежей сверкающей природы, я иду… на индийские фильмы. Я по-настоящему люблю эти банальные восхитительные мелодрамы: только они хоть отчасти восполняют то, что мною утрачено, может быть, навсегда.
Это был наш последний разговор с Герой. Прошел месяц и другой. Обеспокоенная, я позвонила брату, и он сказал, что Гера исчез. Кто-то из знакомых видел его входящим в метро, кажется, на станции «Площадь Ногина».
Все, кто был задействован в поисках Германа, сошлись на необъяснимом факте: человек вошел в подземку и не вышел.
БРАТ
В квартире было тихо. Зайдя в комнату, я вздрогнула от неожиданности: за столом сидел брат, склонившись над шахматной доской. Похоже, именно в этот момент он констатировал клиническую смерть белого ферзя. «Ты так тихо сидишь в одиночестве»,- сказала я. – «Почему же в одиночестве? Я сижу с умным достойным соперником», — скромно возразил брат. Кажется, он воплощал свою мечту когда – нибудь научиться играть, как Ласкер, на нескольких досках.
Мой брат приехал годом позже, и мы сняли квартиру. Таким образом, кроме времени, у меня оказался урезанным досуг. С утра мне приходилось изощряться в гастрономических изысках, так как он не ел мясо гусиное, утиное, баранье, и т. д., а когда в доме случайно оказывалась рыба, то просто уходил. Если потомственные мусульмане его типа не употребляли в пищу только свинину, то он употреблял только свежую курицу (точнее, ее ножку), и говядину, приготовленную в форме каких – нибудь бефстроганов.
Самое непонятное, однако, заключалось в том, что с его приездом мне изменила привычка совершать культурные вылазки одной. Я не узнавала себя: униженно искала его общества, несмотря на стойкое сопротивление. Возможно, срабатывали всесильные стереотипы детства и отрочества. Мы были уже в старших классах, когда мамина культурная программа коснулась достопримечательностей Ленинграда, куда мы и были немедленно доставлены в начале летних каникул, прямо угодив на белые ночи, от которых я, к ужасу почтенной маминой приятельницы Зинаиды Исааковны, требовала закрывать окна плотными покрывалами. Нас отпустили одних смотреть Исаакиевский, и брат, никогда не бывая в нем, без расспросов точно знал, в какую сторону идти, на какой номер автобуса садиться, сколько остановок ехать и на которой выходить. ( Мой случай был емко обозначен им как «топографический кретинизм»). Это обстоятельство ставило меня в стойкую зависимость от него и его шуточек, которые я вынуждена была терпеть, чтобы он не бросил меня одну среди большого незнакомого города.
Теперь же, в Москве, я попросила его пойти со мной в Большой театр.
-Зачем?
Я красноречиво проигнорировала вопрос. «Постановку можно видеть по телевизору, — резонно заметил он. — Мимо фасада я проезжал не однажды, да и интерьер видел сто раз в иллюстрациях». Я пообещала забрать его брюки из химчистки. В его внутренней борьбе произошел очевидный сдвиг. Вскоре он сдался. Я пока разумно умалчивала о спектакле: это была опера «Мертвые души». Прежде чем выйти, он умудрился поставить еще ряд условий. Одно из них: выбрать туалет, который исключал яркие тона и брюки («для них у тебя слишком восточная фигура»). Он страдал болезненным пристрастием к хорошим манерам, как английский сноб. Я, конечно, рядом с ним была недостаточно изыскана: любила красный цвет и слишком громко смеялась. (Зато сам он «спал в галстуке», согласно не моему определению). Самое печальное заключалось в том, что его эстетство и жесткие рамки, в которые мало что умещалось, были настоящими. Чего стоила, например, его идиосинкразия на самое невинное, слабое проявление любой вульгарности, когда он начинал медленно зеленеть, и пристрастие к переходным пастельным тонам, которые исключали яркие и сочные, в том числе, в моем гардеробе. Его причудливо трансформированные старо-кабардинские манеры, напоминающие теперь больше старо-европейские, необычно сочетались с американскими, в частности, в привычке приветствия. Когда его спрашивали «как дела», он неизменно отвечал: «очень хорошо», что было равносильно американскому «О-кей», причем акцент в ответе в сторону «очень» смещался по мере увязания в собственных неприятностях и проблемах.
Ему нравились лунные женщины, точнее, немногие из них. Этот тип я хорошо знала: он вырастал из круглых отличниц, которые всегда ходили, скромно потупив глазки, в стерильных беленьких носочках или колготках, старательно и брезгливо обходили каждую лужицу. Понятно, что для лунных женщин я была слишком солнечна.
В театре он выглядел, как обычно, невозмутимо и меланхолично, будто не существовало царственной роскоши и атмосферы предчувствия чуда, в которой ощущались всплески вековых феерий. Но я знала, что он видит и запоминает абсолютно все, вплоть до мелких деталей, вбирает самой кожей, и это – навсегда, ибо господь забыл наделить его счастливой способностью забывать.
С детства он докучал мне негуманными вопросами типа «приток Конго?» Я прокладывала тропу сквозь девственные джунгли собственного невежества, повинуясь исключительно звуковой ассоциации: «Меконг». Веселый смех брата был венцом бесчувствия. Если я еще с периода своего розового детства открывала для себя материки, страны и континенты преимущественно из художественной литературы, то мой брат — из географических атласов. Он изучал их сутками. Иногда мне милостиво позволялось присутствовать при этих таинствах мирового постижения. Мир, сперва показываемый, как плотный шар, туго обтянутый сеткой долгот и широт, развертывался плоско, разрезался на две половины и затем подавался по частям. Когда он развертывался, какая — нибудь Гренландия, бывшая сначала небольшим придатком, простым аппендиксом, внезапно разбухала почти до размеров ближайшего материка. На полюсах были белые проплешины. Ровной лазурью простирались океаны. Брат мне показывал все очертания, которые любил с детства, — Балтийское море, похожее на коленопреклоненную женщину, ботфорту Италии, каплю Цейлона, упавшую с носа Индии. Он считал, что экватору не везет, — все больше идет по морю, правда, перерезает два континента, но не поладил с Азией, подтянувшейся вверх: слишком нажал и раздавил то, что ему перепало, — кой – какие кончики, неаккуратные острова. Он знал самую высокую гору и самое маленькое государство и, глядя на взаимное расположение Америк, находил в их позе что – то акробатическое. Он мог долго искать возможность пройти из Северного моря в Средиземное по лабиринтам рек или проследить какой – нибудь разумный узор в распределении горных цепей.
Он помнил названия всех мировых столиц, крупных городов, рек, гор, морей, океанов, и т.д. и т. п., бесчисленные фрагменты нашего детства, которых не помнила я, имена всех моих поклонников с седьмого класса по сей день, исторические даты, начиная с каменного века, авторов всех книг, (в том числе и тех, что перепадали ему после меня), которые он заглатывал в фантастических количествах и невероятной скоростью, и при этом лишь с минимальной долей ошибки мог воспроизвести содержание каждой страницы.
Я никогда не видела его сидящим за учебниками более 15 минут, он скорее листал их между куплетами мерзких блатных песенок. Братец мой являлся автором идеи нашего долгосрочного школьного сотрудничества, когда я писала ему домашние сочинения, а он шутя решал за меня математические задачи, которые для меня никогда не были до конца ясны. Прирожденный левша, он тщательно и мучительно переписывал мои тексты немыслимым почерком неловкой правой руки, в котором невозможно было различить разницы даже между «ш» и «о». Позже, после школы, я помню отнюдь не зловещие анатомички, где мы сами до костей пропитывались парами формальдегида, пока с прописным усердием школяров дотошно исследовали видавший виды череп бедного Йорика с заботливо прикрученной нижней челюстью, отполированный тысячами рук наших предшественников. Утопая в холодном океане латинской терминологии, мы хватались за тонкую соломинку дурацких, но спасительных стишков:
Как на lamina cribrosa
Поселился crista gali,
Впереди foramen cecum,
Сзади – os sphenoidale.
Тем временем он развлекал зубрящие компании, а в перерывах напевал под нос знакомые мотивчики пока еще только скандально знаменитого Высоцкого, не прибегая при этом даже к формальным учебным усилиям, (например, просто открыть учебник). Он будил смутный диапазон мистических чувств, когда первым заходил на экзамен и сыпал латынью, избегая примитивных ловушек озадаченных преподавателей. Его сокурсницам невозможно было осознать факт, что ему оказывалось достаточно семинарских занятий и обрывочной информации, услышанной краем уха от зубрежки разрозненных студенческих групп.
Теперь он также легко усваивал медицинские талмуды, для которых в норме должны были бы понадобиться месяцы, а то и годы, и устраивал мне домашние консилиумы, когда я подкидывала ему головоломки сомнительных клинических случаев, и он без видимого труда выводил меня из общественного клинического тупика.
Вполне объяснимо, что при таком профессиональном рейтинге я вынуждена была обращаться к нему при расстройствах собственного здоровья. Внимательно выслушивая меня, он скорбно констатировал, что, вероятнее всего, это начало моего конца. Подобные неутешительные прогнозы были самыми частыми в скудной коллекции его ответов. Иногда, правда, он разнообразил их, заключая после глубокомысленной паузы, что это – неизбежный результат преклонного возраста («прелюдия к синильной деменции»), или родильная горячка, (очевидно, та самая, которая единственная миновала персонажей Джерома К. Джерома). Помещая меня таким образом в игровое интертекстуальное поле мировой литературы, он тем самым лишал мою нозологию всякого основания. Я теряла терпение и вообще не лечилась, в результате чего неизменно выздоравливала. Однако откровенное пренебрежение к моим страданиям почему — то не умеряло степени доверия к нему; в результате этот сценарий обрел сезонное весеннее – осеннее постоянство и совпадал с периодами, когда на меня нападали приступы ипохондрии.
Однако он проявлял неловкую молчаливую заботу, когда меня сваливал с ног очередной приступ тяжелой мигрени. Брат носил мне воду, чтобы я запивала таблетки цитрамона или пенталгина, которые я глотала пачками, выключал телевизор и радио, плотно занавешивал окна, пресекая доступ ядовитому солнечному свету, который действовал на меня в эти моменты, как весенние лучи на Снегурочку. Он бесшумно читал в кресле, в то время как я проходила по дантовым кругам, пока боль пульсировала в половине головы открывшимся нарывом. Но она постепенно, почти незаметно уходила, и эта средневековая пытка вознаграждалась невыразимым блаженством, во время которого я ощущала себя неофитом, который вернулся к новой жизни после изощренно-жестокого обряда инициации.
Казалось, его фантастически перегруженная память непомерно давила на плечи, и он сутулился. Иногда брат казался подавленным и растерянным, будто не справлялся с непосильным грузом внутри себя, и такие состояния часто кончались приступами неуправляемого гнева. После них он на время приходил в равновесие.
Узнав название оперы, он едва усидел в кресле. В течение первого действия доверчиво наклонился ко мне и весьма выразительно прошептал:
Глаза мои, всюду,
Расширив зрачки,
Вы видели чудо,
Всему вопреки.
Я оценила изощренность его выпада. Было очевидно, что величественный храм искусств направлял его сарказм в высокое и благодатное литературное русло. Но если, цитируя Гете, он все еще сидел и даже пережил арию Собакевича, то ария Коробочки его заставила подняться и публично направиться к выходу. Осознав свое поражение, я тронулась следом. Мне стоило усилий ничего не комментировать, ибо, хоть и с трудом, но я выработала устойчивый иммунитет к его занудству. Здесь не помогли бы мои просьбы, прославленный интерьер и даже шикарный буфет. Уже спускаясь с лестницы, он все также выразительно посмотрел на меня, неожиданно вспомнил Булгакова: «Мы с королевой в восхищении». И надолго замолчал.
Подобные неувязки немало отравляли мою жизнь. Правда, у меня появились развлечения другого рода. Как результат моей «необузданной общительности», у нас всегда была масса гостей, и братец мистифицировал публику, умело эксплуатируя факт девственного представления об адыгах в столице. Они обычно простирались в пределах школьного восприятия «Кавказского пленника» трех русских классиков, «Героя нашего времени», а для особо начитанных – еще и «Мцыри» (грузин тоже сходил за черкеса). Брата, к примеру, спрашивали: «А как ты добираешься до своего института? У вас там есть дороги?» И он с потрясающей непринужденностью отвечал: «На коне». Народ просто немел от такой экзотики, и все тот же доверчивый голос тонко вопрошал: «А где ты оставляешь его, когда идешь на занятия?» Мой фавн снова был серьезен: «Как где? Привязываю к коновязи, рядом с другими лошадями». Я тем временем гадала, видел ли он живую лошадь хотя бы раз вне зоопарка. Не успев очнуться от одних виртуальных картин дикого Кавказа, публика оказывалась во власти других, еще более захватывающих. Местом действия служили горные леса, в которых водились редкие эндемики – козлотуры. На шумные закономерные расспросы, что же это за диковинный зверь, о котором никто никогда не слышал, мой брат достаточно логично пояснял, что это – гибрид тура и горного козла. Я наблюдала поистине могучее народное мифотворчество в перманентном действии. Однажды он прочитал по ним откровенную лекцию часа на полтора, при этом никто из присутствующих не шевельнулся.
Как-то зимой, возвращаясь от друга, он поскользнулся и заработал перелом лодыжки в типичном месте. Тот же друг подарил ему шикарную инкрустированную трость, и братец мой разом приобрел респектабельный внушительный вид: статный, в серой, высокой папахе, которая своеобразно сочеталась с его выразительной тонкой физиономией, с дорогой тростью и легкой загадочной хромотой, — она во мне рождала смутные литературные ассоциации с героическими личностями. Думаю, не только во мне, потому что все заинтригованно спрашивали о причине травмы, и он говорил, нисколько не переигрывая (со строго дозированными порциями досады и горечи): «Да у нас осенью – джигитовка и единоборства. Меня вытолкнули из седла». Однако ему дорого обходилась его кавказская импозантность: брата часто стали останавливать, требуя документы, а когда их однажды не оказалось, то пришлось несколько часов отсидеть в отделении милиции, пока я не подвезла требуемое.
Впрочем, отсутствующая благодарная публика в обычное время успешно заменялась мной. Наряду с анекдотами широкого тематического и стилевого диапазона, он ежедневно упражнялся в розыгрышах, нередко усыпляя мою повышенную и закономерно обостренную бдительность.
Редкая возможность серьезного общения предоставлялась мне только в случаях его подпития по случаю. Однажды он пришел около полуночи со дня рождения друга (того самого). Той ночью, за пять лет до перестройки, он рассказал мне в подробностях все, что будет наперед, начиная с назревающего кризиса на мировую, а значит, — российскую нефть, российскую древесину и другие природные ресурсы, за счет которых мы последнее время еще держались, — кризиса, который не оставлял никакого шанса избежать грядущей катастрофы, — вплоть до переименования центральных улиц, названных в честь вождя революции и его соратников. И когда грянула перестройка, мне лишь оставалось с немым изумлением констатировать фрагменты полного соответствия сценарию, небрежно озвученного моим подвыпившим братом в одну из зимних московских ночей.
Теперь наша однокомнатная квартирка всегда звучала музыкой, привезенной и приобретенной им с молчаливым фанатизмом меломана: Black Sabbath, Queen, Deep Purple, Nazareth, Kiss, конечно, Beatls и то многое, чего я не знаю и не вспомню. Он включал преимущественно Led Zeppelin, а именно песню «Лестница в небо», которая лишала меня на время прослушивания какой бы то ни было трудоспособности. После этой песни, говорил брат, по ночам ему снится сон Иакова. (Судя по особой серьезности выражения его лица, это тоже был розыгрыш, хотя, может быть, и нет). Иногда это был «холодный» джаз, иногда – Луи Армстронг, но чаще всего – классика: музыка Барокко, в основном — «Времена года» Вивальди; а также Чайковский и его концерт для фортепьяно с оркестром, нежно мною любимый. Однажды после «Токкаты и фуги ре минор» Баха, в конце кассеты я внезапно услышала незнакомую песню на русском языке:
В этом мире я гость непрошенный,
Ото всюду здесь веет холодом.
Непотерянный, но заброшенный
Я один на один – с городом.
Среди подлости и предательства,
И суда, на расправу скорого,
Есть приятное обстоятельство:
Я люблю тебя — это здорово.
Всюду принципы невмешательства,
Вместо золота плавят олово.
Есть приятное обстоятельство:
Я люблю тебя – это здорово.
В царстве глупости и стяжательства,
Среди гор барахла казенного
Есть приятное обстоятельство:
Я люблю тебя – это здорово.
Я навеки останусь, видимо,
В этих списках, пропавших без вести,
На фронтах той войны невидимой
Одаренности с бесполезностью.
Я навеки даю обязательство,
Что не стану добычей ворона;
Есть особое обстоятельство:
Я люблю тебя – это здорово.
( Стихи к песне Носкова. )
Я прослушала песню и почему-то заплакала.
ЛАГЕРЬ
Темный коридор петлял, разветвлялся. Мы проходили мимо многочисленных дверей, обитых темным дерматином, за которыми звенели телефоны, стучали печатные машинки. Небольшие голые паркетные холлы освещались громадными окнами, возле которых стояли курильщики в сизом дыму, рассеянно стряхивая пепел мимо урн. На всем протяжении стоял стойкий канцелярский запах, и это усиливало ощущение отчужденности.
Мы шли молча. Лишь однажды Дмитрий Савельевич, невысокий смуглый брюнет с черной бородой, спросил, ухмыльнувшись в усы: «Ну, что, старшой, опять на работу, как на праздник?» «Старшой», высокий и костистый, тряхнул седой шевелюрой и тоже хмыкнул. «Удочки-то заготовил?» — спросил он густым баритоном.
— А как же, — с готовностью откликнулся чернявый Дмитрий Савельевич.
Третий представитель минздрава, молодой иконописный красавец Кирилл Антонович, отрешенно молчал. Наконец мы подошли к нужному кабинету в тупичке, где должен был ожидать некий Поздняков. Им оказался маленький пожилой человек в старомодном твидовом костюме, который не выглядел на нем нелепо. Тихий, несуетливый, с мягкими чертами, с застенчивой лучистой улыбкой, он встал навстречу, поздоровался со всеми за руку, дружелюбно глядя на каждого.
— А это наш доктор? — он взглянул на меня с искренним интересом и подошел к столу. — Ну что, товарищи, — сказал он тихо, обращаясь к троим работникам минздрава, — вы ответственны практически за все: работа, досуг, быт, здоровье. Студенты — народ интересный, но молодой и необузданный.
Он протянул какие — то бумаги старшему: «Сан Сеич, здесь все, что нужно. Если будут какие-то проблемы — немедленно связывайтесь, я всегда на месте».
Затем он раскрыл чемоданчик и подозвал меня: «Вот, посмотрите, пожалуйста. Я с женой советовался, когда упаковывал, — она медик. Но вам не лишне взглянуть, может, что-то еще надо…» Я просмотрела содержимое:
— Как будто все…
— Ну, слава богу. Вот еще: с вами медсестра поедет, молоденькая девушка, она ждет возле машины. Недалеко от колхоза — центральная районная больница. Если что-то серьезное — можно довезти на колхозном транспорте.
-Думаю, что вы сами распределите между собой все обязанности… — сказал Поздняков, обращаясь к мужчинам.
— Ну, какой разговор, Арсений Федорович! — басисто отозвался Сан Сеич и легонько похлопал его по плечу. Кирилл Антонович флегматично улыбнулся и произнес: «Да, думаю, проблем не будет». На непроницаемом смуглом лице Дмитрия Савельевича лишь приподнялись густые дуги бровей: «О чем речь? С нашими-то ребятами?…»
— Ну вот и ладненько, — и Кирилл Антонович опять погрузился в долгое молчание .
Вскоре мы расселись в маршрутном автобусе. В салоне сидела медсестра Марина, смуглая, с раскосыми черными глазами.
Мы дождались водителя, и автобус тронулся. Поздняков махал нам вслед.
Поселение, в котором нам предстояло жить, состояло из нескольких десятков домиков бревенчатого типа. Вокруг простиралась степь. Трава пожухла от частых дождей, зато в большом радиусе от лагеря разросся бурьян, он подступал к домикам и уже взял в кольцо места общественного пользования. Дороги раскисли, лужи стояли по обочинам и в небольших углублениях по территории лагеря, они ярко зацвели, в самых больших юрко шмыгали головастики. Над ними бестолково вились темные облачка мошкары. Неподалеку были разбросаны илистые озерца, поросшие по берегам тростником и осокой. Наступление сумерек оповещал громкий нестройный гвалт лягушек. В неподвижном воздухе сонно жужжали мухи, комары.
Иногда забредали тощие облезлые кошки или собаки. Они какое-то время одиноко скитались по территории и вскоре так же отрешенно покидали ее.
Порой, что-то напутав, а то и из любопытства появлялись пьяные колхозники и механизаторы. Одни из них сосредоточенно куда-то направлялись, старательно пытались держать прямой курс. Другие были настроены более благодушно и незло задирались к студентам, чаще к студенткам, которые обходились с ними совсем нецеремонно.
Однако с нашим приездом грянуло солнце и высушило землю.
Нас поселили в один из самых приличных домиков, а наутро позвали, мы решили — за инструктажем. Наши руководители пребывали в прекрасном настрое и предложили пойти на озеро удить рыбу. Мы переглянулись и неуверенно согласились.
Мужчины весело собирались, перебрасывались смелыми шутками, и я поняла, что они выпившие.
Мы отправились к самому большому озерцу. Марина с Кириллом оказались сзади, я то и дело слышала ее сдавленный смех. Впереди размашисто шествовал Сан Сеич, рядом со мной очутился Дмитрий Савельевич. Его смуглое лицо лоснилось, он поглядывал на меня со странной улыбкой, неожиданно обхватил меня свободной рукой, тесно прижал к себе. Я машинально отстранилась. Дмитрий Савельевич удивился: «Мэм, я для вашего же удобства…»
На берегу мужчины скинули одежду, оставшись в трусах, затем принялись доставать из сумок провизию, бутылки водки. «Девочки, ну-ка, помогите!» Я подчинилась. Марина, переодетая в купальник, сконфуженно улыбалась. Кирилл разливал водку в пять пластмассовых стаканчиков. Он был очень красив: гладкий торс, стройные ноги, глянцевые русые волосы и — тоном темнее- аккуратная бородка подчеркивала идеальный овал свежего лица, тонкий нос с легкой горбинкой, сочные яркие губы, непроницаемый синий взгляд под сросшимися густыми бровями. Марина не отрывала от него глаз.
Мужчины залпом выпили и стали требовать того же от нас. Я смочила губы и поставила, но Марина отказать не смогла, особенно когда ее попросил Кирилл. Она разрумянилась, заметно повеселела. «Старшой» и Дмитрий Савельевич закинули удочки. Марина и Кирилл загорали неподалеку.
С того дня каждое утро нас вызывали. «Ну-ка, ласточки, скоренько, скоренько!» Мы готовили импровизированный стол, уклоняясь от пьяных рук. Они усаживали нас рядом, уписывали одну за другой закуски, гоготали, пили, заставляли нас, распалялись. Их возбужденные лица наливались, они придвигались ближе, дышали тяжелым перегаром. «Вот она, свобода!» — умиленно восклицал Сан Сеич. Потом вспоминались случаи из жизни, анекдоты. Позже, окончательно опьянев, горланили песни. Я пыталась бежать, но они, хохоча, удерживали, хватая за руки: «Ах ты ласточка, невинница, ишь ты!», — сажали на место. Я задыхалась в чаду тяжелых испарений, дешевого курева, в мелькании липких глаз, рук. Проглотив закуски, они внезапно вспоминали про свой улов — четверть ведра полуудушенной мелкой рыбешки. Это было избавление: мы шли ее чистить. Она перламутрово переливалась под солнцем, выпучив стеклянные круглые глаза. Иные под ножом неожиданно оживали и, изогнувшись, выскальзывали из рук. После шести по всему лагерю разносились нестройные пьяные песни, ругань, окрики.
По небольшому волейбольному полю без сетки носились выпившие дюжие парни в погоне за мячом, толкали друг друга потными телами, падали, матерились. Мы тем временем мыли в ведре разделанную рыбешку, сливали грязную воду в отстойник. Над раковиной висел мутный осколок зеркала, засиженный мухами, и я старалась разглядеть себя. Я длила удовольствие с рыбой до тех пор, пока за нами не присылали, тогда я делала вид, что тороплюсь в туалет, и бежала в свой домик. Но меня опять извлекали, тарабаня в закрытую дверь, если по пути не вылавливал рослый грузин Гиа. Он шел мне навстречу с пьяной улыбкой, широко разведя руки, и если я не успевала увернуться, встреча кончалась не вполне дружескими объятиями. Затем он вел нескончаемые разговоры «по душам», смысл которых я не всегда улавливала, но которые неизменно заканчивались клятвами в вечной любви.
К ночи старшой и Дмитрий Савельевич едва держались на ногах. Кирилл не менялся, только его легкий румянец разгорался ярче; глаза светлели, отливали холодным металлом, казались еще крупнее. Он флегматично молчал. Как-то доведя нас до кемпинга, он меня о чем-то спросил, и как только Марина вошла, его руки молниеносно обхватили меня сзади и сильно сдавили. Я задохнулась, онемела и молча уставилась на него. Его лицо совершенно не изменилось. «Ну шуруй, шуруй», — спокойно произнес он, чуть подталкивая меня к двери.
На пятые сутки начался дождь. Он шел не переставая, упорный, бесконечный, стирая границу между серым нависшим небом и серой распухшей землей. Мы были заперты в своих деревянных домиках. Доски отсырели, потемнели. С потолка громко, мерно капало в алюминиевый таз, пока он не наполнялся. Потом мы выливали из него с крыльца на улицу. Порой дождь стихал на 2-3 часа, но начинался ветер, усиливающийся к ночи, врывался с тихим свистом в щели. Мы сидели в кроватях, закутавшись в отсыревшие покрывала, как в кокон, содрогались до костей.
Из соседнего домика в это время зачастил Андрей, молчаливый медлительный парень с золотистой шевелюрой. Первые дни он больше молчал, глядя исподлобья. Когда он поднимал широко расставленные черные глаза, взгляд их приводил меня в замешательство. От его крепкой, худощавой фигуры, загорелого лица с широкими крупными скулами, крупным прямым носом, твердой линией ярких губ веяло свежей силой.
Он внезапно принес целую кипу одеял, забрав по второму у ребят своей комнаты. Мы стали возражать, — одним одеялом укрываться немыслимо, можно заболеть. «Ничего, — Андрей многозначительно хмыкнул, — они все морозоустойчивые».
Но и в эту ночь мы дрожали под многочисленными одеялами, отяжелевшими от сырости.
На следующий день он принес лимонный ликер. Мы опять попытались протестовать, но Андрей возразил: алкоголь в данном случае — единственное спасение от холода. Зажмурились и выпили по целой рюмке. Мне действительно стало тепло.
Света не было с самого начала дождя, Андрей был освещен неровным пламенем оплывшей свечи. Под монотонный шум за окном, несмотря на сырость и убожество, внезапно родилось ощущение уюта, спокойствия и еще чего-то нового. Андрей не уходил, пока не догорала свеча.
Наутро нас разбудило солнце. Оно щедро заливало продрогшую, жалкую, мокрую землю, высасывая из нее влагу, поднимало тяжелые испарения в незамутненное, еще яркое небо. Но после полудня пришел зной, повис в застывшем воздухе. Пришедшие с работы студенты опять сбежались в длинную очередь единственного местного магазинчика «вино-воды».
Вскоре вся атмосфера лагеря кроме винных испарений была пронизана неподвижным плотским духом. Воздух был так намагничен, что самостоятельно возбуждал. Первые дни повторялись. К вечеру мужские и женские домики считались таковыми условно, отовсюду слышались смешанные громкие голоса, взрывы пьяного гогота.
Во мне росло тошнотворное чувство. Я подошла к своему домику и дернула дверь. Она была заперта изнутри. Еще раз — никто не открывал. Я растерянно отошла и наткнулась на Андрея. Он взглянул на меня, взял за руку и куда-то целенаправленно зашагал.
— Куда ты?
— Уйдем отсюда. Нечего тебе здесь делать.
Я обрадовалась: «Как же мы не догадались! Ведь можно отсюда сбегать!» Нас окликали, тащили к дверям, но мы придумывали какие-то причины, отбивались. Благополучно прошмыгнув мимо домика минздравовцев, вырвались за пределы лагеря и побежали по степи. Мы остановились далеко от поселения и ощутили свежий порыв ветра, принесенный из-за леса за колхозным полем. Где-то высоко над полем звенел жаворонок, застыв в густой синеве темной точкой. В траве трещали кузнечики, шныряли полевки. Мы вышли к заброшенному кладбищу и брели сквозь покосившиеся кресты по густым зарослям сочной высокой травы, пестрящей полевым нежным разноцветьем, по огромным лопухам и дикому низкорослому кустарнику. Беседа ожила, и вскоре мы вошли в то особое русло, когда слова рождались безо всяких усилий, сами собой и вместе с тем приобретали должную, но редкую прозрачность символов, за которыми проступают живые очертания тех глубинных потаенных пластов, что не доступны ни осмыслению, ни условному обозначению. Это ощущалось как безмолвный взаимный ток сознания, когда уже отметены внешние барьеры и внезапно открывалась родственная сущность, в которой мы зеркально отражались. Мы незаметно вышли к маленькому поселку из нескольких домиков с русским орнаментом на ставнях и крышах, которые на фоне огромного багрового заката казались игрушечными, розовыми. Неожиданно он привлек меня к себе, вглядываясь в лицо. «Знаешь, ведь я уже не помню, с кем бы вот так бывало», — сказал он и нагнулся ко мне. Я уклонилась: «Не надо, не будем как все», — сказала я, но он не отпускал:
— Это не как все, ты же знаешь.
— Нет.
Было темно, когда мы подходили к лагерю. Я невольно замедлила шаги.
-Пойдем к озеру, выкупаемся! — сказал Андрей.
— Не могу, я без купальника.
— Ерунда, я покараулю… Сам смотреть не буду, — рассмеялся он, заметив мою нерешительность.
По берегу чернели силуэты деревьев. Влажная прохлада разливалась от озера, от темного звездного неба, которое опрокинулось в озерную гладь, и она зыбко колебалась, чутко ловила струи прибрежного ветра, который лишь слегка касался ее, волновал. Под оглушительный рокот невидимых лягушек невозмутимо трещали сверчки, сухо шелестела осока. Я вошла в воду, побежали круги. Вода обожгла меня, — я на миг задохнулась, но с силой оттолкнулась от мягкого илистого дна и поплыла. Холод проникал в каждую клетку разгоряченного тела. Я боролась с чувством восторженного ужаса, которое постепенно уходило по мере того, как вода уносила меня дальше и дальше.
Я энергично плыла, разбивая сверкающую поверхность лунной дорожки. Холодные струи пронизывали, отрезвляли, с каждым взмахом сознание покидало все мешавшее, тяжелое. Вода растворяла скованность и оцепенение, я внутренне подобралась, будто меня спрессовали. Только я и вода, я и вода, большой глоток ночного воздуха над поверхностью — сильный выдох в воду, и она вновь смыкается надо мной. Только ощущение согласованной работы мышц и упругие, ласкающие струи, скользящие вдоль каждой линии моего тела, только благодарный гул собственной крови, которая разливается горячими волнами, и снова: вдох-выдох, вдох-выдох… Я чувствую, как мышцы стали резиновыми, эластичными, я обретаю над телом безграничную власть, скольжу, растягиваюсь по поверхности длинной гибкой лентой, ощущаю свое теплое тело- хрупкое и сильное, гребок вперед — податливое и твердое, еще движение — нежное и несокрушимое- и меня пронзает немой восторг свободной плоти. Только я и вода, я и вода, я роднюсь с ней, сливаюсь с ней, растворяюсь в ней. Я ощущаю себя все меньшей и меньшей частицей ее — и вот меня уже нет: я омываю, питаю, вживляюсь, я мерцаю лунным блеском, отражаю дрожащие летние звезды, выгибая текучую спину.
Я дернула дверную ручку — на этот раз она легко поддалась. Света опять не было. Я осторожно переступила порог, стараясь не споткнуться в темноте. Через окошко струился белесый лунный свет, пахло перегаром. Я подошла к окну, распахнула его и только тогда боковым зрением увидела Марину, сидящую на смутно белеющей кровати. От неожиданности я застыла. «Марина! — негромко позвала я. Она в неподвижности молчала. Я подошла к ней: «…Ты что?» Она молчала. Я наклонилась к ней, взяла за подбородок, повернула к окну. Она не сопротивлялась. Бледная маска. «Что случилось?» — переспросила я. «Ничего» — обронила наконец она. Я зажгла оставшийся огарок свечи, ломая спички, поднесла к ней — и живое тонкое пламя отразилось в пустых глазах. Постель была смята. Рубашка у основания порвана, так что обнажилась полная смуглая грудь.
— Это Кирилл?… — я затрясла ее за плечо, — да или нет?
Она не отвечала. Мне стало жутко.
-Да говори же, идиотка несчастная, говори! — я трясла и трясла ее. Пламя свечи заколебалось, я бессильно опустила огарок свечи на старый деревянный стул, стоящий рядом с кроватью, и увидела несколько 25-рублевых бумаг. «Откуда это?» — спросила я, беря их в руки. Неожиданно Марина вырвала у меня деньги и поднесла к огню. Конец их на секунду вспыхнул синим огоньком и бумага медленно затлела. Я сделала движение, но остановилась и продолжала смотреть на Марину и медленно тлеющие деньги: у нее было бесстрастное лицо жрицы, выполняющей священнодействие. Затем она отнесла свечу к столу, пройдя по дощатому полу изящными босыми ногами, вернулась к постели, залезла под одеяло и отвернулась к стене.
Наутро, когда мы, наконец, расселись, я оказалась одна. Автобус тронулся, и духота дрогнула под натиском первых свежих порывов ветра; по мере того, как машина набирала ход, они становились все сильнее, яростнее. Постепенно растворялся тяжелый осадок в груди; набирающее скорость движение, и живая сменяемость видов за окном вызвали во мне детскую бездумную веселость.
Неожиданно ко мне подсел Сан Сеич. «Как настроение?» — басисто спросил он. Я, как обычно, испытала при нем мучительное чувство неловкости. «Ничего», — бесцветно ответила я и отвернулась к окну, чувствуя на себе насмешливый взгляд. «Как насчет адресочка? Где тебя искать при случае?»
— Я работаю в 167 больнице. Вы свои телефоны запишите вот сюда, — я вынула блокнот и ручку. Он записал сначала свои координаты, потом — своих двух коллег: «Обращайся, если что».
Я поблагодарила и положила блокнот в сумку. Я знала, что никогда не позвоню. Думаю, со стороны Сан Сеича это тоже был только жест вежливости. В его всевидящих насмешливых глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие. Он приобнял меня за плечи, с силой привлек к сухому, крепкому телу и тотчас отпустил: «Ничего, не расстраивайся, ты еще изменишься, станешь какой нужно.» Он поднялся и отсел, оставив меня в злом недоумении.
К минздраву мы подъехали к концу рабочего дня. Поздняков ждал нас. Он, как и в прошлый раз, поднялся навстречу, просиял застенчивой доброй улыбкой — и множество мелких морщинок разбежались по всему лицу.
— Ну — ну, с приездом, милые работники! — проговорил он и принялся озабоченно осматривать нас. — Ну как, все в порядке? Ведь холода были какие, дожди. Не заболели? Как, доктор?
— С нами — то ничего. Вот только у троих студентов- ОРЗ.
— Вылечили?
— Да, живы — здоровы.
— Ну и слава богу.
Остальные работники минздрава улыбались, но сохраняли сдержанное достоинство.
-Как же трудовые успехи, Сан Сеич?
Сан Сеич открыл дипломат и достал красочный лист бумаги. «Вот, пожалуйте».
— Да ну, никак грамота? — воскликнул Поздняков, осторожно беря в руки лист. Надел очки, усердно их поправляя. Так, «Грамота выдана Коваленкову Александру Алексеевичу, Гривич Дмитрию Савельевичу, Романову Кириллу Антоновичу за отличную работу…» — он шевелил губами, а я наблюдала за лицами присутствующих: их озаряла скромная улыбка, и только. На глазах Позднякова стояли неподдельные слезы. Он без слов с чувством пожал руку каждому из троих.
Я добралась до койки и свалилась… Я оказалась перед собственной дверью. Открыла ее привычным жестом и зашла. В прихожей было темно. Я стала шарить рукой по стене, но не могла найти выключатель. Через окна лился бледный голубой свет, было тихо, но я знала, что в темноте кто-то притаился. «Кто здесь?» Мне никто не отвечал. Я ощущала чье-то невидимое присутствие, оно пропитывало все пространство тошнотворным ощущением, внушало животный страх. Мимо меня колыхнулась струя воздуха, будто кто-то проскользнул мимо незамеченным, и я почувствовала озноб. Я оцепенела, не могла пошевелиться и что-то произнести, ощущая лишь гулкие удары крови в висках. Темнота была живой, заполненная звенящей тишиной. «Ты дома», — шепотом выдохнул невидимый голос у моего уха, я вздрогнула и проснулась.
ДИСА
Приехала Диса и зашла по адресу общежития до того, как я сама заглянула туда. Теперь она сидела за столом (точнее сказать, царила), непринужденная и прекрасная, как всегда, и на лице её цвела улыбка Джоконды. Моих былых соседок уже коснулась крылом знакомая лихорадка, которую вселяла моя кузина. Я наперед знала все её стадии. Сначала это было немым восторгом, как правило, плохо скрываемым. Потом примешивалось острое любопытство, сознание собственной вторичности и еще какое-то непонятное ощущение, напоминающее голод, когда потихоньку начинает сосать под ложечкой, и потом непонятный ком подкатывает к самому сердцу. Вскоре все личные интересы, которые закономерно владели каждым из присутствующих, постепенно начинали утрачивать свою значимость, попросту терялись или отступали на второй план перед фактом несравненно более важным и, как позже оказывалось, исключительным, — фактом её присутствия. Я каждый раз наблюдала, как неуклонно расширяется жесткий неумолимый круг её воцарения (или влияния, или бог знает, чего именно), парализуя волю и желания. В мертвую петлю её красоты попадал каждый. Безличный термин «красота» не передает и сотой доли той атмосферы магической завороженности, в которую все оказывались невольно вовлеченными; любые определения здесь кажутся бледными и бессмысленными. Я видела, как извиваются последние остатки воли, задушенные её властью, и вскоре ближайшее и дальнее окружение постепенно утрачивало разноцветные краски индивидуальности, превращалось в бесцветные полые марионетки, которые продолжали таять на глазах, а вскоре по причине своей бестелесной легкости слетали с мест и начинали вращаться вокруг её невидимой несгибаемой оси.
Большие компании были настоящей катастрофой: беспощадно обрывались все живые нити разговоров, увядал на корню всякий интерес к каким бы то ни было женщинам, и все взгляды, явные и тайные, постепенно приковывались к одной фигуре, обрамленной сиятельным ореолом – к ней. Но настоящим немым скандалом, очевидным, как гроза, были ситуации, когда Диса выходила из-за стола – своевольная, как ветер, — по малой нужде или вовсе без нее. Мужчины не просто забывали о своих присутствующих (и отсутствующих) дамах, — обо всем на свете: работе, доме, семье, долге, наконец, кидали на ходу своим спутницам жалкие предлоги (глухо звучало трио «мне надо покурить» или просто «я сейчас»), и бросались вдогонку – кто вперед, — за её дразнящей веселой тенью. Она выходила, вынося за собой длинный шлейф из покорных мужских фигур, пластичных, как первородная глина в руках творца. На губах женщин еще сохранялись вымученные улыбки. Но у кого-то уже на бледных лицах воинственно разгорались глаза, хотя у большинства блестели слезами и были устремлены прямо на свои тарелки; руки медленно и бесцельно водили по ним вилками, будто бедняжки перебирали кусочки собственных мелко порезанных сердец.
Она всегда находилась в напряженном ревнивом фокусе женского внимания. Он везде подстерегал её. Но она как будто ничего не замечала, и легко сокрушала барьеры ревности и ненависти всепобеждающим веселым смехом. К концу пребывания в компаниях я ожидала типичных разговоров. Мужчины расспрашивали о ней, с трудом обуздывая острый интерес, просили её телефон или адрес. Один мой товарищ, которого я считала своим тайным поклонником, мечтательно выдохнул: «Она тянет на высшую планку!», другой констатировал: «Мировой уровень». Третий доверительно начал обсуждать предложение по рекомендации моей сестры на мисс красоты или очарования. Если со мной оказывались женщины, реакция тоже была одна и та же, (я смеялась над идеальной идентичностью так называемых разнообразных характеров): они всеми силами пытались скрыть горячее любопытство, как бы невзначай задавали мне вопросы, за которыми бился незадаваемый. Боюсь, мои ответы их разочаровывали или повергали в пучину еще большей путаницы: да нет, девушка из села, из многодетной семьи! Родители? Да, собственно, никто. Точнее, теперь – мелкие предприниматели, (в прошлом – мелкие советские спекулянты). Мать — хохотушка. Отец – весельчак. Дети – здоровая смешливая команда, способная разразиться задорным сангвиническим смехом от самой банальной шутки. Принципы? Да никаких. Ну, разве что считать принципом любовь детей к родителям и наоборот. Воспитание? Я пыталась и не могла припомнить ни одного замечания, упрека, окрика или хотя бы сентенции. Была веселая забота, разговоры ни о чем, о бытовом, текущем. И все-таки, было что-то особенное: они каждый день умели превращать в праздник. Только им, казалось, небеса приоткрывали заповедный пьянящий источник радости, до отказа заполнявший их легкие искрометным духом. Перед их наивным весельем и задором повергалось в прах все устоявшееся, стабильное и серьезное, им ничего не стоило перевернуть под общий хохот любой авторитет. Я помню, как не раз уносили ноги знатные дамы из высших кругов нашего города, случайно оказавшиеся с ними в компании. «Деревенщина есть деревенщина», — шептали они, закусив губы, ибо их особое положение здесь всех оставляло нечувствительными, а какая- нибудь оплошность вызывала добродушный смех. Впрочем, не могу ручаться, что быстрее обращало их в бегство: вездесущий хохот или набирающая силу смертоносная женственность Дисы, в демонической красоте которой для каждой женщины таилась угроза поражения, (или расшатывалась уверенность в надежности собственного женского начала).
Их дом меня притягивал как магнитом, и я часто бывала у них. Вечерами мы наносили родственные визиты, шествуя вечерней хабле (сельский квартал – М. Х.) под оглушительный лай собак. Диса вставала ближе к заборам, откуда-то в её руках появилась гибкая хворостинка. «Они мне надоели!» — сказала она как-то и весело сверкнула глазами, неожиданно резко и гортанно крикнула: «Гъыра!» Прутик с упругим «д-з-з-с» рассек воздух и собака, поскуливая, замолкла. Это повторилось с другими, со всеми собаками округи. Те, что были видны в просветах заборов, начинали загребать передними лапами и вилять хвостом, скуля и повизгивая, ложились наземь или забивались в свои норы. Её усмиренные четырехногие подданные.
Поздним вечером, уже по возвращении, она решила устроить танцевальный марафон для двоих «хоть до утра». Подозревая об абсолютной неистощимости её резервов, я неуверенно согласилась. Все, что я могу, — это только сделать длинную паузу, так как чувствую себя бессильной передать незабываемые впечатления той ночи. Её мгновенные, поразительные по чистоте и точности танцевальные импровизации, ее темперамент, свежий задор, рассыпавшиеся черные пряди, сбегающими по чудесному торсу с полной тугой грудью, плоским животом и мальчишескими бедрами. Она мерцала матовой белизной из-под прозрачной персикового цвета рубашки, — на все это я смотрела с неизбывным восхищением и тоской, думая о том, как легко и нелепо я снова оказалась втянута в очередную глупую авантюру. В голову лезли сценки из фильма «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Диса взяла меня за руки и без слов заставила двигаться в танце. Я сопротивлялась, но она не оставляла меня, беззаботно и бодро поддерживая, и уверенно вводила в невидимый узкий переход, в тесноте которого я прошла все фазы: стеснения, скованности, первого азарта, пробуждающегося вкуса, крепнущей уверенности, наконец скачок, — и я растворилась в музыке, как она – во мне. Теперь мелодия двигала и управляла мной. Только здесь начиналось парение, и ощущение другого, столь же реального мира, но упоительного, беспредельного, в котором теряешь чувство времени и пространства, будто оказываешься в точке их пересечения. Мы оказались в эфире магического полета, который выносил нас в другие, неведомые сферы, — от них замирало сердце и учащалось дыхание. Все это время я ни на минуту не теряла из виду Дису, которая отдавалась происходящему с детской безоглядностью и самозабвением. После пяти часов волшебных движений, которые больше походили на таинственные метаморфозы, она упала на диван и блаженно откинулась. Оказывается, ослепительная, — это когда больно смотреть. Только теперь я по- настоящему проникалась трагическим ощущением расщепленности от созерцания прекрасного: оно рядом с тобой, оно касается тебя, и все-таки остается недоступной чуждой стихией, в которой только жаждешь, но никогда не можешь раствориться. И никогда не можешь понять.
Вскоре она легко встала, принесла две свечи, зажгла их и выключила свет. «Что ты теперь придумала?» — спросила я со смешанным чувством. Она нашла нужное: это была песня в исполнении Офры Хазы. Голос её доверчиво и нежно вопрошал и обещал, увлекал, очерчивал круг и снова возвращался в неизбывной прозрачной тоске, гибкий и трепетный, — голос любви. Он доходил до последней грани возможного, бился и пересекал предел, за которым начиналась тайна ночей Востока. Движения Дисы были скупы, бесстрастны, как ритуал египетской жрицы. Но это было то единственное, что требовала песня. Она на мгновение застыла, держа горящие свечи на уровне груди: прелестное невинное лицо и целомудренное пленительное тело с пылающими сосками. Диса – Дисана – Дышанэ, — «золотая мать» в девичестве. Прекрасная Лилит. Неотразимая Лилит.
Её притягивал любой праздник жизни. Такое символически — емкое обозначение относилось к яркой, беззаботной и, прямо скажем, праздной стороне бытия. С таким же, если не большим основанием, можно было сказать, что она, Диса, сама притягивала эту сторону жизни. Неудивительно, что в моих воспоминаниях с ней связаны дни рождения, праздничные даты, юбилеи, свадьбы, прогулки, посещение театров, кино и кафе. Однако такими же праздничными воспринималось множество будней, проведенных в её обществе.
Мне припомнилась одна вылазка с её многочисленной, вечно оживленной семьей на майские праздники – первое или девятое. Пикник на обочине Большой Кабарды. Мы облюбовали вершину пологого холма, с которого взору открывалась грандиозная панорама: на самой дальней полоске горизонта горы еще сохраняли утренний отсвет и казались серо-розовыми, а до них – убегающая вдаль гряда гигантских, изумрудно- зеленых холмов, усыпанных островками цветущих деревьев, которые сливались с яркой синевой неба. Молодая, еще не загрубевшая трава поднялась выше щиколоток. Диса легла на нее, сложила руки вдоль тела и, издав победное «У-а-а!» внезапно покатилась вниз, по холму, набирая скорость. Я последовала её примеру: именно это нашептывал сочный покров трав и первоцветов, и высокий пологий холм, и порывы легкого ветра, меняющего направление подобно бестолковому жеребенку, и яркое весеннее солнце, очень скоро и незаметно перевалившее через зенит и клонящееся к западным синим горам, и бело — розовое цветение деревьев, небывало – обильное той весной, скрывающее юную бархатную листву. От скорости у меня перехватило дыхание. «Берегись камне-е-ей! Го-о-олову береги-и-и!» — услышала я уносящийся голос Дисы. Бело-сине-зеленый калейдоскоп убыстрялся, искрился солнечными брызгами, превратившись в единую крутящуюся круговерть, пеструю мешанину из зелени, неба, облаков и солнца. Я ощущала твердое тело земли, хлесткие удары травы, пахнущей остро и пряно, и гул ветра в ушах. Тело мое, ускоряющееся в струях ветра, постепенно растворялось в них, пока я не потеряла его границы. Открыв глаза, я увидела Дису. Она стояла надо мной, освещенная со спины солнцем, с зажженным нимбом волос, которые легли сплошным густым шлемом на спине, сильных, почти мужских плечах, открыв юные ключицы с глубокими выемками, и вознесенную над ними статную шею, схваченную прелестной золотой цепочкой. Я оказалась под сенью девушки в цвету, впервые по достоинству оценив пространное название романа Пруста.
Пока эти и другие воспоминания теснились в моей голове, мы довольно бодро обходили магазины Калининского. Диска с неувядающей энергией лавировала в толпе, увлекая меня за собой. Её охотничий взгляд сразу обнаруживал нужную добычу. «Ах, я давно это хотела!»- и, не обременяя себя сомнениями, уверенно шла пробивать чек с внушительной суммой. Из магазинов мы зашли в общежитие, где она обычно останавливалась, — большое новое здание в стиле модерн: пакеты Дисы угрожающе отяжелели. В лифте и по пути к её номеру нам встретилось человек пять – и все с ней поздоровались. В дверях торчала открытка с изображением букета алых роз. Мне бросилось в глаза слово «задорная». Она быстро, с улыбкой пробежала её глазами и бросила на столик: «Поздравляют с приездом», — сказала она так, будто это было нормой для всякого приезжего. Уже на выходе, в результате свободного своевольного полета её стремительной инициативы, решено было идти в театр. Мы влетели в последний вагон электрички и стали в самый конец. Пассажиры, — все, как один, были наглухо замурованы в зимние темные пальто, шубы и куртки, и только рыжая дубленка Дисы была нараспашку, являя светлые брюки и тонкую блузку, тоном схожую с серебристо – розовыми лепестками расцветших яблонь. Я видела, как пространство вагона постепенно заполняется праздничным сиянием и неуправляемым магнетическим зарядом. Он медленно разворачивал лица по направлению к эпицентру – Дисе, которая спокойно стояла у стойки с озорными косами по плечам; они непокорно расплелись и на концах воинственно змеились. Мужчина напротив, читавший газету с преувеличенным чувством собственного достоинства, автоматически взглянув в нашу сторону, сложил её через минуту и откровенно воззрился на Дису. Зашедшая после нас группа молодых людей и девушек прошла не вперед, где было совершенно свободно, а остановилась поблизости. Оживленно беседовавшие пожилые дамы интеллигентного вида украдкой пробегали по Дисе взглядами, пока разговор их окончательно не завял. Сидящий поблизости молодой человек в наушниках, с непроницаемой физиономией энергично кивал головой, в такт ему только слышной музыки. Внезапно, ко всеобщему изумлению окружающих, он уступил место старушке, стоящей рядом с ним. Его редкий гуманизм, покоривший законопослушных граждан, обернулся прямолинейным мотивом в духе Фрейда: он вплотную пристроился к Дисе, не меняя застывшего выражения лица и продолжал кивать. По какому-то непостижимому закону вся толпа постепенно перекатилась в самый конец вагона, сосредоточившись вокруг нее. Я почти осязала, как дрогнувшие атомы слетали со своих строгих орбит, изменив незыблемой вечной траектории, и устремлялись к новому могущественному ядру – к ней. На одной из остановок электричка вздрогнула и тронулась, но не в ожидаемую сторону, а назад и двигалась так какое-то время. Завороженная публика ничего не заметила, я лишь слышала крики из передних вагонов. Сколько продолжалось это странное движение, сказать трудно, как ничего нельзя сказать о времени вообще, находясь вблизи моей кузины. Порой обычное утро через миг превращалось в вечер, а другой раз миг растягивался на целый день. Категории пространства и времени теряли самостоятельное самодовлеющее значение и, пропущенные через призму образа Дисы, приобретали совершенно неожиданные свойства, как белый солнечный луч, пройдя через прозрачную водяную струю, рассыпается на многоцветный спектр радуги. Создавалось впечатление, что невидимый оператор переключил режим камеры на замедленную съемку. Но кто-то включил стоп-кран, нас тряхнуло. Грузный мужчина справа не удержался и рухнул на пол, подминая соседку. Образовалась свалка, разразился скандал. Утопающий в потоках ругани поезд опять тряхнуло, и он двинулся обычным курсом.
Я не сомневалась, что мы попадем на любую постановку, хоть в Ленком, несмотря на аншлаг. Ей не пришлось даже напрягаться: она подошла, взяла билеты и как бы невзначай расплатилась. Странно, что ей не предложили взять их даром. Мы вошли в зал и заняли свои места. Несмотря на однообразие в прогнозирование общественной реакции, я (уже в который раз) вынуждена констатировать последовавший вскоре гипноз ближайшего окружения Дисы, (который её, кстати, никогда не касался), и на постановку она взирала с непринужденным милым смирением, — оно удивительно уживалось в ней. Это был «Тартюф», поэтому Диса периодически разражалась смехом, похожим на весенний разлив горной реки, открывая миру великолепные девственные зубы, не изведавшие еще руки стоматолога.
По пути она развлекала меня кратким очерком о недавних личных эпизодах, которыми уже изобиловала её начавшаяся биография. На этот раз рассказ посвящался одному нуворишу. Новый кабардинец этот, сказочно разбогатевший на перепродаже безакцизной водки, был рожден в святых яслях юного СНГ (или на святых мощах СССР, что, впрочем, почти одно и то же), а потому не видел, разумеется, никаких препятствий на пути достижения собственных желаний – любых. Одним словом, новорожденный буржуа, приятель отца Дисы, предложил довести её до дома. Она согласилась. Вместо дома он завез её за город (при этом был мил необыкновенно), воплощая в действие лелеемую надежду на любовь в жарком от собственного вожделения салоне Мерседеса. Но девушка моя заявила, что больше Мерседеса ей нравится природа. Диса долго искала уютное место, испытывая терпение своего неожиданного возлюбленного, и они отошли на приличное расстояние от машины. В самый неподходящий момент Диса вспомнила, что забыла в салоне сумочку. Её спутник удивился, зачем в этой ситуации сумочка, но, заглянув в дисины глаза, предложил принести её сам. «О нет! – возразила она, — мне еще кое-куда надо!» Подойдя к машине, она открыла её наивно доверенным ключом, спокойно уселась за руль, наглухо захлопнула двери, и укатила в город, оставив распаленного мечтой мужчину. Водила она как бог (точнее, богиня). Уверена, случись подобное в прошлом веке, Диска точно так же обставила бы конного похитителя.
Кстати, относительно краж: их было пять. Но каждый раз ей удавалось себя вовремя вернуть, (сноска для непосвященных: до утра следующего дня). Последний раз её похитили в дальний аул. Украденной никак не удавалось уговорить неугодного жениха отвезти её домой. Его не тронули даже слезы. Тогда она попросилась в туалет (знакомый трюк!) Её отвела, как положено, младшая сестра жениха. Кузина моя вылезла из узкого оконца клозета, (свернувшись, на пример Алисы, как телескоп), который стоял торцом к забору, незамеченной перемахнула его и помчалась по пустынной ночной дороге. Ей встретилась одинокая милицейская машина. Невеста разжалобила блюстителей порядка до слез и те, восстанавливая попранную справедливость, охотно отвезли пострадавшую домой.
Жених и его родня долго не могли взять в толк, куда невеста делась из туалета: вылезти в окно форточного типа было практически нереально. Однако делать было нечего: пропавшую следовало найти, чтобы наутро не стать посмешищем всего села. Они отправились к дому строптивой беглянки по безмолвным дорогам Кабарды, освещенных лишь холодным сиянием месяца. Сладко спавшая к тому времени невеста успела заблаговременно предупредить родителей. Вышедший на сигнал машины отец пригласил полуночных гостей в дом, те, понятно, вежливо отказались, и на их вопрос, вернулась ли девушка, отец очень правдоподобно развел руками, повергнув несостоявшуюся родню в пучину крайнего отчаяния. Они продолжали поиски до утра, и вернулись домой ни с чем, а тут пожаловала милиция составлять протокол.
Мне льстила её привязанность, она меня всегда искала и находила. Однако я знала, что она и без меня точно такая же, как со мной: веселая, сильная и прекрасная. Никогда, никогда не изменяла ей её чарующая гармония. Она позволяла ей удивительно полно и органично вписываться в любую обстановку, начиная буколическим пейзажем, кончая урбанистической новостройкой. Более того, в любой ситуации и обстановке она заслоняла все остальное: люди, вещи и обстоятельства постепенно утрачивали свою значимость, блекли, отступали, становились фоном, попросту служили ей, усмиренные, как собаки её аула. Я чувствовала себя кислой, горькой, приторной на фоне её незыблемой, константной, рекламной РН 5,5. Кажется, она не знала отчаяния, боли, жажды, сомнений, словом, она не знала крайностей, или же, хорошо чувствуя любую опасность в широком диапазоне, просто не приближалась к ней, оставаясь плескаться в теплых водах золотой середины. Вместе с тем, она могла до конца, по-детски безоглядно отдаваться своим желаниям, и спокойно брала то, что хотела. Но, сея вокруг себя шквал всевозможных страстей, умудрялась оставаться в стороне, вне их опасного соседства, так что никогда ничто не могло всерьез поколебать её странную, божественную невозмутимость.
Я только могла предполагать, что её привлекало во мне. Однажды она попросила меня написать ей список рекомендуемой литературы. Я сделала это почти с благоговением, но безо всякого рвения, так как твердо знала, что она не прочитает ни строчки. Для нее это было абсурдно: для чего полной луне округлять себя еще больше! Она бы просто посмеялась над всей этой книжной премудростью, — и была бы по — своему права. Мир книг и вся атрибутика цивилизации вообще для нее была ненужными костылями, для которых она на редкость хорошо стояла на ногах. Правда, была к ней нежно привязана, как ребенок к игрушке.
(Спешу предостеречь извращенный ум моих случайных читателей: никогда, видит бог, я не считала себя Сафо, и моя ориентация была скучно — традиционна). Но художник во мне жил всегда столь же напряженно и страстно, как и женщина, а потому мне больно было смотреть на её лицо, ибо оно было слишком прекрасно. Лицо, похожее на любовь, которая засасывает постепенно и незаметно, пока все остальное не отступает на задний план и не растворяется.
АБХАЗИЯ
Я снова шла на поводу очередной авантюры Дисы: созвонилась с родственниками из Абхазии, и теперь мы ехали за билетами, в наличии которых можно было не сомневаться. Мои предварительные воззвания к здравому смыслу («Она же сейчас в экономической блокаде!», или «В начале лета море еще холодное!»), разумеется, не достигли цели. Последний раз я была в Сухуми перед самой войной, нас занесло туда майским ветром бездумного студенческого порыва – на 4-5 дней. Белый город утопал в роскоши субтропического цветения, сверкая из-за яркой листвы веселым глянцем стеклянных глаз городских и загородных жилых домов. Они застенчиво прятали свои респектабельные фасады в экзотических зарослях инжира, хурмы и гранатовых деревьев, в ветвях яблонь, груш и виноградников, но чаще всего, — в мандариновых кущах, — дома являлись детищем их сочного оранжевого капитала. Вдоль тенистых, мощеных тротуаров, прихотливо уводящих к живописным тупичкам с какой –нибудь прелестной беседкой на берегу маленького озера, увитой кудрявым плющем. Мы располагались на скамейке, и нас обступали высокие деревья магнолий с роскошными белыми и розовыми цветами, венчающими короткие ветви, поросшие огромными кожистыми листьями. Между ними благоухала кусты олеандра, усыпанного то белыми, то розовыми соцветьями, к вечеру они усиливали аромат, отнюдь небезобидный, — (мне сказали, что во времена нашествия Наполеона французы разжигали костры, используя его древесину, и многие солдаты были отравлены ядовитыми эфирными маслами). В жару мы спасались под тенью благородных платанов, аристократичных, полных величественного достоинства; их кроны к концу лета обретали золотисто — медовый оттенок, в тон светлых, желтовато-зеленых или белесовато-оранжевых стволов, лишенных коры. Рядом возносились кипарисы, вечнозеленые стражи этого субтропического буйства. Позже, уже зрелой осенью, загорались отяжелевшие желто – оранжевые плоды хурмы на деревьях загородных и городских садов, как пылающие осколки солнца. Но мое воображение неизменно потрясали гигантские эвкалипты: одни с серебристо –пепельной, почти голубой кроной, полощущие на ветру свои узкие плотные листья, которые мерцали разными оттенками серого, и другие, взмывающие высоко вверх грандиозным, белым стволом, закрученным спиралью, с которого свисали длинные многометровые древесные листы высохшей коры мраморного светло — серого или ржавого цвета (эта склонность деревьев к эксгибиционизму снискала им народное название бесстыдницы).
Во время частых визитов в Абхазию моя праздная счастливая истома настаивалась на солнечных днях, благоухающих волнующими пряными запахами, днями, исполненными в насыщенных контрастных тонах, схожим с колером экзотических картин Гогена, и волшебных ночах восточных сказок. Я часами плескалась в прозрачных теплых водах там, где однажды с вершины Иверской горы, недалеко от полуразрушенного храма, увидела в серо — голубой морской глади отражение огромного немигающего глаза: круглый, почти черный зрачок по центру, искристая радужка, цвета бледной бирюзы, и её омывающие воды, — прозрачные, очень светлые, почти белесые, такая же темная, в цвет зрачка, кайма, обрамляющая глаз наподобие век. Не знаю, сколько это продолжалось, на момент созерцания я совершенно потеряла чувство времени. Огромный небесный глаз какое-то время неподвижно покоился в морских водах, и высокие волны не меняли его ясных спокойных очертаний. Он растаял также внезапно, как появился, наподобие изображения Иверской Божьей Матери, таинственное появление и исчезновение которой на священной горе по сей день остается загадкой. Тогда же на закате я наблюдала необычный золотой отсвет, которые излучали застывшие облака на востоке, отражая закатное солнце запада, похожий на небывалое обилие цвета и красок предапокалиптических античных полотен, — последний глубокий вдох жизни перед неизбежным концом, и строгие вечерние силуэты кипарисов, схожих с воинственными ангелами, охраняющими вход в Эдем, — навсегда утраченный.
В то лето мы гуляли по тенистым аллеям реликтового соснового бора Мацесты, сохранившегося с третичного периода, с островками высокого, гладкого, как стекло, тихо шелестящего бамбука, а позже слушали органную полифонию Баха в тысячелетнем храме; звуки, ширясь, поднимались вверх и растворялись в высоком куполе. Я рассматривала купол центральной башни, в котором изображался Христос в окружении 12 апостолов. Вернувшись домой безлунной ночью, я впервые купалась в ночном море, рассматривая крупные яркие созвездия, которые осыпались вниз и канули в черную воду, поднимаясь со дна яркими светящимися струями при малейшем движении тела. Я зачарованно наблюдала этот мерцающий звездный шлейф фосфоресцирующего планктона, который плыл за моими мерно движущимися руками и ногами, разбегался в стороны и угасал, и начинала ощущать себя реальным персонажем волшебной сказки.
Я вспоминала дорогу на Рицу в прохладном туннеле старых платанов, и реку Бзыбь, впадающие в нее Юпшару и Гагу — в белоснежной пене, такие же интенсивно синие, будто посыпанные медным купоросом. За окнами автобуса мелькали светлые стволы грабов, и высоченные пихты, донося до нас свежий смолистый дух, вечнозеленые ягодные тисы с красной драгоценной древесиной, и бессмертный самшит, но вскоре, как в призрачном сне, справа выростала гряда Мисерских холмов; за ближайшими, низкими, пологими, высились отдаленные, необыкновенно высокие, стертые серо — голубой утренней дымкой. Я живо представила себе на их вершинах далекие женские фигурки, вечно ожидающие своих мужей с далекого Египта – Мисры.
В то лето обезьяны носились по питомнику, издавая победные крики, и пруды Ботанического сада расцветали лотосами и кувшинками.
Теперь же мы прошли двойной кордон, часа два проталкиваясь в длинной очереди. Нас обгоняло множество женщин и мужчин в темных одеждах, которые, обливаясь потом, торопливо везли на тачках огромные тюки поклажи. Вскоре глазам предстала сюрреалистическая картина: обожженные черные дома с выжженными окнами; от многих оставались только остовы – без крыш и внутренностей, нелепые, как раскиданные по земле скелеты посреди цветущей земли, залитой щедрым июньским солнцем. За домом правительства, единственно восстановленного, мирно паслась тощая корова… Памятник Гулия был разбит, на нем остались следы от пуль. Я и не заметила, что плачу. Семья Кабахия, родственники моего отца, были редкими счастливцами, чей дом уцелел. Даже имущество осталось. Они были все так же добры и радушны, но теперь с их лиц был стерт особенный яркий блеск, отсвет внутреннего немеркнущего источника, который еще совсем недавно искрился и переливался в глазах, смехе. «Помнишь наших родственников, живших по-соседству? – говорила тетя Цыра, влажно блестя глазами. – У них дом был двухэтажный, с бассейном. Так вот, муж её, Зураб, погиб, дом сгорел, все пропало. Неля с сыном, снохой и внуком уехали, куда глаза глядят, в Калининград. Сыну ее повезло, устроился водителем дальних рейсов. Но однажды заснул за рулем, устал очень, и разбился. Сноха слаба здоровьем, без прописки на работу не берут, тут с пропиской не устроишься. У внучка, Теймураза, открылся великий дар: он на скрипке играет, как Паганини. Первые места берет на международных конкурсах. Даже за границей его знают! Ему платят пенсию. Да Нелина пенсия. Вот и весь доход. Грозят их выгнать с квартиры, — давно не платили, не хватает на жилье». Тетя Цыра плакала. Тем же вечером мы гостили у моей давней любимой подруги, пожилой женщины, похожей на большого мудрого ребенка, жены генерала. В войну она потеряла дочь, один сын вернулся без руки, другой – без ноги. Теперь она не могла подолгу оставаться одна и спасалась обществом людей.
У цыриной соседки Тамары муж вернулся с войны инвалидом. Теперь, в послевоенном Сухуме дома больше не отапливались, поэтому заболел сын Тамары и вскоре превратился в хроника, а во время наступления в неразберихе пропала ее шестилетняя дочка. Девочку безуспешно искали целый год, пока ее случайно не заметил родственник Тамары, — малышка стояла посреди вокзальной площади. Он вернул девочку матери, которая за это время вся поседела. «Слава богу, мы теперь вместе, мне большего счастья не надо», — сказала она со слезами. Теперь ей приходилось работать на трех работах, чтобы содержать семью. Но она не роптала: ведь большинство и одной работы не могли найти.
Наутро мы пошли вместе с тетей Цырой на новое кладбище мемориал с высоким памятником — символом, означающим меч, опущенный клинком вниз. Его рукоять была испещрена тотемными родовыми знаками. Я ходила вдоль мраморных плит с белыми высеченными абхазскими, грузинскими, русскими, армянскими, адыгскими фамилиями, среди которых было 63 кабардинских; все фамилии заканчивались по- абхазски на ипа, с датами жизни, не дотягивающими до тридцати. «Во времена моего прадеда, — сказала тетя Цыра, — почти 80 тысяч абхазов было выселено в Турцию. Во времена деда мы пережили первую мировую и гражданскую, во времена отца гибли во второй мировой и от сталинских репрессий, а теперь снова гибнем в новой гражданской, в которой потеряли три тысячи человек. Правители меняются, причины меняются, у все остается по — прежнему».
На обратном пути мы с Дисой зашли в мастерскую Баграта, сына Цыры: «Вы будто только что родились из морской пены!»
-Ты ничуть не изменился! Такой же дамский угодник.
-Как жаль, что этот туннель так и не был построен, иначе вы могли бы приезжать из собственного дома за какие – нибудь четыре часа!
Мы переглянулись: «Какой туннель?»
— Его должны были пробить еще в недавние советские времена, тогда он мог бы соединять три родственные республики с Абхазией.
— Почему же он не был построен?- спросила я.
-Кто его знает, — сказал Баграт, — Мы в любом случае не узнаем всей правды, может быть, наши далекие потомки…
Он оборудовал один из покинутых уцелевших одноэтажных домов. Через абхазских эмигрантов он уже продал несколько картин в Англии. «Накоплю необходимое и уеду, — сказал он, — а потом своих вытащу. Не думаю, что здесь что – то измениться в ближайшее время, за мою жизнь, по крайне мере».
Баграт повез нас в Новый Афон. По всему пути следования – полые дома, в пробоинах, с черными глазницами, сломанные плодовые деревья, истекающие соком.
Вскоре на высоком холме показались сверкающие купола семиглавого монастыря Симона Канонита, увенчанные крестами, долгий перезвон которого мы слышали еще далеко до Нового Афона. Мы поднялись по широкой тропе, ведущей наверх, одели косынки и вошли в храм. Я медленно двигалась в его гулкой сумеречной прохладе, слабо пахнущей ладаном и воском, изучая изображения святого белобородого старца, ставшего свидетелем чуда в Кане Галилейском, и огромную картину Страшного суда с сидящим по центру Христом, по правую руку которого облекались во плоть праведники, тянущиеся к нему, по левую – грешники, что в ужасе бежали прочь.
Мы пешком дошли до пещер, разместились в одной из маленьких вагонеток. Состав дрогнул и с грохотом помчался вниз…
Впереди обозначился темный проем первой пещеры. Пахнуло сырой прохладой – особой, без примеси каких бы то ни было запахов. Из пола росли гигантские свечи сталактитов, освещенные матовой подсветкой. Где-то сверху, на невидимом каменном куполе скапливался конденсат и со звоном ударялся о каменное дно пещеры. Переходя из одного зала в другой, я увидела наверху гигантский силуэт женщины в длинном одеянии, слегка склонившей голову, — высеченный временем древний каменный дагерротип Гунды Прекрасной, а позже, в шестом зале, зайдя за величественную, причудливо скроенную невидимыми духами сталагмитовую занавесь, мы оказались перед настоящим подземным водопадом, около которого возвышалась невысокая пологая сталактитовая гора, облепленная человеческими фигурками с главной, (напоминающей мужчину в папахе), что возвышалась по центру: это была Хаса Нартов. Медленно переходя из одного зала в другой, мы погружались вглубь, будто скользили по каменному лабиринту гигантской улитки: вниз, вниз, ближе к самому сердцу земли, туда, где сворачивается в спираль пространство и время, где я ощутила различимые гулкие удары в унисон ударам собственного сердца.
Внезапно вспыхнули прожектора и осветили глубокое подземное озеро. Одновременно из-под земли вырвалось мужское многоголосие, ударило о своды и заметалось эхом. Оно проходило невидимый безмерный путь, и возвращалось ко мне, будя дремавшие неведомые воды моего подсознания, которые всколыхнулись от первых же звуков. Источники древней памяти ожили и сочились. В каждом ширящемся и замирающем звуке – узнавание: воскресшие искры давно потухших огней, оживший взгляд давно угасших глаз, и древняя, короткая, как пароль, формула единства – в созвучии, от которого щемит сердце и пробирает озноб. Мой взгляд, не различавший уже бездонной глубины озера внутри пещеры и внутри меня, дошел до точки, где они совместились, и тут на дне его я увидела Алеф. В нем было все пространство вселенной, причем ничуть не уменьшенное. Каждый предмет был бесконечным множеством предметов, потому что я его ясно видела со всех точек. Я видела густо населенное море, рассвет и закат, видела толпы жителей Америки, видела серебристую паутину внутри черной пирамиды, и разрушенный лабиринт, (это был Лондон), видела бесконечное число глаз рядом с собою, которые вглядывались в меня, видела лозы, снег, табак, рудные жилы, испарения воды, видела выпуклые экваториальные пустыни, каждую их песчинку, видела круг земли на тротуаре, где прежде было дерево, экземпляр первого английского перевода Плиния, видела одновременно каждую букву на каждой странице, видела ночь и тут же день, видела в одном научном кабинете глобус, лошадей с развивающимися гривами на берегу Каспийского моря на заре, видела изящный костяк ладони, видела уцелевших после битвы, посылавших открытки, видела в витрине испанскую колоду карт, косые тени папоротников в зимнем саду, персидскую астролябию, циркуляцию моей темной крови, видела влияния любви и изменения, причиняемые смертью, видела Алеф, видела со всех точек в Алефе земной шар, и в земном шаре опять Алеф, и в Алефе земной шар, видела свое лицо и свои внутренности, потом у меня закружилась голова и я заплакала, потому что мои глаза увидели это таинственное, предполагаемое нечто, чьим именем завладели люди, хотя ни один человек его не видел: непостижимую вселенную.
Одновременно я все это время рядом с собой чувствовала присутствие Дисы, как некую центростремительную силу, которая всегда действует, хоть и не ощущается. Как только мы вошли в пещеру, я поймала себя на мысли, что она раствориться в этой грандиозной стихии, станет затерявшейся молекулой в необъятном подземном пространстве. На какое-то время я потеряла её из виду и почувствовала беспокойство. Внезапно Диса появилась, бросила короткое «идем» и стремительно потащила меня за собой, легко и крепко удерживая мою кисть. Она удивительно быстро находила дорогу по еле различимому каменному полу, увлекая меня к темному углу. Там начинался такой же невидимый подъем, который она легко преодолела, не отпуская моей руки, пока перед нами не открылась довольно обширная гладкая площадка, слабо освещенная прожекторами. Она улыбнулась, стала в центр и вскинула руки. Она танцевала. Мне даже не пришлось удивиться, так органичен оказался этот танец здесь и сейчас. Его так же невозможно было отделить от подземного пространства, как глубокое озеро, абхазское многоголосие и мерный звук падающих сверху капель. Однако танец её никак не вязался с атмосферой трагического величия, оставленной затихающими звуками песен. Это была импровизация в каком-то испанском стиле, что-то похожее на фламенко с элементами степа. С уверенной, почти мужской грацией кисти были приложены к бедрам, которые еле видно покачивались; при этом она удерживала абсолютно ровный корпус и выбивала каблуками четкий, несинхронный ритм. Её склоненное лицо с возбужденной детской улыбкой, полузакрытое черными прядями. Справа её освещал скудный желтоватый свет, он целиком выхватывал сильную, стремительную фигуру, почти подростковую, лишенную женских округлостей, кроме тугой груди. Ни одного искусственного или неверного движения, вся подчиненная строгой, почти резкой пластике танца фигура, с первого же движения охваченная сдержанной страстью его духа, будто он всегда жил в ней, ожидая своего часа, когда, расправив спящие до поры крылья, воплотится в стремительном полете на каменной площадке подземного мира. Я чувствовала, как начинаю медленно кружить по замкнутому кругу, обозревая разом со всех сторон девственные очертания её тела; загадочный мерцающий источник в нем снова переливался через тесные пределы, поглощая, подобно космической черной дыре, окружающее пространство. Я ускоряла свое вращение по концентрическим кругам знакомой магической воронки, ближе и ближе к темному центру, засасывающему мгновенно и беззвучно; черный сосок небытия, к которому я неуклонно продвигалась с обреченным сладострастием смертника.
Внезапно она остановилась, резко обернулась ко мне через плечо, вздернув победоносный точеный носик: лукавый глаз под длинной изогнутой дугой, полные полураскрытые губы и спутанная сетка тяжелых волос. Ворот блузки распахнулся, открывая глубокую чистую линию ложбинки, сбегающей вниз. «Где ты этому научилась?» — только и могла промолвить я. «Разве этому нужно учиться?» — ответила она с улыбкой, все еще глубоко дыша.
Мы отстали, поэтому пришлось добираться одним по длинной подвесной лестнице, перекинутой через невидимую пропасть; перед нами только маячил слабо освещенный зев следующего зала. Пещера оказалась последней, — округлая, наподобие амфитеатра. Подсветка, направленная на стену, создавала полную иллюзию горного водопада. В толпе туристов я увидела девочку лет семи, лицо которой мне показалось очень знакомым. Я вздрогнула: она была точной копией моих детских фотографий.
Лучезарное дисино тело свободно раскинулось на двуспальной кровати. Мои чувства были растрепаны, я хотела хоть какого-нибудь общения. Но будить её было бесполезно: однажды дисины припозднившиеся родители полночи кричали и стучали, но не смогли добудиться дочери. Кончилось тем, что они взломали входную дверь. Я увидела прелестное запястье с пульсирующей голубой жилкой: Nervus vagus, законно вступивший в свои права, перевел сердечную деятельность на экономный режим работы. По ней можно было изучать великолепную клиническую норму («число сердечных сокращений 60 в одну минуту, хорошего наполнения и напряжения»). Я потушила свет, и комната заиграла светотенями, только тело Дисы светлело на белом пятне постели. В моем сознании, настроенном на определенный поэтический лад и обремененном литературными ассоциациями, теснились чьи-то стихи (Блока?): «Мрак ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица», «ни печальная, ни веселая», ветхозаветные строчки «Песни Песней» и еще какая-то литературная мешанина. Я еще долго слонялась, и когда Диска видела седьмой сон, записала стихи, сложившиеся без усилий:
Афон стоял, торжественен и тих,
Он прятал в глубине мужские слезы,
Лишь бледный луч, разбившийся о них,
Раскрыл страдания и каменные грозы.
И вдруг из недр нас затопил хорал.
Афон запел, его печать сломалась.
А голос и любил, и тосковал,
Тысячекратным эхом отзываясь.
Афон нам откровение дарил,
В доверии своем родной и чудный,
И капал пот с его упрямых жил,
И луч бродил по ним, рассеянный и блудный.
Знакомая и древняя строфа
Звала меня из глубины столетий, —
Они бесшумно жили в стенах этих,
Сворачивая в песни имена.
Наутро мы снова были в мастерской Баграта. Многие приходили с нами повидаться, и каждого он представлял с неувядающей энергией, освещая малейшие ответвления бескрайней адыго-абхазской родословной, с уверенностью былого путешественника пускаясь в темные петляющие лабиринты кровного родства. Я была не столь одарена по части усвоения генеалогии, и многие связи не сразу воспроизводились в моем сознании, но в одном я уверилась наверняка: в том, что сам Баграт являлся близким родственником Жанос. Пришла пожилая женщина в черном, и все присутствующие встали. «Это тот сюрприз, о котором я говорил,- шепнул мне Баграт, — она тебе сама все расскажет». Он только представил нас. Небольшая, очень прямая и стройная, со спокойными черными глазами на бледном лице, Нина Ираклиевна казалась сошедшей с кинолент Абуладзе. «Я знаю некоторые сведения из жизни вашего дедушки, — негромко сказала она, опустив все дежурные фразы.- Поскольку ваш отец занимается его творчеством, то и ему небезынтересно будет узнать. Мой отец сидел в одном бараке с вашим дедом. Они подружились, и их обоих объявили коммунистами. Но моего отца спасла семейная фотография, где были изображены они с мамой. «Коммунисты так не фотографируются», — заявил один авторитетный немецкий офицер. На самом деле, отец не был коммунистом. Он прекрасно пел. Однажды его пение услышал кто-то из офицерского состава. Он спел и попросил создать хор. Ему повезло: немцы согласились. Он сплотил прекрасный грузинский хор, так как обучил всех множеству грузинских песен, но исполняли они песни всех народов. В этот хор входили грузины, абхазцы, армяне, русские, евреи, азербайджанцы, украинцы, — все, кто мог и хотел петь. Словом, интернациональный хор. Первое время в него входил и ваш дедушка, кабардинец. Отец рассказывал, что он отказывался от баланды, очень обессилел и вскоре уже не мог петь. Но когда слушал хор, у него выступали слезы. Однажды он передал моему отцу стихотворение, написанное в лагере. Вот оно, — и Нина Ираклиевна передала мне конверт, — Господи, какая судьба…, — она посмотрела мне прямо в глаза и коснулась прохладными пальцами моей щеки, — Моему отцу повезло, — продолжила она после некоторого усилия, — его выкупили грузины – эмигранты из Франции. Такое практиковали в начале войны, — можно было выкупать не коммунистов. Так он попал во Францию, а после окончания войны вернулся на родину, в Сухум… Вы, наверное, знаете обстоятельства гибели вашего дедушки?» — тихо спросила она, глядя на меня сухими, темными глазами. Я знала, но попросила: «Расскажите то, что знаете вы ». – «Он умер от голода. И был похоронен вместе с другими военнопленными в соседнем лесу, неподалеку от концлагеря… Дай бог, детка, прожить вам то, что он не успел»,- голос её чуть дрогнул, она крепко обняла меня, извинилась и тихо вышла. Нам поведали её историю. Она была грузинкой, женой крупного абхазского ученого. Её сын, молодой талантливый физик, работал в московском космическом центре, приехал домой за день до войны, а за день до отъезда был убит шальной пулей. Он был одет в белоснежную рубашку. Мне еще долго представлялась белая-белая рубашка с красным пятном на груди. Её муж заболел и долго не мог работать. Оставлять свои рукописи и бумаги было небезопасно. Он собрал все самое ценное и поместил в центральный архив. Через неделю архив сгорел, из бумаг ничего не осталось. Пол — года спустя муж Нины Ираклиевны умер от сердечного приступа.
Вернувшись на квартиру родственников, я осторожно вынула из конверта жёлтый лист бумаги. Он был потёрт и в нескольких местах осыпался по краям. Но слова были видны почти отчётливо, и стремительные строчки напоминали почерк моей матери.
ВЕСТНИК.
Впрямь ли, вестник, ты за мною?
Не ошибся ли ты дверью?
В бытие влюблен земное,
Я в загробное не верю.
Так зачем же и на мне ты,
Спешно так и столь некстати ,
Роковые ставишь меты
Госпожи своей печати?..
Дай пожить мне! Напоследок
Должен я еще за нашу
Долгожданную победу
Осушить с друзьями чашу.
Так отсрочь, арканщик, ловлю,
Не захлестывай петлею!
И трудами, и любовью
Слишком связан я с землею.
(А.А. Шогенцуков, «Вестник»)
***
Я отворила дверь и задохнулась от её свежего сильного дыхания. Оно ворвалось в мой затхлый дом и наполнило его терпким чистым ароматом цветочных лугов. Они разгоняли привычный душный чад, будоражили, будили. Она занесла сквозняк, и он до её ухода разбивал окна и грохотал среди оглохших комнат. Она разом отразилась во всех мутных зеркалах, и они изумленно поглощали небывалое яркое многоцветие её одежды, трепещущей на сквозняке, летящие черные волосы и смуглые босые ноги.
Сквозняк гулял по квартире, как свирепый хозяин, вытряхивал из комодов одежду, пахнущую нафталином, и она реяла в воздухе вместе со всевозможными бумажками и мелкими предметами; сорванные с книжных полок книги, как неуклюжие тяжеловесные голуби, носились в струях ветра, трепетали бумажными крыльями. Сквозняк перевернул постели, сдернул простыни, и они плавали под потолком прямоугольными облаками, дребезжала посуда в шкафах, звучно хлопали двери и звенели разбивающиеся стекла оконных рам.
Она стремительно прошлась по моему дому, и он продирал глаза, пытаясь справиться с наваждением. Когда она шагала, её юбка огромным цветным колоколом развевалась вокруг крепких стройных бедер; она смахнула полой полевые цветы вместе с вазой, которая разбилась вдребезги, и теперь из складок юбки сыпались цветы и падали ей под ноги, и тонкими прозрачными струйками стекала вода. Её юбка смахнула пыль со старой мебели, и та суматошно металась по комнатам. Внезапно мы встретились глазами и она остановилась, уперев руки в гибкие бока.
Она, как ни в чем ни бывало, протянула мне ржавую железку: «Давай так, — я тебе дам эту подковку, — её ковал мой жених, а ты мне — ненужные вещички, а?»
Я смотрела в её черные, пламенеющие призывом глаза, вглядывалась в дерзкие смуглые черты, и мной овладевало тяжелое недоверие. Она была слишком прекрасна, чтобы ей поверить.
-Ты просто лживая цыганка, — произнесла я затвердевшими губами, — убирайся, — и тяжело закрыла глаза.
Я услышала звон стекла и открыла глаза. Я была в чужой обстановке. Никого не было, лишь к комнате царил хаос и беспорядок, скрипела оконная рама, затихающий ветер развевал занавесь, стоял аромат рассыпанных по полу полевых цветов из разбитой стеклянной вазы.
Я знала, что это тот самый сон. У меня никогда не было доказательств. Они были не нужны, эти сны я просто узнавала. Подкова – название моего города. Символ счастья – в руках прекрасной лживой цыганки.
В комнату вошли бледные Диса и Баграт: «Дина, Сейчас звонил твой брат. Нужно возвращаться домой».
-Что случилось?
Плечи Дисы беззвучно тряслись.
Мое сердце на миг застыло и с шумом захлопнулось, как крышка пустого ящика: «Кто?»
-Мама.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. В ГОРОДЕ СЧАСТЬЯ
В КВАРТИРЕ БАБУШКИ
После похорон матери в нашем доме стали происходить странные явления. Раскрыв траурно завешенное простынею зеркало, вместо собственного отражения я увидела в нем ее улыбающееся лицо. Другой раз оно отразилось на экране потушенного телевизора. Вскоре я спросила об этом близкую родственницу, тщательно подбирая слова. «Вы сразу завесили все зеркала?» — спросила она. «Не помню», — призналась я. Многозначительный взгляд и высоко поднятые брови явились её немым объяснением.
С тех пор оно поселилось в нашем доме: по утрам посещало кухню, — я ненавидела готовить завтраки. Чашки, тарелки, кастрюли передвигались сами собой, к счастью, на незначительное расстояние. Смахнув однажды поднос с чаем, я наблюдала, как он остался парить в воздухе, терпеливо ожидая своей участи, пока я тщетно размышляла, что же из съеденного накануне могло явиться очередным галлюциногеном (какие-нибудь грибы?) Иногда оно просто сидело на диване или кресле и, как обычно, тихо раскачивало люстру. Книга матери каждый раз открывалась на одной и той же странице, пока меня, наконец, не осенило: лекция, которую она готовила накануне смерти, так и осталась непрочитанной. Я позвонила с просьбой её коллеге, та вскоре прочла лекцию, и книга больше не раскрывалась. Иногда случались передышки, когда оно на несколько часов отлучалось, возможно, посещало другие памятные места. Дом погружался в тягостное ожидание, так как за этим следовала странность особого рода: вскоре через раскрытые окна к нам залетали белоснежные бабочки-капустницы. Если окна были закрыты, они просачивались через приоткрытые форточки. Однажды мы плотно закупорили окна и двери, и они бились в стекла до тех пор, пока часть из них не упала замертво.
Отец спасался, запираясь на ключ в кабинете, и сидел ночами без сна с зажженной настольной лампой, брат уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Я тоже обегала весь город, бесцельно заходя в магазины и находя себе дополнительные дела, возобновила прерванные тренировки на стадионе и убегала от него в ежедневном марафоне, отмеряя бесконечные круги.
Придя в себя после первого потрясения, брат сказал: «Вообще-то раньше, при жизни мамы все это отчасти укладывалось в телекинез. Но теперешняя чертовщина… Я давно замечал, что наша семья не дружит с законами физики… Но смотри, никому — ни слова. Все равно никто не поверит, разве только угодишь в места не столь отдаленные». Мне пришлось с ним согласиться. Теперь было ясно: оно и не думало уходить. Надо было или мириться с его присутствием, или бежать. Я выбрала второе. Впрочем, убежала я недалеко, в квартиру моей бабушки на соседней улице.
Двухкомнатная квартира была старого образца: с большими просторными комнатами, высокими потолками, во времена моего детства- без сан. узла и газовой печи, с керогазом. Теперь она стояла пустая, ею лишь время от времени пользовались родственники, наезжающие в город. После безликой крошечной квартирки родителей, в которой я жила в детстве, эта казалась мне особенной, в первую очередь из-за атмосферы, заполнявшей все её пространство. Она расковывала и будила мое воображение, а строгий, почти аскетический интерьер определял его направленность. Надежным и добротным было все, — от волнистой поверхности старого большого шкафа орехового дерева до широких деревянных кроватей с фигурными спинками, простой и удобной мягкой мебели, обтянутой светло-серыми чехлами, которые стирались и утюжились раз в две недели, как и постельное бельё. Свежевыкрашенные дощатые полы в зале были выстланы темно-бардовыми дорожками с зеленой каймой по краям. Пол, всегда прохладный и чистый, мылся через день, причем с пяти лет это было моей высокой обязанностью, и если мама это занятие просто запрещала, очевидно, предвидя последствия моей уборки, то бабушка поощряла, и я, польщенная доверием, ползала с мокрой тряпкой, обдирая коленки, но вымывала все до конца. Правда, бабушка их всегда перемывала в мое отсутствие, но об этом мне стало известно много позже. В квартире витал особый запах свежести со слабой примесью нафталина, а белоснежные занавеси на приоткрытых окнах пузырились утренним и вечерним ветром. В кухне стоял деревянный буфет, в котором я знала любую мелочь, потому что у каждой было свое лицо. У меня были особенно любимые вещи: изящный розовый многогранный графин с притирающейся крышкой в форме бутона, — он был прозрачным, но грани странно дробили и преломляли окружающие предметы и, глядя сквозь него, я оказывалась в другом волшебном мире; такая же вазочка на высокой ножке, стеклянная пузатая сахарница с серебряным ободком и серебряной инкрустированной крышкой. Но самой любимой была маленькая фарфоровая чашечка, светло-салатная изнутри с четырьмя мелкими малиновыми цветами. Узкое дно ее, — выпуклое мутное окошко, сквозь которое угадывался смутный образ, но его невозможно было разглядеть. «Налей воду и все станет видно»,- сказала бабушка, показав мне чашечку впервые. «Что?»- не выдержала я. «Налей и увидишь». Я наполнила чашечку водой, и в круглом окошечке появился образ прекрасной женщины в короне. «Кто это?» — воскликнула я, еле сдерживая восторг. «Это ты, когда станешь взрослой». «Но это же принцесса!» — «Ты и будешь принцессой», — серьёзно сказала бабушка. В комнате на трюмо стояла статуэтка танцующей пары: он и она в кафе. Я подолгу рассматривала фигурки, и вскоре они начинали парить в воздухе; женщиной была я.
Пять раз в день бабушка делала намаз. Я не могла удержаться, и запускала обе руки в податливый нежный ворс белой овечьей шкуры, он шелковисто скользил между пальцами и слегка холодил их. Бабушка опускалась на колени, беззвучно шевелила губами и кланялась, касаясь лбом ворса. После молитвы она еще долго стояла на коленях, перебирая коричневые в крапинку прохладные четки. Я старалась в это время встать или забежать на шкуру, — меня забавляло, что бабушка, занятая молитвой, не имела права отвлечься на замечание: она только выразительно посматривала на меня и хмурила брови, но в глазах всегда дрожал веселый смех. Втайне от других, в первую очередь от мамы, она учила меня молитвам. «Шайтан часто заходит в дом. Прочти кульхоля или аяталькурси (наиболее известные фрагменты из Корана – М. Х.) десять раз, и тогда вся нечисть сгинет». Она мне рассказывала о Джабраиле, который на 42 день вдыхает душу в тело нерожденных младенцев в утробах матерей, Мусе, Мачраиле, Хазраиле, Исрафиле (Мусульманские пророки – М. Х.), который может входить к мертвым. «Не думай, что ты когда — то бываешь невидима. У каждого человека два малиич (ангела – М. Х.), сидящих на плечах. Когда человек уходит, один идет за ним, а другой остается дома. Во время молитвы ангел доносит её до божественного занавеса, он раздвигается, и ангел доводит молитву до Всевышнего, и каждый делами и мыслями своими предстает перед Богом. На того, кто искренне верит во Всевышнего и его милость, он посылает ахрат (благословение – М. Х.) — и последний грешник спасается». В ауле, например, рядом с бабушкиным домом жил человек, который однажды рубил дерево и встретил шайтана. С тех пор он перестал говорить и молчал тридцать лет. Этот человек был нечист на руку, у кого-то даже своровал всю картошку. «Хоть мешки верни», — сказали ему. Но однажды на него снизошел ахрат, и он заговорил, и сознался каждому, перед кем согрешил.
После смерти, продолжала бабушка, Бог складывает дела умершего на весы, чтобы человек попал в рай, и его ангелы на чашу добра кладут даже палку, которую умерший дал как псапа (благо, добро, подать для очищения от грехов – М. Х.) , чтобы эта чаша перетянула другую, на которой все зло и грехи, совершенные в течении жизни. Добрые дела опережают смерть. В одном ауле хоронили женщину, которая только и сделала хорошего, что сшила пару детских чувячек. Так те башмачки танцевали впереди носилок, сопровождая покойную в последний путь.
Она рассказала мне историю про архангела Джабраила. Однажды к сиертельно больному пророку явился архангел Джабраил. «Когда ты вернешься еще раз после моей смерти?» — спросил его пророк.
— Мне нет нужды возвращаться в этот мир после тебя, — ответил Джабраил. – Я приду только для того, чтобы вернуть 10 драгоценностей.
-Какие же это драгоценности? — спросил пророк.
— Первая драгоценность, за которой я приду, чтобы забрать ее из мира – это беречет (щедрость, богатство, благополучие, — М.Х.)
— Вторая драгоценность, которую я извлеку из сердец людей – любовь друг к другу. Третья драгоценность, которой они лишатся – милость к родственникам. Четвертая – стыд и совесть женщин. Пятая – терпение бедных. Я лишу щедрости – богатых, богобоязненности – алимов и справедливости – правителей.
«Восемь раз приходил Джабраил на землю после смерти пророка, — сказала бабушка. – Говорят, осталось только две драгоценности – священный Коран и вера. Их необходимо сохранить».
Бабушка считала, что каждый человек к чему — то призван, и это написано у него на лбу. Иной раз это так хорошо видно, что, тщательно приглядевшись, увидит каждый. У других видно в святой день, пятницу. А если не в пятницу, то проявляется порой, когда человеку очень трудно или сразу после трудностей.
Иногда при рождении ребенка бог оказывается рядом и касается своей рукой: дотронется до лба – и тот станет мудрым, до глаз — зорким, до сердца — добрым, до руки — талантливым мастером, до языка — великим джегуако (народный певец и стихотворец — М. Х). А порой он невидимо вдыхает в младенца свой дух, и тот вырастает избранником, пророком, который связывает людей с богом. Но Всевышний оставляет на лбу не только свою отметину предназначения, но и метит недостойных, о которых бабушка говорила: «Беги от недостойных, как от чумы. Ты их никогда не поднимешь, но они тебя опустят».
-Недостойные — это плохие?
-Нет, плохих не так много и их сразу видно. А недостойные — это те, что делают тебя хуже, чем ты есть.
-Как же их распознать?
— Это тоже написано на лбу. Нужно только внимательно присмотреться.
— А если все-таки не увидишь?
— Тогда наблюдай за собой. Как изменишься так, что себя перестанешь узнавать, и скажешь однажды: «Как случилось, что я так опустилась?» Вот тогда и узнаешь. Но как бы не было поздно.
— А как выглядят недостойные?
— Чаще всего у них старое сердце, старые глаза и бессильный смех.
— Это – старики?
— Нет! Я видела много юных стариков и старых юнцов. Я видела, как в 120 лет умирали молодыми, а в 30 умирали от старости.
-А почему ты не знаешь русский язык?
-Не научили.
-Почему все люди говорят не на одном языке, а на разных?
-Так решил господь. Однажды все люди, жившие на земле, задумали построить башню, которая бы достигла небес и даже небесной святой обители. Выстроили они её огромной и высокой, но работа остановилась: чтобы башня достигла небес, каждый предлагал свой способ строительства. Увидел господь, что все люди скоро подерутся и перебьют друг друга, и наделил их разными языками, чтобы они больше не понимали друг друга, но каждый народ нашел свой путь к небу.
Порой дремотную тишину утра разрывали резкие гудки грузовика с цистерной, на которой белыми большими буквами было выведено «Молоко», и к нему выстраивалась полусонная вереница домохозяек с бидонами. Иногда приходил старьевщик, унося целые мешки ветоши и поношенных вещей. Примерно раз в месяц весь двор оглашался громким криком: «Точу ножи-но-ожницы! Точу ножи-но-ожницы!» — и на горизонте появлялась тощая фигура точильщика, всегда в одном и том же обличье: брюках и пиджаке неопределенного цвета и формы, в очках с неправдоподобно толстыми стеклами; на правом плече у него висел увесистый станок. Пока точильщик работал, я наблюдала за огненными искрами, которые разлетались во все стороны, когда металл с нарастающим визгом проходился по вращающемуся каменному точильному кругу.
К бабушке приходили родственники, соседи, друзья её детей, друзья всей семьи, друзья родственников, знакомые и малознакомые. У нас постоянно кто-то жил, — то сын племянницы, то дочь двоюродной сестры, и среди этого калейдоскопа лиц и характеров координирующим центром и началом была бабушка, высокая, статная, с изящной головой, вознесенной на стройной еще шее, со слегка проступающими высокими скулами под тонкой кожей. Серые лучистые глаза, огромные, осененные пушистыми ресницами и тонкое узкое лицо являло собой таинственное сочетание нежности и мужества; лицо, похожее на окно: как за прозрачным стеклом — обозреваемый мир, так за хрупкой женственностью его проступала сила, а спокойный ясный взгляд, постигая всё видимое, проникал, казалось мне, в самое сердце людей и предметов, а может быть, самой земли, туда, где жизнь перетекает в смерть, а смерть – в жизнь.
При всей скромности и простоте быта, бабушка умудрялась «из ничего сделать нечто» (по выражению папы), любого гостя и домочадца досыта и вкусно накормить; во мне сих пор сохранились ощущение и аромат каждого блюда. Я любила наблюдать за её руками, когда она готовила, и уверенными неспешными движениями ежедневно месила тесто на лакумы (сдобные лепешки – М. Х.). Они получались золотистые, прямоугольные и большие, я разносила их соседям по четвергам (верующие адыги разносят лакумы перед святым днем, пятницей, за покой умерших). Мои имели форму ленточек и колечек, и съедались мною же. Бабушка не любила много говорить, а уж жаловаться вообще не умела, но меня удивляло терпение, с которым она каждого выслушивала, не перебивая. После неё я не встречала людей, которые могли бы так молчать: когда кто-то говорил, её молчание напоминало свежий ветер, который заполняет дом через распахнутые окна, — поэтому любой человек выговаривался до конца. Когда я её изводила ( например, в течение получаса пряталась под столом, и она, не находя, шла искать меня во двор), последующее молчание напоминало огромную волну, что отхлынула от берега, чтобы накрыть с головой. Порой она смотрела на меня с молчаливой улыбкой, и глаза её расцветали, как весенние первоцветы.
Чаще других к нам приходила бабушкина подруга, Жанпаго, худощавая, смуглая, с ястребиным профилем и черными пронзительными глазами. Она горячо и много говорила, резко двигалась, поэтому каждый раз от меня требовался стакан воды — ледяной. Я скучала на кухне, ожидая, пока стечет вся вода комнатной температуры и появится ожидаемая. Жанпаго быстро меня благодарила и вскоре заказывала другой стакан. Еще бы! Она была так озабочена и возбуждена, и без конца жаловалась бабушке. Бывают же такие бедные люди, думала я. «Почему она всегда жалуется, она что, такая несчастная?»- спросила я как-то, когда Жанпаго ушла. «Жалуется тот, на кого падает дерево, и тот, на кого — лист»,- ответила бабушка как-то неопределенно. Но я не стала уточнять: бабушка отвечала только раз. В следующий визит Жанпаго я ради шутки подсыпала ей в стакан немного соли и подала его как ни в чем не бывало. После первого глотка бабушкина подруга вспыхнула, на её смуглых щеках проступили малиновые пятна. Стакан с тупым звоном опустился на стол: «Если бы ты относилась ко мне хорошо, ребенок бы так не поступил!» — заключила она. Я пыталась защитить бабушку и твердила, что сама виновата, но меня никто не слушал. После поспешного бегства оскорбленной Жанпаго бабушка меня почему-то не ругала. Молчание её было ни на что не похожим, оно было странным. Я опасалась, что бабушкина подруга больше не придет. Но та явилась достаточно скоро, и примирение произошло.
Предметом моей тайной гордости являлась моя переводческая миссия. Бабушка почти не знала русского, поэтому при наших совместных ежедневных походах на базар или магазин я, невидимая за прилавком, бойко переводила требуемое русскоговорящим продавщицам.
У бабушки была тайная страсть: она очень любила народную музыку и всегда плакала, слушая «Истамбыляко» (адыгская народная песня о насильственном выселении адыгов в Турцию – М. Х.). Во время поездок в Баксан мы не пропускали ни одного выступления народных певцов, и во мне отложились смутные воспоминания: героические адыгские песни в исполнении 5 или 6 мужчин в национальных одеждах. Это был баксанский дом культуры или клуб с голой сценой, битком набитый людьми. Она частенько водила меня в соседний дом, где жила её приятельница, которая пела и играла на пшинэ (адыгская гармонь). Сама же бабушка никогда не пела и скрывала своё увлечение. По — моему, она считала это собственной слабостью.
Только иногда, в самых крайних случаях бабушка жаловалась на меня маме, та вспыхивала и медленно накалялась в течении короткого и явно облегченного пересказа о моих проделках, по завершению которого всегда пыталась меня отшлепать, но бабушка заслоняла меня собой, теперь уже портя отношения с мамой.
АДИК
В любой благоприятный момент я выбегала во двор — широкий, округлый, ограниченный со стороны дома старыми высокими тополями, а в глубине — деревянным кордоном сараев. И двор, и дом в моем сознании были продолжением бабушкиной квартиры и входили в единое общее понятие бабушкиного дома. Он был светлый, в три этажа, со сквозными подъездами- самый уютный остров в теплых прозрачных водах моего детства. Так же легко, как попасть со двора на улицу и наоборот, можно было переходить из одной квартиры в другую без ущерба подмочить незапятнанную пока репутацию воспитанной девочки, — двери никогда не запирались до ночи. Я могла не успеть подметить все детали, но мигом, жадно вбирала в себя любую атмосферу и запах старого дома, впитывала кожей, и они, как штамп, отпечатывались в памяти навсегда, так же, впрочем, как и особенности облика каждого из его обитателей. Через незапертые двери квартир с легкостью вылетали и витали в воздухе текущие события каждой семьи: что ребенок у Унажоковых заболел и попал в больницу, а в 17 снова скандалили, а муж даже бил посуду, что у Хамида скоро будет новая свадьба, а его мать, Саса, снова недовольна будущей снохой; что жиличка из 28 квартиры, что живет с хозяевами, таскает еду из ресторана, в котором работает официанткой, и прячет её внутри дивана, на котором спит; что будет большая выставка картин бородатого художника Саши из 11; что в самую шикарную квартиру на втором этаже, где круглый год едят заморские фрукты, снова наведывался милиционер; что доберман Сметневых нагадил перед дверью Молокянов, и дядя Тариэл поднял страшный шум, так как это уже не первый раз; что у Гузеевых прорвало трубы и затопило потолок Чехрадзе, но дело кончилось миром; что тетя Дора очередной раз требует развода у своего блудливого мужа, а дядя Гена из 70 умирает от рака.
В доме у меня было три подруги: Лялька, бабушка которой была подругой моей бабушки, а ее мать – подругой моей матери, Фатя (я любила ходить к ней в гости: у меня захватывало дух от вида китайских диванных подушек, обтянутых атласными чехлами с изображением диковинных экзотических птиц, похожих на павлинов) и Сакинка. Квартира ее походила на подвал с двумя отсеками — прихожей (он же являлся кухней), и единственной комнаты, кишащей вечно орущими маленькими братьями и сестрами, за которыми она должна была ухаживать. Темноту кухни — прихожей с затхлым запахом старого помещения оживляло синее пламя керогаза, на котором вечно что – то кипело, а мать Сакинки ругалась, что старшая снова убегает, вместо того, чтобы присматривать за младшими детьми. Вместе с нашей дворовой командой мы до ночи носились, играя в казаков – разбойников и прятки, метали мяч в неуловимого юркого противника, проникаясь веселой яростью «вышибалы», и неторопливо целились в заветные квадраты – «классики» с цифрами, выведенными мелом по асфальту, пристрастно следя за полетом плоского белого камня, и громко отвергали «мазню» в спорных ситуациях, когда камень лишь слегка цеплял белую меловую черту; азартно перепрыгивали через мяч – «козла», высоко и звонко ударявшего в глухую торцевую стену дома или на счет «три» забегали под длинную петлю резинового шнура, который с обеих сторон вращали девочки, и оказывались в ветреном объемном эллипсе мерного свиста, с которым шнур рассекал воздух вокруг тела: «раз, два, три…» — и так, пока не заронишься. Вечером, уже валясь с ног, мы разыгрывали фанты, оседлав дворовой стол с двумя лавками: «на золотом крыльце сидели…», или застывали в смешных позах на считалке «море волнуется». С первых же погожих дней мы охотились за влюбленными парочками, бесшумно прячась за полуголыми еще деревьями аллей, и стоило им только опуститься на отдаленную скамейку, как через миг кто – то выскакивал из – за ее дощатой спинки, голося :
Тили – тили тесто,
Жених и невеста!
Иногда просто предлагалось вкрадчивым тоном: «А теперь – поцелуй!» Влюбленные поспешно уносили ноги, а мы покатывались со смеху. Я презирала собственную слабость, которая мешала мне участвовать в самых занимательных финалах этих выходок, так как они воплощали для меня смелость особого рода; не могла преодолеть внезапной робости, которая в самый решительный момент парализовала меня, несмотря на издевательства и насмешки моих бесстрашных подруг.
При тотально родственных отношениях со всеми жильцами, с некоторыми я со временем по-настоящему сдружилась. Одним из них был Адик, молодой, худощавый очкарик из 52 квартиры, который ночи напролет жег свет, к неудовольствию жильцов, и в первую очередь, своей матери, проглатывая одну книгу за другой, которые множились в его домашней библиотеке, кажется, в геометрической прогрессии. Все пустоты четырех стен единственной комнаты были заставлены книжными полками с двойными рядами. Она стала для меня средоточием некоего мирового духа, когда по одному взмаху худой длинной руки с безошибочной точностью находилась нужная книга и через некоторое время я оказывалась погруженной в её волшебное пространство сопроводительной живой речью, как магическим заклинанием. Времена, исторические и художественные события и множество их воплощавших виртуальных фигур приходили в движение и одновременно совмещались вокруг нас. Если дома я находила преимущественно русскую классику, то Адик владел кроме русской, еще книгами по зарубежной литературе и искусству. Я часами рассматривала цветные и черно-белые иллюстрации Третьяковской галереи, Эрмитажа и знала их в подробностях еще до того, как увидела в подлиннике уже старшеклассницей, во время каникулярных поездок с мамой в Москву и Ленинград, культурная программа которых доходила до «сублетальной дозы» (по выражению брата). До того как увидеть импрессионистов в Пушкинском, я изучила их полотна в мельчайших деталях по прекрасным иллюстрациям. По — моему, в его книжной коллекции были представлены все шедевры живописи, культуры и архитектуры Запада и Востока, начиная с античности, кончая модернизмом. Иллюстрации любого мастера были разложены по периодам его творчества, так что я воочию могла проследить, например, творчество Сальвадора Дали, и его плавный переход от кубизма к сюрреализму. Адик рассказывал мне историю развития живописи, начиная Пуссеном, кончая Ван Гогом, от Рафаэля до Пикассо. Особенно приятно было разделять его симпатии (например, к голландцам), или Эль-Греко, который был «до конца моим» также, как для Адика, и антипатии (к излишней роскоши форм героев и особенно героинь картин Рубенса).
Адик мог часами подробно, с устрашающей точностью комментировать историю создания и особенности любого полотна, например, Гварди и Лоренцо Бернини, и его эффект пространственной иллюзии. Для сравнения он приводил эффект «двойного света» у Рубенса, характерного для средневековой живописи, когда картина освещается не с одного, а двух разных источников. В восемь лет я разглядывала картины Сурбарана: «Детство святой Марии», «Хромоножку» и «Святую Инессу», Д. Веласкеса «Пряхи», «Портрет инфанты Изабеллы» и «Менины», исполненные в жемчужных серо – голубых тонах, и «Вознесение Марии» Эстебана Мурильо. В 10 лет я слушала его рассуждения о стилевых совмещениях готики, возрождения и барокко в картинах Эль-Греко, о сочетание готики и барокко с мавританскими арабскими элементами в архитектуре Испании. Мы вместе просматривали репродукции Ватто, Буше и Шардена, а также картины Джошуа Рейнолдса, в том числе одну, с игривым названием «Амур, развязывающий пояс у Венеры». Я зачарованно взирала на библейские фигуры, освещенные снизу прозрачным сиянием свечи на картинах Латура.
Передо мной проплывали черно — белые иллюстрации сумасшедшего фантастического пространства Эшера, где призрачные пустоты между ровными узорами плотно спаянных косяков рыб, обретающих постепенно абстрактные геометрические формы и превращающиеся в вытянутые прямоугольники полей на земной поверхности, на самом деле являлись птицами, которые тоже трансформировались по тем же законам, что и рыбы, только в нечто противоположное. Я пыталась проследить движение монахов по винтовой лестнице башни, и движение различных человеческих фигурок по пересекающимся траекториям, (следуя по ним, они не видели друг друга, так как находились в разных плоскостях), которые так же естественно и незаметно совмещались, не мешая и не соприкасаясь друг с другом. Я изучала метаморфозы «рептилий» (похожий на живописный фрагмент литературных метаморфоз, что позже прочла у Апулея), когда из книги выползают одна за другой игуаны, проделывают короткий путь по предметам письменного стола и также бесстрастно возвращаются в книгу; и рисунок того же Эшера, изображающий Вавилонскую башню, парящую в облаках. Мне была предоставлена возможность сравнить ее с «Вавилонской башней» Брейгеля, похожей на многоярусный амфитеатр, тоже достигающий облаков и падающий, на манер Пизанской башни, в сторону города. Иллюстрация, отражающая библейское полотно «Несение креста», не выглядела драматично на фоне живописного ландшафта, а «Перепись в Вифлееме» была исполнена не библейского, а народного колорита. Меня впечатлила очевидность конкретных изменений падших ангелов (из одноименной картины «Падение ангелов»), которые, достигнув земной поверхности, становились людьми, а еще ниже — пресмыкающимися, из чего я заключила, что человечество – результат массового падения небесных ангелов, достигших земли, а моя неизбывная тоска по небу, — тоска по утраченному дому, куда обратный путь заказан. Домой возврата нет… Картину Брейгеля «Притча о слепых», в которой изображался ход вереницы слепых в бездну, вслед за первым заблудшим слепцом, Адик объявил символом магистрального движения человечества во все времена. «Можно только отдать должное твоему оптимизму в оценке человечества», — сказала на это мама Адика. «Ничего страшного в бездне нет, — попыталась успокоить я других, но больше – себя, при созерцании жуткой картины и нарисованной Адиком перспективы, и продолжила, памятуя о предыдущей картине, — ведь люди, попадая вниз, превращаются в пресмыкающихся».
Адик привил мне слабость к модерну в самых различных и неожиданных проявлениях. Я подолгу листала цветные иллюстрации Сомова, Бакста и Врубеля, особенно его «Скачущий всадник» и «Демон» («посмотри на его глаза!»). Мне нравился Нестеров, который, по словам Адика, «баловался» на грани реализма и модернизма, Борисов–Мусатов и Шагал. Здесь я узнала Бенуа и Кандинского, раннего Рериха и Коровина, который чудесным образом сочетал модернизм с импрессионизмом. Я подолгу рассматривала Серова, особенно «Портрет Иды Рубинштейн» и «Портрет Ахматовой», автора которого сейчас уже и не припомню. От иллюстраций Обри Бердслея к книге Т. Мелори «Смерть Артура», выполненных в стиле модерн, он увел меня к тератологическому орнаменту, а от последнего – к истокам его возникновения, — к средневековой резьбе викингов. Тот же «чудовищный» орнамент лежал в основе иллюстраций «Как прекрасная Изольда ухаживала за сэром Тристрамом» и «Свита леди Золото», и фронтисписа к альманаху «Желтая книга».
Однажды Адик взял пластинку, коротко кинул «слушай» и включил старенький проигрыватель. Это был безымянный пражский манускрипт под названием «Codex specialnik», — гетерофония или полифония 1500 года, — музыка, прослушав которую, я с полным правом могла себе сказать, что имею понятие о музыке небес. Другой раз он поставил музыку Hildegard von Bingen, жившего 800 лет назад. Это была готическая музыка, аскетическая хрустальная чистота которой возвращала предметам и понятиям отнятые имена. Уже тогда, не умея это озвучить, я почувствовала, что это — благодать, которая изливается на редких счастливцев, чтобы осветить целый мир, который остается нетронутым за решетом слов.
Адик не ограничился живописью и музыкой, но открыл мне парящий мир готической архитектуры, навсегда покоривший меня. «Даже кирпич имеет свою мечту: он хочет быть чем-то большим, чем просто кирпич», — сказал он, и начал в подробностях излагал мне принципы строения готического стрельчатого свода соборов с двумя башнями в Амьене и Реймсе, нефов и цветных высоких витражей. Когда я много позже увидела в Париже Собор Парижской Богоматери, то с замирающим сердцем вспомнила не Гюго, а бесстрастные комментарии Адика с туго спрессованной информацией, и по рисункам роз на витражах определила примерный возраст храма. Он познакомил меня с немецкой готикой; парящие, узкие башни, простые, чистые линии Кельнского собора больше всего соответствовали моим представлениям о готическом стиле, и я была польщена замечанием, что немецкая готика полнее других служит своей основной идее. Он показывал мне соборы Нюрнберга и Фрейбурга, английские соборы в Солсбери и Линкольне, — не только возносящиеся ввысь, но вольно простирающиеся вширь провинциального простора; и апофеоз гениального безумия — Церковь Саграда Фамилиа в Барселоне работы Гауди, — что-то среднее между сном и реальностью, застывшая в воздухе незавершенная симфония.
Порой я сбегала от этого лавинообразного информационного шквала, но еще больше — от сознания собственного дремучего невежества, но каждый раз возвращалась, снова страдая неутолимым голодом. Кажется, это было тем общим, что нас роднило с Адиком, и он безошибочным чутьём распознал во мне собственную слабость. Он морщился, как от зубной боли, от затянувшихся свыше десяти минут бытописаний своей матери, не лишенных собственной экспрессии. Зато насчет всего другого он говорил: «Я всеяден, как гоголевская свинья, которая съела цыпленка и не заметила этого». Мне тоже сразу стали близки и понятны символы неутолимого голода: в детстве Робин-Бобин Барабек, страдающий несварением желудка вследствие чудовищного обжорства, а в юности – Фауст, продавший душу дьяволу, чтобы «проглотить» весь мир, как Робин. Этот голод погонял меня в поисках новых лиц, книг, фильмов, картин, впечатлений, — кредиток, открывающих вход в магический лабиринт бесконечных блужданий духа.
Если я не выдерживала интеллектуального натиска Адика, то неодушевленные деревянные полки — непосильной тяжести книг, вследствие чего регулярно обрушивались на пол, и Адик с завидной непреклонностью прибивал их вновь под причитания матери о том, что жить в этом доме уже небезопасно для жизни и здоровья. Но полки под вечным бременем снова обрушивались, и кончили тем, что были прибиты к стенам толстыми железными скобами. Они жили вдвоем, и мать вконец отчаялась в борьбе с книгами за жизненное пространство, но книги множились и наступали, и, предчувствуя близкое поражение, она срывалась и кричала, что здесь для людей уже нет места, оно занято пыльной бумагой, и скоро придется пойти по миру. Это была красивая еще статная женщина с милым усталым лицом, которая, несмотря на свои жалобы, выполняла любую прихоть сына. В те моменты, когда Адик ненадолго выходил из комнаты, она мне говорила: «Да не слушай ты его, а то станешь таким же книжным червем», — и все время заставляла меня есть. Иногда, воспользовавшись паузой, она вставляла: «Ты бы лучше вышел и понюхал воздух или мяч погонял, как все нормальные ребята, чем забивать ребенку мозги. Детка, ты ведь хочешь погулять?» И я предательски говорила «нет». Адик только нетерпеливо отмахивался и продолжал прерванный матерью монолог. У него была объемная картотека с полной скрупулезной описью книг, иллюстраций и т. д. Но и без картотеки он с безошибочной точностью находил в своем книжном океане нужную книгу и сразу же открывал на нужной странице. Он дарил мне «взрослые» книги под негодующие возгласы («Зачем же ребенку эта заумь, скажи, пожалуйста! Подари ей детские книги!»), те, что стали впоследствии «моими», в том числе «Опыты» Монтеня, «Избранное» Фейербаха, «Замок» Кафки, сочинения Эразма Роттердамского, собрание сочинений Платона и самиздатовские распечатки Бердяева. Вскоре, по мере того как впервые пошатнувшийся «железный занавес» продолжал планомерно терять ржавые осколки, Адик открывал и дарил мне книги новых незнакомых авторов: Х. Кортасара, Ф. Саган, Фаулза, Борхеса, Набокова, Гессе, Канетти, Ионеско, А. Жида и сотни других прозаиков. Он озвучил новые ритмы, формы и ощущения, читая мне Э. Паунда, Мандельштама, В. Хлебникова, Элиота. Однажды, уже почти подростком, я нашла на его полках серую небольшую книгу, лаконичная простата которой сообщала глазу известный волнующий импульс ожиданий. Это были «Этюды оптимизма» И.И. Мечникова, (на тот момент) известного мне знаменитого отечественного физиолога, занимавшегося фагоцитозом. Я остановилась на интригующем заглавии «гениальность и сексуальность». Прочтя книгу за ночь и последующий день, я узнала тогда о возможных переходах «низовой» энергии в «высокую» энергию творчества. По сути, это было изложением теории сублимации Фрейда. Много позже, прочтя его, я сличила даты выпуска книг и пришла к выводу, что идея на самом деле принадлежит Мечникову, с той лишь разницей, что он, в отличие от Фрейда, не присвоил открытому им процессу термин «сублимация».
Подозреваю, из чисто женского любопытства я пыталась выяснить предметы или объекты личных пристрастий Адика, но он ловко уходил из моих наивных детских и юношеских ловушек. Думаю, любого рода симпатия или пристрастие грозили ему значительной утратой независимости и внутреннего равновесия, возможно, в силу особой уязвимости. Впрочем, я все – таки узнала предмет его одной страсти, — Ленинград. Однажды он сказал в шутку, что его обычное левое сердце принадлежит югу, Кавказу, но у него еще декстракардия, и правое сердце принадлежит Северу (Его отец был местным, а мать родом происходила из Ленинградской области). Кроме учебы, Адик еще занимался репетиторством (преподавал языки), копил деньги, чтобы спустить их на книги и на поездку в «Питер». Я не поспевала за его тонким, изящным пальцем, который свободно, стремительно пролагал маршрут по детальнейшей карте города, пробегая по проспектам, улицам и закоулкам, тормозил во время комментариев или послесловий, или короткой увертюры, что предваряла последующее незамедлительное знакомство с очередным историческим объектом. Его палец долго кружил по центру, где он даже умудрялся опознать дом, в который хаживал Пушкин. Он знал, как пройти с Мойки на Невский «черными» ходами, знал количество сфинксов вдоль набережной Невы и комнат в Зимнем, расписание работы фонтанов в Петергофе, фамилии всех вельмож, изображенных на барельефе памятника Екатерины Великой, в том числе единственной фрейлины, Дашковой; знал вес высоченного монолитного Александрийского столпа с венчающей его фигурой ангела, и принцип его свободного (безо всякого раствора) крепления к основанию. Адик знал все ходы и выходы нетуристического Питера, облезлого, с сырыми неопрятными дворами и подворотнями, с глухими, обрубленными торцами домов, но немыслимого без этих особенностей, самого нереального, самого прекрасного города мира.
Со временем я оценила его отработанную индифферентность в вопросах пола; её можно было назвать почти идеальной, так как чистая линия отношений была на редкость безоблачна и предсказуема, и можно было не волноваться, что за углом дружеской близости тебя внезапно поглотит любовная трясина. Когда я, например, с рвением отстаивала преимущества нежно любимой мной готики, он мог показать образец барочного чуда и мгновенно опрокинуть мои обвинения в претенциозной помпезности и тяжеловесности иных образцов барокко. При всей своей выразительности Адик был вместе с тем почти безлично корректен.
Позже я осознала, что мой хрупкий сосед явился для меня неким гибридом А. Эйнштейна и Петра 1, навсегда изменив мой мир, разрушил все рамки моих детских уютных представлений. Он вытащил мое сознание из тесной прихожей конечного предела и открыл жуткое ощущение неограниченного бытия в бесконечной Вселенной.
В МАСТЕРСКОЙ СКУЛЬПТОРА
В подвале первого подъезда находилась мастерская скульптура. Почти ежедневно туда наведывалась наша дворовая ватага. Вниз вели темные крутые ступеньки с отбитыми краями. После долгих совещаний мы, наконец, избирали того, кто должен был первым переступить порог подвала. После яркого света и тепла нас обдавало подземным холодом, мраком и острым запахом сырости. Примешивался стойкий кошачий дух, и кошки, как дьяволы мрака, с диким мяуканьем проносились мимо нас, полумертвых от страха. Их было великое множество, ночами они водили хороводы и распевали на все лады к большому неудовольствию жильцов. Я тоже боялась этой сырой лестницы с затхлым запахом, которая мне казалась бесконечно длинной, и всякий раз с трудом преодолевала себя.
В мастерской были глиняные и гипсовые бюсты и скульптуры: мужские, женские, детские; желтоватый свет единственной, но яркой лампочки оживлял их. Однажды мой взгляд невольно остановился на женской фигурке. Она светилась матовой белизной, будто внутри ее горел невидимый источник. Девушка стояла на коленях, руки были закинуты за голову, губы приоткрыты. Ее тело жило, дышало, мне казалось, она вот-вот дрогнет и унесется, повинуясь своему порыву… Внизу я по слогам прочитала «Начало…» Меня не удовлетворило это название. Но тут мое внимание привлекла странная фигура из дерева. Собственно, это было дерево и человек одновременно. Мощный и гибкий торс – ствол взмывал вверх с высоко поднятыми сильными руками – двумя основными ветвями, они давали мелкие ответвления, наподобие длинных гибких пальцев, образуя крону. Дерево – человек упиралось в землю стройным монолитом обеих ног, мне показалось, что они глубоко проросли в землю прочными корнями. Тело дерева было гладким, золотистым, тускло блестела…
-Что это? – спросила я.
-А ты как думаешь? – переспросил он серьезно, и я смутилась.
-Это человеко – дерево…
-Значит, это человеко – дерево, — улыбнулся мастер.
-А вы сами как это назвали?
-Я сам назвал «Зрелость».
— Разве оно дает плоды?
-Да, много плодов.
-Каждый год?
-У всех по-разному.
-Так не бывает.
-У человека бывает.
Все это было не совсем ясно, но я промолчала. Он опять принялся за работу, и я следила за ним: за его руками с сильными чуткими пальцами, малейшее движение которых на глазах рождало новую черту, выражение или штрих. Он дотрагивался до глины, и она мягко покорялась его теплым пальцам. Лицо оставалось неподвижным, напряженным. Я замечала немигающий, почти гневный взгляд под сведенными бровями. Порой руки его застывали, глаза темнели, взгляд становился цепким, оценивающим. Мастер попросту забыл обо мне, хотя я все время оставалась рядом. Остальные дети давно разошлись по домам. Во мне нарастал восторг сопричастности, готовый вот-вот прорваться. Он случайно взглянул в мою сторону, мгновенно все понял, рассмеялся громко, весело. «Ты тоже хочешь?» Я энергично закивала. Внезапно он нахмурился. «Послушай, детка, а искать тебя не будут?»
-Я предупредила подругу, чтобы она сказала бабушке, — уверенно сказала я, опасаясь, что он меня отправит домой.
-Тогда держи, — он вручил мне какой-то инструмент, похожий на лопатку и дал указания.
Когда я вышла из мастерской, было темно, и бабушка разыскивала меня с участковым милиционером по всему нашему району.
АСЛАН
При всей своей разношерстности, обитатели нашего дома вписывались в него, как картины в свои рамки. Но двумя этажами выше жил сосед, который выпадал из него в полном и переносном смысле. Он был слишком велик для небольших квартирок, домов и улочек нашего города, слишком силен для мелкой суматошной городской круговерти, слишком величествен для однообразных будней. Раньше он играл на флейте в каком — то оркестре. Кроме того, он пел. Бабушка говорила, что когда это случалось, дети переставали плакать, а женщины, напротив, начинали, на провода и деревья перед его окном слетались птицы, весь дом замирал и превращался в одно благоговейное ухо. Однако я уже не застала эпоху, когда пел Аслан. Вскоре он пошел работать, как все, потому что артистам мало платят, и вскоре пропил свою флейту. Но мне казалось, что его длинные чуткие пальцы еще ждут потерянную свирель, а свежие губы — забытую песню. Его кожа будто всегда была тронута золотистым несмываемым загаром нездешнего солнца навсегда утраченной древней родины. Он приковывал все взгляды своей странной экзотической красотой: античная голова с чеканным профилем победителя, в коротких завитках темных волос, блестящих, как шлем, казалась диким цветком, выброшенным из недр величественного торса. Он походил на прекрасное языческое божество, по ошибке затерянное в чужом мире, являя с ним нелепый странный контраст своим совершенным телом, царственной осанкой и нездешней красотой. Скоро чудная фигура его стала обыденным явлением, и неуязвимая красота как будто устала от самой себя. Он запил. Вечерами приходил домой, волоча ноги в пыльных туфлях, с красным лицом, на котором постепенно проявились тонкие багровые жилки. Дома он тихо плакал, и соседи поначалу принимали его плач за поскуливание одинокой собаки, запертой дома хозяевами. Отоспавшись, он разительно менялся и становился прежним, но вечером случалась та же метаморфоза, и Аслан снова плакал.
«Всех львов давно отстреляли, — бесцветным голосом заметил однажды наш круглый сосед по площадке, сразу после очередного приступа плача, — откуда этот взялся?» И пока я в красках представляла сцену отстрела и собиралась что-то уточнить, он уже удалился, шаркая стоптанными шлепанцами. Впрочем, в доме постепенно привыкли к его плачу, как к привычному шуму, например, звуку воды в трубах.
Однажды, возвращаясь с очередной попойки, он подсел ко мне на лавочку. Я перестала болтать ногами. «Привет, малышка!» Я покосилась на наши окна: бабушке такое соседство совсем бы не понравилось. Между тем Аслан мне что-то говорил, и я стала жадно слушать. Иногда смысл сказанного от меня ускользал, но я запомнила почти каждое слово. Он говорил, что по чьей-то злой шутке заперт в тесный бутафорский ящик неким невидимым сумасшедшим, который задал такой же сумасшедший ритм его жизни: утренний подъем с похмелья, спешный завтрак, 8-часовая служба, попойка с друзьями, полупьяная супружеская любовь в скрипучей кровати, похожая на заученный ритуал, жалкие гроши для нового воспроизводства этого бессмысленного цикла, будто дьявольская рука крутит и крутит одну и ту же глупую пошлую песенку вечной шарманки. Рождение детей, похожее на краткое пробуждение, с тем, чтобы теперь их ввести в этот заколдованный круг, в котором некоторые идиоты пытаются найти хоть какой — то смысл, но не находят ничего, кроме одиночества и усталости. Праздники, похожие на недолгие обмороки, и снова будни, как дурной сон, и сон, один и тот же: я вырываюсь на простор, на землю, по которой томиться душа и болит тело, где струятся ветры и стекаются реки, и плещутся тихие волны…Один глубокий вдох, как глоток, во всю ширь необъятных легких и …-пробуждение. «Малышка, ты знаешь, я понял одно, — сказал он после паузы некоторых своих размышлений и как-то странно взглянул на меня, — нам только кажется, что мы все вместе. Нет, каждый из нас существует в своем мире, и миры не сообщаются, — он неожиданно рассмеялся, — они даже не соприкасаются. Каждый из нас заперт в своем пространстве… Да, всех нас кто-то запер, а ключи потерял».
Как — то вечером он выбросился с балкона третьего этажа. Жильцов, привыкших к привычному, размеренному образу жизни, событие это повергло в шок. Горемыка, к счастью, отделался переломом ключицы, ссадинами и синяками. Вскоре попытка повторилась, и на этот раз падение оказалось мягким. Очень скоро его полеты стали таким же привычным явлением, как его красота, попойки и плач. Хуже других приходилось тете Нине со второго этажа, так как её балкон располагался сразу под аслановским, и при падении каждый раз слетали её цветочные горшки. «Вот паразит! — кричала она, — снова мои горшки разбил!» Аслан валялся в клумбе, усыпанный комьями земли, цветущими бегониями и битыми черепками. «А-а-а, — выл он,- ногу покалечил!»
«Этот дом – заколдованный, он не отпускает его», — сказала однажды жена Аслана, серьезная, деловитая женщина, уставшая воевать с упорным мужниным нежеланием жить. Каждое падение её глубоко оскорбляло, будто он всякий раз отвергал не жизнь, а её саму. Однажды ночью он не явился домой. А наутро нашли его повесившимся на водосточной трубе соседнего дома.
ЛЕВА
Я любила, когда мы с Левой, старшим маминым братом, выходили на зимние прогулки в парк, и после теплой квартиры мне в лицо ударял терпкий хмель зимнего утра. Но с первых погожих весенних дней начинались наши настоящие походы. Я их с нетерпением ожидала всю долгую зиму. Сначала мы оказывались в огромной парковой зоне, настоящем лесу, — Долинске. Позже я узнала, что места эти раньше принадлежали князю Атажукину, и когда власти решили соорудить первые городские постройки на месте старого леса, он не позволил его убрать. Несмотря на внезапную отмену фактической княжеской власти, иммунитет и величие князя странным образом сохранялись до конца его жизни, и лес не вырубили. С тех времен сохранились огромные старые липы, часть из которых превратилась в древесные руины, но они все еще пышно цвели, несмотря на то, что крону питала одна кора, — от сердцевины оставалась лишь труха. Между громадными неохватными стволами дыбилась и петляла асфальтовая липовая аллея, повторяя рельеф катящейся под обрывом реки. Ранним летом аллея выстилалась золотистой душистой дорожкой липового цвета. Причудливые сочетания резких и плавных изгибов ветвей деревьев походили на голову оленя и горного тура, или на сжатое перед прыжком тело снежного барса, или острую морду лисы, — обитателей леса, которые его давно покинули, но запечатлелись самим временем. Другие сказочные и мифические персонажи виднелись в прогалинах зелени, на высоком холме проступали очертания шлема нарта Сосруко, и его рука с факелом, выпроставшаяся из – под земли, в которую он был закопан живьем. Впрочем, сооружение оказалось всего лишь крышей ресторана, я обнаружила это, забравшись однажды наверх. За каким-нибудь поворотом аллеи, среди ненавязчивой клумбочки незабудок мы натыкались на старика в папахе, высеченного из дерева, который опирался на посох. Неподалеку от него щерился деревянной пастью фантастически длинный бляго, — дракон, который безуспешно пытался проглотить окружающее пространство. Однако очень скоро папаха деревянного старика была приспособлена под миниатюрный столик для местных пьяниц, а находчивые мальчишки пасть дракона превратили в мишень для рогаток, ставя в нее водочные бутылки, и попадали по ним с завидной меткостью.
Мы гуськом пересекали прохладный сосновый бор с разлитыми прозрачными пятнами солнечного света в промежутках смыкающихся крон; ноги мягко пружинили по узкой тропке, утрамбованной опавшей бурой хвоей, спускались к реке, и я пыталась поспеть за длинными сильными ногами Левы, но путалась в коротком дерне и отставала. Река и гряда холмов по левому берегу, сбросив с себя весенние туманы, расчистились; черная, еще насыщенная парами земля, вздохнула и жадно дышала. Окрепший ветер налетал порывами, шелестел в тополях, пробегал по листве, — она трепетала, поворачиваясь то ярко — зеленой, то белесой стороной, и деревья мерцали, переливались, менялись, как гигантские, взвившиеся в небо хамелеоны. Иногда мы натыкались на благодушные маевочные компании, которые нас звали к себе. На траве были расстелены покрывала, между ними – клеенки, а в их центре — огромные куски отварного мяса. Блестящие темно – коричневые кусочки баранины, нанизанные на шампуры, размещались рядом, кроваво мерцали свежие помидоры, ярко розовел редис, тоненькой прозрачной струйкой змеилось содержимое опрокинутого стакана, стекало в траву. Лева любезно отбивал пьяный натиск подгулявших кампаний, и мы шли дальше. По пути следования я наблюдала пристойные семейства с солидными отцами, бдительными матерями, следившими за худощавыми, живыми мальчишками и девочками – подростками, елейными, полными неизъяснимой, неосознавшей себя прелести, — юные наяды, только вышедшие из распавшихся влажных створок раковин сонной колыбели детства.
«Привал!» — командовал Лева, и мы падали в траву. Его загнутые ресницы пушистым веером касались излома темных дуг густых сросшихся бровей, серо — зеленые глаза (точно как у бабушки) при ярком солнечном свете становились совсем прозрачными. В косых лучах утреннего солнца река сверкала мириадами цветных бликов, отражаясь на его лице. Вскоре солнце подходило к зениту – и все становилось ослепительно белым, сверкающим: добела раскаленная галька под ногами, белая река, с глухим рокотом катящаяся вниз по пройме, которая, теряя утреннюю прозрачность, приобретала ртутный оттенок, разорванные белые облака, неподвижно повисшие на белесом горизонте, что напоминали застывший клубами дым лесного пожара, раскаленное полуденное небо, слепящий белый диск солнца, белая полу — расстегнутая рубашка, обнажавшая смуглую грудь, поросшую темными волосками.
Лева спросил моего брата – молчуна: «Ты кем хочешь быть, когда вырастешь?»
-Космонавтом, — ответил мой брат после некоторой паузы, — А ты кем?
У Левы смеялись глаза, но губы были серьезны: «Я хочу быть всем».
— Это как – всем?
— То и значит, — всем.
— И камнем?
— И камнем.
— И деревом?
— И деревом.
— И даже червяком?
-И червяком тоже. Я расскажу вам стихотворение одного мирового американца. Вот оно:
Один из старых чикагских поэтов,
Один из сутулых чикагских поэтов,
Имея лишь разум, дарованный богом
И не имея ни единого цента,
Написал своим единственным карандашом:
«Я верю в судьбу человека,
Я верю больше, чем могу доказать,
В необходимость иллюзий,
В важность больших ожиданий,
В важность больших открытий.
Я хотел бы быть червем – есмь червь,
И астронавтом – есмь астронавт».
(Много позже я столкнулась с этим стихотворением в маленьком сборнике Карла Сэндберга. Но тогда, в детстве, мы ничего не поняли. Его тоска и страсть мне стали внезапно понятны только в 14 лет, когда я сидела за столом и писала о весеннем дожде, который только прошел. Это не было просто сильным впечатлением о дожде, — я почувствовала, что впервые прорвалась за какую-то невидимую грань и сама стала дождем. Я помню свою мысль тогда, отчетливую, как зримый образ: «Я существую затем, чтобы стать всем». Вся моя последующая жизнь невольно протекала под этим невидимым знаком. Я не задумывалась над формулой, ставшей для меня определяющей, — однажды вспыхнув, это знание просто жило во мне: пройти через множество воплощений, пройти через все возможные воплощения).
Он переносил нас на руках через реку, упруго ступая по камням, и мы оказывались на другом берегу, с которого начиналась Кизиловка. Внизу, у подножия было полно диких плодовых деревьев. Позже, осенью, мы устраивали настоящие облавы, обнося дикие яблони и груши, уплетая по ходу дела их мелкие, вяжущие, кисло — сладкие плоды. Янтарные и крепкие я отдавала брату, а себе оставляла мягкие, палевые, цвета увядшей листвы. Таким же перезревшим я любила кущхамыщх (мушмула), содержимое которого можно было выдавить прямо себе в рот из лопнувшей при слабом нажатии мягкой коричневой корочки. Мой брат ел его незрелым, светлым, с легким белым пушком у основания. Яблоки дички срывались только твердые, наливные. Мама ругалась с Левой, запрещала есть не только немытые, но просто дикие плоды: «От них может быть диарея. И даже дизентерия. Или запор». Но с нами не происходило этих крайностей, несмотря на то, что дичка оказывалась съеденной каждый раз до мытья. Поздней осенью, после первых заморозков, мы обрывали черно-сизые ягоды терна, к тому времени сахаристые и мягкие, узкие, изящные плоды кислого алого барбариса и такого же алого, более крупного, — кизила, в честь которого и были названы холмы. Желто-зеленая белесая облепиха с начала лета забирала летний жар и только к глубокой осени наливалась янтарным солнечным светом. Мы часами паслись в непроходимых зарослях ежевики и дикой малины, немилосердно обдирая себе голые руки и ноги, окрашивая пальцы и рты в предательски опознаваемые цвета, и набивали карманы в ласковых кустах лещины. При подъеме вверх по холмам плодовые деревья редели и почти пропадали, кроме какой — нибудь дикой черешни, случайно затерявшейся среди кленов, дубов и осин, или вишни, с мелкими, темно- синими, почти черными плодами, да кустами боярышника, ярко алеющего гроздьями, или жимолости, усеянной красными, реже — желтыми одинокими шариками.
Однажды Лева обратил наше внимание на растение, которое проросло в кронах некоторых деревьев, — сначала мы приняли его за птичьи гнезда. «Это омела, — сказал Лева, — странный паразит, который, не причиняя особого вреда своему хозяину, живет припеваючи: забирается на самый верх и питается соком своего дерева и солнечной энергией, которую отвоевывают в честной борьбе другие растения». С тех пор я стала наблюдать за омелой. Среди осенней желтизны листья ее изумрудно зеленели, а зимой только бледнели и редели, выделяясь в вышине голого остова густым зеленоватым шаром, или неожиданно проглядывали сквозь белый покров зелеными веточками. Факт ее безусловного процветания не сочетался с моим напряженным нравственным чувством. Я только смирилась с этим чистым символом неистребимого приспособленчества, но не признала его.
На Леву частенько нападало поэтическое настроение, и он начинал декламировать стихи, умудряясь не терять веселого азарта даже в самых грустных местах. Нас мало заботило авторство, в то время все стихи были безымянными, но моя память безошибочно отпечатала услышанное с надежностью фото-негатива, и много позже я безошибочно узнавала их: они принадлежали запрещенным тогда поэтам — Мандельштаму, Пастернаку, Ахматовой, Цветаевой, Заболоцкому. Изредка он читал из Бернса, Новалиса и Китса, чаще — сонеты Шекспира, но больше других — русскую классику, длинные отрывки из «Полтавы», «Евгения Онегина», «Мцыри», которые я вслед за ним заучила наизусть. Иногда он пускался в рассуждения о генерале де Голле, но я лишь помню, как меня рассмешило французское обращение «патрон». Он что-то говорил о Марселе Прусте и Хемингуэе, портрет которого висел над его письменным столом. Мне было только семь, и все это было малопонятно, но разбудило мои больные струны. В любом случае, его не вполне ясные взрослые монологи мне льстили, и я в приливе благодарности предлагала ему спеть песенку, которая в моем исполнении его неизменно смешила:
Пароход белый, беленький,
Белый дым над трубой,
Мы по палубе бегали,
Целовались с тобой.
Тем временем мы поднимались выше, и встречали низкие заросли любимого мной неувядающего бересклета, с темно — зелеными, мелкими, кожистыми листьями и необыкновенно свежим горьким вкусом, высокие грабы и буки. На прихотливо играющей узорной тени изумрудной кроны встречались островки изменчивой зубянки: под сенью одного бука- бело-розовые, другого- ярко-сиреневые, а дальше, на открытых полянках — темно-фиолетовые. Рядом с ними стелились сплошные коврики темно-лиловой хохлатки, которая в оврагах, с острым еще запахом весенней сырости, среди мелких, светло-зеленых завитков нераспустившегося папоротника становилась ярко-белой, похожей на забытые зимой хлопья снега. Чаще они переливались обширной весенней гаммой: от самых слабых, маленьких, темно — синих до сочных, высоких, с розовыми, кремовыми и кремово- белыми цветами.
С приходом лета, когда кроны деревьев плотно смыкались, от весенней пестроты не оставалось и следа, иногда из-под ног неожиданно выскакивал юркий полесник или нивяник; молодая трава, примятая нашими ногами, еще гибко пружинила и тотчас выпрямлялась, и внезапно на ярко-зеленом фоне вспыхивала кроваво-красная герань. Начинался сезон мелкой душистой земляники и костяники.
Мы забирались на вершину холма, который казался очень крутым, но в одном месте спуск был гладкий, будто по нему прошелся большой каток. Ветер трепал темные короткие волосы Левы, он глубоко вбирал в себя воздух, так что тонкие крылья носа его трепетали, обводил нас взглядом великого полководца, поднимал высоко руки, широко их расставляя, и срывался вниз на чудовищной скорости: «Лечу-у-у!» Он планировал на больших сильных руках, выписывая замысловатые виражи. Его рубашка, наполняясь воздухом, дыбилась белым парусом, светлые полотняные брюки с шумом бились о сухопарые мускулистые ноги, они ускоряли темп, так что очень скоро его высокая фигура обретала статуэточные размеры, он останавливался у подножия и усиленно махал нам. Я закрывала глаза, чтобы не видеть немыслимой зеленой крутизны, на миг обмирала и с остановившимся сердцем бросалась вниз. В лицо ударял сильный порыв ветра и, задохнувшись, я раскрывала рот в восторженном страшном крике, не поспевая за сумасшедшими ногами, которые ухитрялись ускоряться еще больше. Рядом со мной орал мой брат, опережая меня, и резко тормозил у подножия. Я попадала прямо в крепкие надежные объятия Левы, и он, закружив меня напоследок, ставил на землю. Потом мы снова карабкались на холм (кто быстрей), пыхтя и обливаясь потом, но без намека на нытьё, и снова сбегали вниз, и так до бесконечности, до тех пор, пока нас двоих Лева не затаскивал на холм, держа за руки, и мы последний раз обрушивали на окрестности наш истошный вопль.
«Если вы будете часто разгоняться и достигните высокой скорости, вы однажды взлетите», — сказал нам как-то Лева, заговорщически поглядывая на каждого. Мой брат недоверчиво хмыкнул. Я промолчала. Но вечером, прикорнув на его сильную согнутую руку, после очередной прочитанной им сказки Пушкина, (чтение которого носило скорее ритуальный характер, так как я их почти все уже помнила на память), доверительно рассказала ему о своем сне — одном и том же, который являлся мне с неясной периодичностью: о своем одиноком шествии по вечерним пустынным улицам с тайным сознанием своей необычной способности, о которой никто даже не подозревал. Я слишком дорожила своей тайной, чтобы её кому-то поведать. Некто из безымянных прохожих увязывался за мной, — приходилось ускорять шаг, но за мной неуклонно следовали, переходя на бег, я тоже начинала бежать, проникаясь торжествующим весельем. Внезапно мои ноги с силой отталкивались от земли, и я взлетала над головами своих преследователей; сначала летела низко, наблюдая какое-то время за немым вражеским ступором, а затем, позабыв обо всем, взмывала вверх. Иногда меня никто не преследовал, и я начинала свой полет без единого свидетеля. Левик взъерошил мои волосы и сказал: «Значит, ты моей породы, летучей».
Однажды он признался, что ему тоже снится один и тот же сон. Я попросила рассказать, он улыбнулся: «Никому не рассказывай. Взрослые все равно ничего не поймут и не поверят». Выяснилось, что он каждый раз видел во сне далекую птицу, которая стремительно приближалась, слетая с вершины высокой горы. Птица подлетала, и оказывалось, что это – человек с крыльями в старинной кабардинской одежде. «Кто ты? Как твое имя?» — спрашивал его Лева. «Ты знаешь меня. Я из твоего рода. Зовут меня Лиуан», — говорил летающий человек. Надо же, так же, как меня, удивлялся Левка, смотрел ему в лицо и узнавал себя.
Иногда он брал меня с собой на рынок. Обыденность этой скучной фразы противоположна тому неповторимому ощущению праздничного подъема, которые были связаны с этой вылазкой. Если свое обычное вынужденное присутствие в этой цитадели торговли я попросту мужественно терпела, изнывая от скуки, и волочилась нелепым придатком за мамой или бабушкой, боясь затеряться в толпе, то с Левой мой поход на тот же рынок напоминал открытие нового экзотического острова. С ним я чувствовала себя полноправным членом веселой команды путешественников. Лева приходил сюда, когда на него нападало кулинарное настроение, и он собирался готовить шашлык, плов, азу или наподобие того, — необыкновенно вкусное, с большим количеством овощей в самом неожиданном сочетании, словом, — что–то шикарное, (эти блюда, правда, не ела бабушка, так как их не знала, и мама, — для нее они были слишком остры).
Мы подходили к лавкам с молодым картофелем: сочные светлые клубни светились из – под тонкой прозрачной оболочки и напоминали невидимых, свернувшихся в кокон живых гомункулов. Не торгуясь, мы покупали картофель и шли к овощному ряду. Левик сдавливал двумя пальцами влажные, бело – розовые головки молодого редиса с тонкими мохнатыми мышиными хвостиками, связанные в пучки пышными, ярко – зелеными вершками, весело бросал в широкую сумку; вместе с ними летели на дно самые соблазнительные свежие огурчики, еще увенчанные у верхушек желтыми сухими цветками. Мы проходили мимо тугих бело — зеленых кочанов капусты и другой, цветной, и мой взгляд замедлял скольжение по ее мраморной трогательной чистоте линий; верхняя часть нежных соцветий напоминала морскую губку, а вся форма походила на белоснежные коралловые рифы. Далее взору являлись роскошные помидоров, прихотливо уложенных на весы, Лева громко спрашивал, чтобы слышала торгующая тетка: «Как ты думаешь, парниковые нам нужны?». Я говорила «не нужны», и мы двигались дальше, в поисках настоящих, пока не останавливались возле мясистых, розовых, наваленных бесформенной грудой. Впереди красовалась табличка, на которой крупными кривыми буквами было старательно выведено «ЛУЧЩИИ ГРУЗИНСКИИ ПАМИДОРИ». Короткая, но проникновенная беседа с продавцом содержала лаконичную информацию о том, что Гиви родом из — под Тбилиси, и когда Лева неосторожно обмолвился о том, что частенько там бывает и даже собирается защищать диссертацию, кончилось тем, что он был объявлен братом и немедленно заключен в крепкие широкие объятия. «Ты мне ничего не должен», — категорично заявил Гиви, когда Лева протянул деньги; они какое- то время пререкались, пока Гиви не покраснел. Тогда Лева достал ручку и блокнот, и они обменялись адресами. Мы оставляли позади себя ряды с малосольными и солеными огурцами, помидорами и капустой, горьким перцем, капустой провансаль, усыпанной алыми ягодами калины, сморщенным, будто лакированным черносливом и ломтиками яблок, горы фаршированных баклажанов и болгарского перца, — над прилавками поднимался и парил восхитительный, дразнящий аромат, благодаря которому невольно замедлялся шаг и разгорался взгляд. Где – то сбоку торговали съедобными каштанами, — они были более мелкими, но той же совершенной, более плоской формы, чем конские, — эти я собирала осенью, когда они выпадали из своих гнезд и с глухим стуком катились по земле. Я подолгу любовалась таинственным полированным мерцанием, гладила гладкий, прохладный, темно — шоколадный глянец, созданный невидимым искусным мастером. У меня дома собиралась огромная коллекция, пока мама или бабушка не выкидывали ее в мое отсутствие. Мимо проплывали красные остроконечные горки блестящих ягод клубники, примешивая свой дурманящий аромат к невероятной мешанине других запахов; крупная янтарная и темно – бардовая черешня с перепутанными черенками томилась в эмалированных ведрах или была навалена на длинные прилавки на всем обозримом пределе ряда, в открытых местах весело мерцала на солнце тугой упругой плотью, а нежная вишня просвечивала под косыми утренними лучами, нескромно являя под тонкой кожицей свой сочное кровяное нутро с одинокой косточкой. Между ними рдели острова пурпурной малины, красной и черной смородины. Стоило Леве обратиться к продавцу, в атмосфере что –то таинственным образом преображалось, цвело улыбками, пожилые женщины начинали обращались к нему «сынок», ко мне — «деточка», а молодые принимались заигрывать и называть «красавчиком». Они не обижались, когда Левик, перекинувшись с ними парой игривых фраз, отходил без покупки, часто окликали меня, пригоршнями сыпали в мою детскую сумку ягоды и бросали отборные фрукты. С особым чувством страстного гурмана, Лева отбирал зелень, сотрясая перед собой пышные пучками, как колокольчиками, корешками вниз: те, что не распадались по краям, а упруго пружинили, сохраняя форму, и источали самый сильный аромат, удостаивались его внимания. Мы отправляли в нашу бездонную сумку нежно — изумрудные пышные листья кресс- салата, рифленые из-за выраженных прожилок, с терпким горьковатым вкусом горчицы, и пучки петрушки, не сочетавшие собственное название с изысканным запахом, и нежные букетики кинзы, с моим самым излюбленным ароматом, а сиренево — зеленый экзотический реган довершал дело. Вскоре к ним присоединялись молодой лук и чеснок: их белые головки сияли матовой жемчужной свежестью, а наверху превращались в налитые соком зеленые воинственные перья, напоминающие хвост петуха. Напоследок мы заходили в крытый длинный павильон, где торговали мясом. Нанизанные на толстые металлические крюки, по обоим нескончаемым рядом тянулись вереницы сырых кусков говяжьего и бараньего мяса с приторным железистым запахом, — розового, красного и вишневого цветов, всех сортов и размеров, в белых прожилках жира и белесых сухожильях, знаменуя собой примитивную прямолинейную образность самого вульгарного крыла натурализма. Деловитых хозяек зычно зазывали продавцы, те приценивались, торговались, требовали перевесить, ругались, отходили или, сойдясь в цене, молча покупали. Лева шутил с продавцами, особенно продавщицами, весело покупал увесистый кусок, и я, наконец, не без сожаления следовала за ним по направлению дома. В моей сумке, кроме прочих многочисленных гастрономических презентов, лежали обязательные, которые каждый раз с неистощимым усердием отбирались Левой: сахаристые продолговатые финики и сухие бардовые гранаты, манящие предвкушением своего восхитительного содержимого: сотни подогнанных друг к другу прозрачных алых зерен, налитых и призывно мерцающих на свету, с узкой белой косточкой, — они дремотно ожидали своего часа в отсеках тонкой горькой пленки. Я просила помочь нести продукты, и Лева торжественно поручал мне зелень. По пути я озиралась по сторонам, стараясь ничего не пропустить из того, что происходило вокруг, а небо между двумя рядами деревьев аллеи сквера напоминало синий лист бумаги, исчерченный стремительными линиями белых самолетных трасс, медленно тающих, как мираж.
Позже, уже на даче, Лева разводил костер, мешал настоявшийся шашлык крупными, немного неловкими, самыми мужскими на свете руками, — в воздухе разливался дразнящий пряный аромат, и я с начала до конца наблюдала за священнодействием по изготовлению классического блюда, до самой кульминации, — торжественной раздачи дымящихся шампуров, унизанных кольцами белого репчатого лука и посыпанных свежей зеленью. Дача располагалась в одном из самых живописных мест Долинска – пологих холмах, возле телевышки. В течение дня, ободрав всю малину, мы с братом носились по дачным дорожкам, обливаясь водой из бутылок и разглядывали сквозь проемы оград чужие сады, пока нас не облаивала какая – нибудь свирепая собака, и брат уносил ноги, молча вынося мои отнюдь не пресные насмешки. С сумерками я уединялась, забравшись в отдаленный уголок сада, и смотрела на алые огни телевышки, легкий, прозрачный остов которой терялся в потемневшем небе. Огни освещали ее середину, ярко сияли над садами, превращенными мраком в сплошной темный массив, окутанный белесой вечерней дымкой, следовали редкими звездами по направлению взметнувшейся вверх башни и обрывались на самой вершине, теряясь в россыпях настоящих звезд.
У Левы было множество друзей, с которыми он совершал восхождения на горы, даже на Эльбрус, «болел» на футбольных матчах, ходил на речку, и без повода, на «ровном месте» устраивал шумные застолья, «стреляя червонцы» то у Маги, то у папы, влезал в долги, которые ему охотно прощали, если до этого он сам не забывал о них. Его друзья считали за честь поносить меня на своих плечах. Я носила гордое звание «племянницы Левки», — это означало бесконечные подарки, море внимания и исключительная привилегия сидеть за любым взрослым столом.
Но больше всего меня интересовала другая, тайная, мужская сторона его жизни: Лева был любимцем женщин. Узкое энергичное лицо, тонкий удлиненный нос, серо-зеленые глаза с пушистыми ресницами до бровей, выразительные губы, атлетическая фигура, — сказать, что он был красив, значило ничего не сказать, как невозможно передать определяющий густой, предельный концентрат жизни, заключенный в нем, играющий немыслимым спектром ярких красок. Самый простой костюм сидел на нем с элегантной изысканностью, снискав ему незаслуженное определение «стиляги», а Мага, обращаясь ко мне в присутствии Левы, частенько замечал, сверкнув скупой улыбкой, что хорошие девочки не дружат с такими пижонами. Точнее сказать, Лева был всеобщим любимцем, женским — в том числе, но не из мелких городских донжуанов и даже, (пользуясь более поздней книжной терминологией), не из крупных светских львов. Он любил их также неистово и страстно, как саму жизнь, которая, попадая в его большие крепкие объятия, наполнялась неизбывным радужным свечением. «Женщины — это аромат и квинтэссенция жизни. Они — больше, чем жизнь, — сказал он всем нам однажды на 8 марта, мастерски откупоривая шампанское, — и знаешь почему, Жуля? — Мама замахала на него руками и засмеялась. — Потому что они сами творят жизнь. Я чувствую и знаю женщин лучше, чем они сами себя, и за это они меня любят».
— Я бы сказала, слишком любят.
В период возмужания Левы у мамы внезапно стала появляться целая уйма подруг. Но проницательная умница мама мгновенно обнаруживала подвох, — маленькие хитрости левиных поклонниц. У него каждый день были свидания. Все его знакомые девушки были настоящими красавицами и, по моему детскому убеждению, артистками. Я частенько удостаивалась чести быть третьей, и вечерами являлась домой, заваленная конфетами, печеньем и фруктами, деля щедрой рукой добычу с братом. «Ты плохо кончишь», — строго предупреждала Леву мама. «Смерть от любовного удушения — не самый плохой конец», — парировал Лева, подмигивая мне за маминой спиной. Если свидание было поздним, и цветочные магазины были закрыты, он, пока я стояла в дозоре, залезал в укромные места клумбы и срезал острым перочинным ножом роскошные розы, тяжелые от аромата. Также обстояло дело с сиренью, изнемогающей под бременем собственного цвета, астрами, ромашками и гладиолусами, — в зависимости от сезона. Порой под заснеженными елями на нас обрушивался целый белоснежный каскад, в который одним неожиданным резким движением погружал нас Лева, и мы, визжа и смеясь, вылетали из снежной пыли новоявленными снегурочками. Иногда он катал нас по очереди — то меня, то девушку. Однажды, чтобы уравновесить ситуацию, я умолила его сесть в санки самому, («почему бы и нет?»), и пыхтя, потащила по рыхлому еще снегу, так что пожилая пара, оказавшись поблизости, разразилась бурей неодобрения: «Посмотрите на этого бедного ребенка! Папаша, что вы себе позволяете?» Я помню лучезарные счастливые глаза. Он умел пробудить в любой из них сущность самую глубокую и потаенную — ребенка, любимого ребенка, может, в этом заключался секрет их нетленной привязанности, о которой я узнавала много лет спустя, после его смерти. Многие приходили к нему сами, несмотря на жесткость железных запретов, пробившись через тяжелый страх скандала, с последующей реальной утратой перспектив на семейную жизнь, и спустя десятилетия плакали, признаваясь мне, уже взрослой, как были счастливы с ним.
Бурная холостяцкая пора Левы неожиданно завершилась свадьбой, которая произвела неподдельную сенсацию. Его друзья, заходя в гости, сообщали бабушке последние новости о том, что в республике ежедневно накладывают на себя руки сотни молодых девушек, и по утрам безутешные родители находят их бездыханные трупы. Бабушка понимающе улыбалась и кормила шутников. И если относительно республиканской суицидной вспышки информация была явно преувеличена, то у нескольких маминых подруг от неожиданной вести случились настоящие истерики, а одна девушка даже потеряла сознание, и мама привела ее в чувства нашатырем. На протяжении всего дня заходили справляться, не очередная ли это шутка левкиных друзей, и узнав от бабушки правду, не могли сдержать изумления, будто эта была первая женитьба мужчины в истории человечества. Потянулась нескончаемая вереница друзей и соседей, предлагавших свою помощь в устройстве и подготовке свадьбы. Бабушка искренне просила никого не беспокоиться.
Избранницей Левы стала сероглазая белокожая девушка, немногословная и сдержанная, как бабушка, величественная строгость которой заставляла звенеть окружающую атмосферу. Именно поэтому ее редкий, но неудержимо веселый смех воспринимался как драгоценный дар. В день своего рождения она не могла открыть дверь собственной квартиры, чтобы пойти на работу, так как она оказалась заваленной огромной охапкой свежей сирени.
Для свадебного торжества были расставлены большие столы по всей длине просторного двора, застелены клеенчатые скатерти, над ними мужчины соорудили тент, крытый брезентом, к которому подвели электрические лампы. Скромно отклоненные бабушкой соседские предложения о помощи были забыты в первый же день, так как последовало лавинообразное прибытие гостей. Готовить приходилось всем домом. Те, что поели и подняли тосты, вынуждены были уступать места вновь прибывшим. Остальные участвовали в джегу, который вообще не кончался. Однако это было только началом. В остальную неделю явился весь город и большая часть республики. Приехали какие – то неизвестные друзья с Закавказья: три азербайджанца, четыре грузина и два армянина. Приехали две девушки из Вильнюса и один парень с Украины. Приехали трое молодых людей из Махачкалы, двое — из Осетии, огненно – рыжий чеченец с сыном — подростком, молодые супруги из Алма – Аты и один сибиряк, который отдыхал в Кисловодске и успел подружиться с Левой во время его двухдневной поездки. Нам, детям, поручили собирать пустые бутылки и складывать их в ящики, которых уже набралось больше десятка. Детский стол располагался поперек взрослого и стремительно пополнялся, в основном фруктами и сладостями, из которых я больше всего любила медовые ромбики зыкерыс и огромные, закрученные в желтую, солнечную спираль – джедыкерыпш, которые тотчас крошились при неосторожном нажатии. Танцевали и пели все, в том числе те, кто вообще не умел. Я вела мужскую партию в исламее, так как она была сложной для брата, а он исполнял женскую. Невеста стояла в углу дальней комнаты, покрытая с головой прозрачным белым платком, и моя почетная миссия заключалась в том, чтобы заводить к ней девушек. Женщин заводили мама или бабушка.
После свадьбы Лева с молодой женой сняли квартиру неподалеку и пропали. Молодожены не появились и во время небывалого ливня, который вскоре разразился. Дождь лил сплошной серой стеной, размывая контуры предметов за окнами, пока они не утратили своей очевидной реальности, на наших глазах превратившись в призраки. Мы были заперты дома, и вскоре уже не могли выйти даже в магазин, так как улицы превратились в бурлящие реки. Нами постепенно овладевало странное оцепенение, будто потоп уже коснулся и овладел даже невидимыми пределами сознания. Вода угрожающе поднималась к нашим окнам на первом этаже, разъедая высокий цоколь, бабушка все время молилась, а Мага совершал дерзкие вылазки, облачившись в свой страшный охотничий плащ и высоченные резиновые сапоги выше колен. Впрочем, и они уже вскоре не спасали. Мутный поток с шумным рокотом нес сломанные ветви деревьев и кустов, огромные куски асфальта, перевернутые мусорные баки и груды городского мусора. Нелепыми айсбергами проплывали оторванные от родной почвы киоски, как маленькие современные ковчеги. Мага плавал на лодке, одолженной им у знакомого спасателя, и вылавливал бездомных кошек и собак. После первого порыва безудержного ливня продолжался бесконечный умеренный дождь, и вода долго не спадала, а неутомимый Мага, наш единственный связной, приносил диковинные новости о том, например, что разлившаяся река Нальчик принесла рыбу к домам на окраине, и там ловят ее, закидывая удочки прямо из окон собственных домов.
Лева с женой, по словам, вышли на улицу только после того, как вода уже схлынула, и были несказанно удивлены: они даже не заметили потопа.
Однажды, по прошествии года, я приотворила дверь в комнату, в которой находился Лева. Он стоял спиной ко мне, повернувшись к окну, и казался странно высоким. И тут я увидела: он парил над полом. Я очень быстро закрыла дверь, потерла глаза и снова осторожно открыла её. Сомнений не было: он висел в воздухе, оторвавшись от дощатого пола сантиметров на 15. Я никому ничего не сказала. Мое состояние походило на сомнамбулу, я не помнила ничего из того, что делала в течение этого дня. Вечером, когда все собрались за ужином, Лева внезапно встал из-за стола, пружинисто шагнул несколько раз, остановился, обводя всех смеющимся взглядом, и сказал: « Я хочу сделать заявление!» Все оторвались от тарелок и посмотрели на него. «Я научился левитировать».
— Что это такое? — спросила бабушка.
-Левитировать — это летать, — пояснил Мага.
— Слушай, ты не в себе,- сказала мама, первая овладев ситуацией, и доложила в мою тарелку куриное крылышко и пасту. Папа сохранял невозмутимость, приличествующую зятю.
— Я говорю серьёзно, — сказал Лева таким тоном, что все снова внимательно посмотрели на него. Но мама вспыхнула: «Это уже не смешно».
— Я и не пытался рассмешить. У меня получилось.
Все переглянулись. Тут я не выдержала: «Это правда, правда, я сама видела!»- закричала я.
— Я всегда знала, что эта беготня с высоких гор добром не кончится, — сказала мама с досадой.
Лева был бледен: «Послушайте, это не бред. Я не сумасшедший. У меня действительно получилось».
— Это противоречит здравому смыслу, — отрезала мама, — Этого не было в истории человечества.
— Как раз в истории это было, — невозмутимо обронил отец, — например, левитировал Фома Аквинский, или святой Августин, или Франциск Ассизский, я точно не помню. Публично левитировали йоги на больших стадионах, забитых публикой.
— Я не святой и не йог, я – сам по себе. И со мной это было.
— Хорошо, — сказала мама, порозовев, — тогда покажи нам.
Лева секунду что-то разглядывал на своей тарелке, потом резко встал и вышел.
С тех пор он больше не парил в воздухе, по крайней мере, я не видела. Он стал «солидней», как говорила мама, и по её интонации чувствовалось, что это хорошо. Тихий вечерний шепот, сочившийся из родительской спальни через тонкую освещенную полоску неплотно притворенной двери, (который я невольно слышала, благодаря своему собачьему слуху), постепенно перестал быть тревожным. В нем больше не слышалось настойчивых фраз: «Может быть, его все-таки проконсультировать, я знаю прекрасного специалиста»…- «Жан, успокойся». — «Но это же ненормальность, нести такую ахинею, да еще при ребенке…» — Папа издавал многозначительное «гм» вибрирующим глубоким баритоном и замолкал. «У него, конечно, очень странный основной обмен, температура на 1 градус выше, чем у остальных», — казалось, мама рассуждала сама с собой. – Не представляю, как это объяснить, но последнее время у него нормализовалась и температура, и вообще, он стал похож на нормального человека, хотя перестал походить на самого себя. Но и теперь он, как печка, всех вокруг себя обогревает».
Я вспоминала, как Лева обрастал толпой везде, где бы ни появлялся, во дворе, на улице, на работе. Он освещал и принимал всех — от чумазого малыша до опрятной сухонькой старушки из соседнего подъезда. Еще издали приметив знакомый силуэт, он широко разводил сильные руки, — мне казалось, что в его крупных щедрых ладонях отражалось горячее полуденное солнце. Порой я замечала его отстраненный взгляд и спокойную улыбку. Мне всегда казалось, что в нем были совмещены два человека: один был с нами и участвовал в этой действительности, которая захватывала всех нас целиком, жил по ее правилам, другой наблюдал за всем происходящим со стороны, находясь «за кадром», но без насмешки и снисхождения, разделяя и принимая происходящее.
В нежном возрасте никто, включая меня саму, не знал о моей необычной способности слышать за закрытыми дверями. Только много позже эта особенность обнаружилась, как обычно, благодаря всесильному случаю: однажды я смотрела телевизор и почувствовала, что мне мешает какой-то странный звук, похожий на тонкий свист воздуха, вырывающегося из плотно закрытой банки. Я спросила родителей, но никто из них не слышал. Обеспокоенная собственными слуховыми галлюцинациями, я пошла на звук. Для меня звук усиливался, а они его не слышали вообще. Действительно, в кладовой свистела банка с солеными огурцами, в которой забродил рассол; родители услышали этот звук, только наклонившись над ней. Они переглянулись. И мама, которая всегда была склонна искать и находить логические объяснения там, где для меня их не было, сказала: «Очевидно, это компенсация слабому зрению». Между тем, все детство я невинно и беспрепятственно пользовалась собственным даром. Помню один разговор, услышанный, как обычно, из-за закрытой двери, когда мамин голос обрел особые звенящие интонации: «Левка, у тебя самая обманчивая внешность: тело атлета и сердце ребенка. Но больше всего ты похож на огромный дом с вывеской «Бесплатный кров для всех желающих». Кто они, кого ты пускаешь, может, среди них воры и обманщики, или те, что наследят в грязной обуви, а то и наплюют». Лева засмеялся, и я почти увидела, как он провел рукой по пышным волнистым волосам мамы. «Жюля, не беспокойся, я вижу каждого таким, каков он есть, но каждого могу любить». – «Я давно знала, что ты – ненормальный». Жизнь вокруг него превращалась в пеструю кутерьму, — и в этом они были похожи, только у мамы она была направленной и деловой, а у Левы — веселой и праздничной. Всем троим, Леве, Маге и маме было свойственно ликующее ощущение жизни. Когда позже, уже интравертным подростком, я приступила к целенаправленным поискам философского камня или хотя бы его скромной замене, я вспоминала об этом бурном, стремительном потоке жизни, подключенном, кажется, к самому высоковольтному напряжению. На этом фоне я начинала сомневаться в самой сфере моих исканий: библиотека, философия, литература, общение, похожее на внезапные прорывы, — все это казалось мне лишь бледной тенью той живой сути, которой они всегда владели, не называя её имени.
МАГА
Лева с Магой еще задолго до весны готовились к восхождению. Бабушка мягко увещевала то одного, то другого, ссылаясь на поговорку, что «умный в гору не пойдет».
— Дат, все и так знают, что мы дураки. Нам терять нечего, — отвечал наконец Лева на десятую просьбу бабушки, а Мага молчал, и его упрямое смуглое лицо с бабушкиными глазами зажигалось мрачной решимостью. Все, в том числе и я, хорошо знали, что в такие моменты его лучше не трогать. Для несведущих же неплохо было ему на грудь приклеить табличку «осторожно, взрывоопасно!», но вряд ли бы он позволил. Зато когда Мага был весел, никто не мог не смеяться. «Все хорошо в тебе, Динка, только вот в голове — солома», — и в доказательство вытаскивал из моих волос золотистый сухой стебелек. Я расстраивалась и сердилась, не зная, как доказать обратное, но вскоре догадалась следить за его руками, пока, наконец, не поймала его за преступным занятием, когда он отщипывал тонкую тростинку от веника. Это был миг моего триумфа: «Смотрите, смотрите! — кричала я, — вот откуда он брал солому, а вовсе не из моей головы!» Маленький процент сомнений в том, что солома действительно могла быть моей, окончательно растаял, и я облегченно вздохнула. «Хватит издеваться над ребенком», — строго сказала бабушка. Если привычка искать в моей голове солому исчезла после разоблачения, то другая так и осталась, — после обеда Мага залпом выпивал стакан холодной воды, а последнюю каплю всегда выливал мне на макушку: «Чтобы росла».
Вскоре после сезонного воскресения альпинистского сезона и определения маршрутов, (как правило, самых дерзких), Лева и Мага «отливали» свою форму, и я болела за них на футбольных, волейбольных и баскетбольных площадках, пристрастно следя за сухопарыми фигурами, которые носились за мячом по немыслимо сложным траекториям, сбивая с ног соперников и отражали сверкающими молодыми телами робкое весеннее солнце. Я с замирающим сердцем наблюдала за молчаливым азартом, с которым они выполняли на турнике «солнце»и еще бог весть что, пренебрегая законами гравитации. Мне тоже перепадало от этого восторга: чьи-то крепкие руки подсаживали меня на высокую перекладину, Лева приказывал отжиматься и делать «уголок». Меня страховали, но я требовала «чтоб без рук», и в финале собственной программы срывала шумные одобрения. Порой в команде вспыхивал спор, как мне казалось, на ровном месте, чаще всего из-за неправильного счета, кто-то повышал голос, атмосфера накалялась, и с первыми крепкими выражениями Мага поворачивался ко мне и коротко бросал «А ну, дуй отсюда!» Как уже говорилось, я пользовалась особой благосклонностью «племянницы Левки и Маги», и меня чаще других возили на заднем сидении взрослых двухколесных велосипедов на бешеной скорости, так что дискретные окружающие предметы, пейзажи и лица теряли четкость очертаний и превращались в единый смазанный бесконечный кадр. Я до краев наполнялась кислородом, пытаясь сопротивляться резким, тугим струям ветра, бьющим в лицо и напряженные ноздри.
Мага ежедневно «подкачивал» икры своих длинных сильных ног, и без того достаточно накаченных, его спортивная прыгалка равномерно жужжала, периодически ускоряясь до визга. Над чистым смуглым лбом, в такт Маге, прыгало неусмиренное полукольцо темных волос, о которые ломались все пластмассовые расчески. Я составляла ему компанию, прыгая на своей детской прыгалке, и мечтала когда-нибудь достичь вожделенного мастерства Маги, который за один прыжок прокручивал свой тяжелый резиновый шнур дважды, ни разу не заронившись. Затем он с тем же молчаливым медлительным упорством сгибал и разгибал руки, легко и уверенно сжимая нетяжелые гантели, напрягал бицепс и подносил ко мне с улыбкой, а я восхищенно тыкала одним пальцем в самый центр твердого внушительного бугра.
Когда Лева с Магой обретали наконец необходимую спортивную форму, они шли на восхождение, и Мага, несмотря на Левины протесты, однажды посадил в рюкзак своего щенка. Оказавшись на снежной вершине, щенок ослеп от куриной слепоты и свалился в глубокую расщелину. Мага, недолго думая, полез за ним. Это было настоящим безумием, но его не отговаривали, понимая, что бесполезно, а молча остались страховать. Через два часа живой щенок был извлечен. Братья возвращались похудевшими, загорелыми и оживленными. Мне оставалось только подолгу разглядывать их фотографии: Лева и Мага среди других парней на фоне сияющего снежного покрова в невообразимых позах, с голыми торсами; да вдыхать снежный аромат царственных, неправдоподобно живучих рододендронов и прелестных изысканных эдельвейсов, которые мне приносили как подарок с поднебесья.
Частенько Мага возвращался домой с бездомными котятами. Бабушкины протесты постепенно глохли, когда магино красноречивое молчание (он никогда ни о чем не просил) соединялось с моими горячими мольбами оставить бедного котенка. В результате у бабушки, кроме прочих домочадцев, проживало несколько кошек, которые, по достижению относительной зрелости, уверенно выдворялись ею во двор, но и там продолжали вести безбедное существование. Завидев Магу, они стекались к нему со всех сторон, выныривая из своих укромных углов, щелей и подвалов. Впрочем, так же вели себя и собаки. Одна дворняга провожала его до работы и обратно в течении месяца. Мага кормил её так же, как своих котов, и она тоже поселилась в нашем дворе. Если к последнему факту жильцы отнеслись лояльно, то с кошачьим засильем примириться так и не смогли. Не спасала даже традиционная национальная обходительность. Разумеется, все жалобы и возмущения выпадали на бабушкину долю. Она каждого молча, терпеливо выслушивала. Ситуация серьезно обострялась в марте, когда неумолчный кошачий хор не давал жильцам уснуть. Нам приходилось выслушивать агрессивный натиск злых от бессонницы соседей. Тогда бабушка в отсутствие Маги вылавливала нескольких котов, засовывала в котомку и уносила в хлебные места. Правда, чаще всего они возвращались. Магин пес однажды пропал, мы его везде искали, пока кто-то из соседей не сказал, что видел похожую собаку, которая угодила под колеса автомобиля на соседней улице. Мага долго ходил мрачный, пока Лева не подарил ему щенка. Он совершал длительные одинокие вылазки в лес, наблюдая за зверями и птицами, лазил по деревьям, расширяя свою и без того обширную коллекцию птичьих яиц, которую он знал как птичий бог, и каждое мог опознать с закрытыми глазами. Во время массовых перелетов, после ночи, он находил мертвых и раненных птиц, натыкавшихся в темноте на провода и шпили высоких башен, и нескольких выходил, обнаруживая чудеса ветеринарного искусства.
В октябре, когда бесчисленные косяки форели устремлялись вверх по горным рекам на нерестилище, он собирал команду рыболовов. Но самые серьезные из них вскоре отпадали, так как Мага частенько выпускал назад всю наловленную рыбу.
Иногда на выходные к нам захаживал городской сумасшедший Хамыка, который отличался ровным незлобивым нравом. Я его совсем не боялась, а однажды даже подралась с соседскими мальчишками, которые под улюлюканье и хохот обстреливали его комьями земли, стараясь попасть ниже спины. Хамыка старательно защищался руками и смешно всхлипывал. Он всегда ходил с мешком, и меня раньше пугали им, угрожая, что в случае особого непослушания он меня в него сунет и унесет, но очень скоро я убедилась в невинном предназначении пресловутого мешка: в него складывались подарки. Как — то он попросил меня красную одежду, (он обожал все красное) и я, чтобы угодить ему, сгребла все красные вещи, которые подвернулись под руку в платяном шкафу. Сверху я положила мужской одеколон «Шипр». А вечером выдержала могучий шквал неуправляемого магиного гнева, так как красными вещами оказались в основном его спортивные майки и трусы. Обуздать его гнев было невозможно и, как любое стихийное бедствие, можно было только терпеливо переждать, поглубже забившись в укрытие.
Периодически возгорающийся и опасно тлеющий боевой дух Маги перманентно мерцал и был овеян легендарной славой, а также отмечен всеобщим молчаливым признанием неформального лидера всего нашего района. К нему, 18-летнему, приходили с просьбами великовозрастные мужи, которым нужен был надежный железный кулак и неукротимый нрав. У Маги и его друзей был свой, жестко регламентированный кодекс чести, согласно которому они отстаивали права даже самого последнего «слабака», только потому, что он был «свой». Любой косой или откровенный взгляд на каждую из «их девушек» тоже не прощался. Но если дело казалось Маге пустячным, он мог коротко заявить просителю: «Пошел ты…» Правда, иногда случались недоразумения. Как – то к нам приехал племянник бабушки верхом на лошади, изрядно побитый. Он был жокеем. По пути его встретили трое ребят и попросили прокатиться на лошади, но он им отказал: «Да вы что, она же скаковая!» Тогда они его побили, и он заехал к бабушке. Та заохала, уложила его. Когда пришел голодный Левка и приступил к ужину, бабушка рассказала ему об этом злоключении, указывая на пострадавшего, который в тот момент являл из себя жалкое зрелище. «Сейчас я доем и их отлуплю!» — сказал Левка. «Они разойдутся, пока ты будешь есть!» — возразила бабушка, отодвигая тарелку от Левы. Тот молча встал и вышел, отлупил каждого из обидчиков и вернулся доедать ужин. За этим занятием его застал Мага. Короткая прядь волос над гневным лбом воинственно пружинила. «Левка, сволочь, ты почему моих друзей избил? А ну – ка, выйдем!» — начал он с порога, без каких – бы то ни было дипломатических преамбул. «Ах, так они еще и твои друзья?» — вскочил Левка, снова оставляя недоеденный ужин. Они вышли, и Левка поколотил еще и Магу.
Мне стало ясно с самого раннего детства, что чаще всего мужская правда утверждается силой. Магина скандальная репутация первого забияки и драчуна стремительно взлетела и застыла на самой высокой планке в странной иерархии мужских достоинств. Он был кумиром всех окрестных мальчишек, и получить от Маги веселый подзатыльник означало снискать его благосклонность. Его дьявольская неустрашимость оказывала самостоятельное магическое воздействие на противника и порой еще до боевых действий обращала в бегство. У него, как у хорошего воина, было несколько шрамов на теле. Младшие мальчишки, чтобы впечатлить своих друзей, частенько просили показать их, и когда Мага был в хорошем расположении, снисходительно задирал футболку и демонстрировал тонкий длинный шрам под левой грудью и продольный — на животе. Я знала, что в густых шелковистых зарослях непокорных волос таился грубый шрам от кастета.
Мага часто гонял на велосипеде своего друга, Толика Соколова, на бешенной скорости, состязаясь с ним на время. Однажды Толик опоздал к условленному времени, объяснив, что пришлось подкачивать велосипедную шину. Он казался немного смущенным. «Почему ты ведешь себя, как доходяга?» — спросил Мага после небольшой напряженной паузы. Толик обескуражено посмотрел на него. «Неужели ты такой слабак, что тебе приходится врать, да еще по пустякам? Скажи, как есть: «Я опоздал, потому что мне наплевать!» Толик покраснел, но промолчал.
С начала лета Мага целиком отдавался своей основной страсти — подводному плаванию. Никто не мог объяснить этой стойкой одержимости, кроме меня. Я хорошо помнила, как бабушка упомянула в одном разговоре с Жанпаго: «Я узнала, что жду младшего ребенка после того, как выкупалась в Баксане». Это означало, что Мага был подарен бабушке рекой. Заинтересовавшись услышанным, я в тот же день спросила бабушку об обстоятельствах моего рождения, и бабушка ответила с ласковой улыбкой: «Ты родилась, когда слились две реки Кабарды, Терек и Баксан». (Это был очень убедительно, так как отец мой был терским, а мать — баксанской). Вечером я поведала о своем знании маме, и она, не отрываясь от спешной вечерней стряпни, между делом рассеянно крикнула папе, который в этот момент читал в комнате газету: «Послушай, разве Терек с Баксаном сливаются?» И папа сказал: «Разумеется, Баксан – приток Терека ». – «Это не лучшая твоя шутка», — заметила мама, продолжая возиться у плиты. «Я и не думал шутить», — пробормотал папа и добавил с короткой улыбкой: «Хотя я понимаю твои чувства».
Заразившись одержимостью к лепке от скульптора, что работал с утра до ночи в мастерской соседнего подъезда, я на его пример лепила из пластилина все подряд. Мое занятие неожиданно одобрил Мага. Он молча и долго разглядывал мои фигурки, затем вылепил довольно сносного кита, исправил мне жирафа, у которого голова не удерживалась на длинной шее, просто воткнув в нее спичку. В тот период я была больна известной песней, и во время своих занятий напевала ее:
Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди!
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один.
«Вылепить тебе орленка?»- спросил Мага. Я с радостью согласилась. И он вылепил: большого, красно – оранжевого, с острым клювом и раскрытыми крыльями, на которых даже можно было различить даже перья. Ему оставалось только доделать лапы, и чтобы справиться с такой ювелирной работой, мы положили фигурку на батарею, вместе с другим небольшим кусочком пластилина, чтобы его размягчить. Бабушка позвала нас пить чай, но когда мы обернулись к нашему орленку, он уже растекся по батарее бесформенной массой, а маленький кусок рядом с ним стек вниз тонкой струйкой. Бабушка всплеснула руками и принялась оттирать пластилин. Я беззвучно плакала. «Давай я вылеплю еще одного», — предложил Мага. Но я покачала головой. На батарее так и осталось небольшое несмываемое терракотовое пятно.
Его молчаливая особая привязанность к матери проявлялась у Маги привычкой регулярно ездить на ее родину, в Докшукино. Иногда он брал меня с собой.
-Откуда такое смешное название — Докшукино? — однажды поинтересовалась я.
-Докшукины — фамилия бывших владельцев этой местности, — ответил Мага. —А куда они делись?
-Их больше нет, осталось одно название, — отрезал Мага, исчерпывая разговор.
Мы садились на электричку «Нальчик – Прохладный», и я занимала место у окна. Электричка медленно плелась, без конца останавливаясь. Мимо проплывали кирпичные неоштукатуренные здания без табличек, похожие на складские казенные помещения; их невзрачности не могло скрасить даже розовое утреннее солнце, новостройки с подъемными кранами, снова мелькали какие – то серые здания и пустыри. За городской чертой поезд набирал ход, и внезапно за окном вспыхивало яркой охрой бескрайнее поле подсолнечников, головки которых были дружно повернуты к солнцу. На горизонте висели объемные белые кучевые облака с необыкновенно четкими краями, будто их раздули, как резиновые игрушки. Только три ярких, несмазанных цвета: желтый, синий и белый. Поле подсолнухов обрывалось так же внезапно, как начиналось, сменяясь нежно – зеленым, с высокими стеблями, — кукурузным. За ним следовала маленькие деревеньки: светлые одноэтажные домики вдоль железнодорожной трассы на неравных промежутках друг от друга, с такими же маленькими палисадниками. Мелькали поля пшеницы и ржи, и густым сочным изумрудом проносились озимые. Поля заканчивались крутым откосом, и взгляду открывалась стремительная голубая лента реки, я подскакивала и бежала к противоположному окну смотреть на ее продолжение, которое перемешивалось на горизонте с тем же голубым тоном низкого неба. За рекой стеной вырастала лесополоса смешанных деревьев, и пегие тенистые изломы редких холмов. Солнце перемещалось, косо освещало вагон, образуя прозрачные янтарные столбы плавающей пыли, било в глаза, я их закрывала, и солнечный свет просвечивал сквозь тонкие веки теплыми оранжевыми бликами. На длительных остановках Мага выходил, оставляя меня на попечение соседей. Я крепилась, чтобы не плакать, беспокоясь, что поезд уйдет без него. Но он ни разу не ушел, зато Мага оправдывал мое томительное ожидание, покупая лимонад, ириски, казинаки и – восхитительное излюбленное лакомство – огромные воздушные прямоугольники сахарной ваты – белые, розоватые или бледно – желтые. Пока вата таяла у меня во рту, та ее часть, что удерживалась в пальцах, сплющивалась и превращалась в противный липкий клейстер, он же оставался вокруг губ, и Мага вел меня в туалет в конце вагона. Я заходила в тесный отсек и стремительно закрывала дверь перед его носом: «Только для женщин!» Он терпеливо ожидал моего выхода, ни на минуту не отлучаясь.
Мы с Магой стремительно обходили всю родню, которая никак не желала его отпускать, но он чаще всего отбывал вечерним рейсом, заваленный подарками. Меня же оставлял на неделю, а то и на две, и мои добрые тетушки закармливали меня деликатесами, шили летние платья из цветных летящих тканей, а братья и сестры водили на озеро и речку, в кино и на качели – лодочки при школе.
Мага учился заочно и работал на стройке, и был, в отличие от брата, почти всегда при деньгах, которые он частенько одалживал Левке. Впрочем, иногда он отвечал на его просьбу решительно: «Денег я тебе не дам». Это означало, что у него самого их не было, но Мага в этом никогда бы не сознался. Лева же писал диссертацию. Однажды я была свидетелем того, как он услышал фразу относительно того, что человек, убивший нескольких человек, называется убийцей, а убивший несколько миллионов может быть назван победителем. Я сама почти физически ощутила недоумение, отразившееся на его лице. С тех пор он занимался теорией войн. Так он дошел до эпохи правления Сталина. Благодаря своим связям, ему удалось невозможное: проникнуть в архивы КГБ, и все свободное время он проводил там. Это совпало со странным инцидентом за ужином. Теперь в семье был в ходу анекдот, когда на вопрос, что же делает Лева, отвечали — левитирует. Братья стали запираться в комнате и подолгу тихо говорили, лишь однажды до меня долетели левины реплики с непривычными напряженными интонациями: «Ты пойми, это то не сотня, не тысяча, это- десятки и десятки тысяч!» Впрочем, ничего не происходило, кроме вечерних разговоров братьев за закрытыми дверями, после которых Лева выходил бледным, а на лице Маги появлялось характерное выражение упрямой решимости. Леву все больше засасывал архив, а Мага целиком отдался подводному плаванию. Вместе с тем я чувствовала, как что-то неуклонно меняется, когда еще ничего нет, но грядущие перемены рождаются легким холодком на самом дне сердца, будто мое привычное пространство уже дало невидимую трещину.
ВЕЧЕРА
Больше всего я любила вечера, когда мы с бабушкой укладывались спать, и в спальне загорался желтый абажур с закрученными спиралью нитями бахромы цвета охры по периметру волшебной полусферы; комнату заливал теплый золотистый свет, мягкий, чарующий. Я его вскоре тушила, чтобы наблюдать за вечером, и он неслышно заползал в распахнутые окна, сочился сиреневым мраком сквозь прозрачную кисею занавесей, и с ним уходила резкая контрастность дня. Затем он сгущался и чернел, превращаясь на моих глазах в некую метафору времени, которое сначала обесцвечивает, а затем слизывает предметы. Он приносил свежие струи, — первые предвестники ночной прохлады, в которых растворялись усилившиеся запахи зелени и цветов с палисадника, и призрачную игру свето — теней в синих и лиловых тонах, но вскоре вся комната, окончательно теряя краски, оказывалась внутри его необъятной утробы. Я вытягивалась на белоснежных крахмальных простынях, ощущая всем телом их душистый холодок. Заходила бабушка, включала свет, пока готовилась ко сну, потом снова тушила, и сначала всё на мгновение погружалось в черноту, но вскоре сразу передо мной проступала фигурка оленя, который оживал только ночью. Днем он стоял на полке, безучастный и неприметный, ничем не выдавая своей волшебной тайны, но лишь ночной мрак обретал физические очертания, его фосфорическая плоть наполнялась мерцающим светом жизни и начинала парить в бесконечном полете. Я неотрывно смотрела на летящее маленькое тело, объятое холодным зеленоватым пламенем, а справа от себя ощущала бабушкино тепло. Я просила сказку, и она рассказывала, чаще всего одну и ту же, которую я каждый раз выслушивала с неослабевающим интересом. Но иногда мы говорили подолгу, и я, защищенная темнотой ночи, могла задавать самые смелые вопросы, которые не осмеливалась задавать днем:
-Нана, почему мы рождаемся и умираем, рождаемся и умираем? Это же для чего- то нужно?
-Каждый человек, каждый народ и все человечество посланы Аллахом, чтобы совершить и оставить для мира что — то очень важное. Пока они не поймут и не сделают этого, так и будут рождаться и умирать, рождаться и умирать.
-А если совершат?
— Исчезнут навсегда.
-Все люди исчезнут?
-Исчезли же великаны, испы, чинты и Нарты. И мы исчезнем, когда совершим то, что должны.
Я похолодела: «Тогда уж лучше не совершать».
— Нет, не совершить нельзя. Надо перестать бояться смерти, ведь праведные попадают в жэнэт.
— Праведные — это те, что совершили что-то главное?
— Да.
— Нана, а ты совершила что-то главное? – Думаю, еще нет. — У меня отлегло на сердце. (С того вечера я наблюдала, как день ото дня бабушкины спокойные глаза становились порой совсем прозрачными и лучистыми, и поняла, что она давно преодолела страх смерти, а, может, и саму смерть. Однажды я ей сказала об этом. Она рассмеялась: «Это потому, что у меня есть ты»).
–А что будет после людей?
— Будет конец света. И свет перевернется, и огонь станет водой, а вода — огнем. Тогда лучше вступать в огонь. Даже горы будут сотрясаться и рушиться, мир погибнет от огня и воды, и останется один Аллах. Настанет новый мир. И всевышний пришлет кого-то гораздо лучшего, чем человек.
— Но кого?
— Должно быть, он вызовет к жизни души просветленных и чистых, и будет новый народ.
-Но это же будет человек!
— Совсем другой человек.
— Ты мне не ответила, для чего же мы все — таки рождаемся?
-Я думаю, чтобы когда — то среди нас появился на свет один, который бы дотянулся до неба.
Много лет тому назад захотели Нарты, — те, что были до нас, — дотянуться до неба. Взошли они на самую высокую гору, стали друг на друга, вот уже достигли самых высоких облаков, но так и не дотянулись до неба. Тогда они поставили свой скот, и лошадей, и мулов, и опять не дотянулись до неба. Оставались только маленький мальчик со своей кошкой. Потерявшие надежду Нарты поставили наверх громадной пирамиды кошку и ребенка — и мальчик дотянулся до неба.
— А после Нартов люди дотянулись до неба?
— Нет.
— Почему?
— В вечной борьбе за свою землю уничтожались их роды и племена, и прерывалась цепочка, тянувшаяся вверх в неистребимом стремлении коснуться неба, и уходили под землю живые. И все-таки люди становились на плечи друг друга, чтобы дотянуться до небесной выси. А мертвые подпирали своими плечами хрупкие ноги живых, укрепляя собой зыбкую твердь сырой земли, и снова живые становились на плечи мертвых в этой бесконечной пирамиде, не достигающей неба.
-А почему люди все время воевали?
Бабушка молчала — впадала в дрему, но я не сдавалась: «Баба, зачем же люди все время воевали?»
— Это все – дело рук Иблиса.
-Кто это?
-Ангел, слуга Аллаха.
-Расскажи про них.
-Ладно… Аллах долго был один. Потом он сотворил ангелов. Но однажды сказал: пусть будет мир, свет и темнота. И сделал так. Создал он мир людей, зверей и птиц. Оставалась самая малость: установить порядок на земле. Но у Всевышнего оставалось еще много других важных дел. Увидел это верный ангел Аллаха Иблис и вызвался помочь ему. Тогда сказал ему Гоподь: «Хорошо, иди и наведи на земле божественный порядок, и вдохни в него божественную любовь». Обрадовался Иблис и сказал: «Сделаю, как ты велишь». И спустился на землю. И увидел Иблис, что человек напоминает ему Творца. И навел на земле божественный порядок. Чтобы все в земной жизни людей, птиц, зверей и растений происходило в свой срок и при этом никто не мешал друг другу. Старательно выполнил Иблис приказ Аллаха, кроме одного – не вдохнул он в свой труд божественную любовь. Должно быть, не было ее, ведь он не был богом. Вот тогда и произошло несчастье: пошатнулся великий порядок, потому что его не держала божественная любовь. Каждый стал утверждать свой порядок. Каждый настаивал на своем, и чтобы доказать свою правоту, люди стали воевать друг с другом. Вот с тех пор и воюют.
-Может быть, чтобы установить самый лучший порядок в мире?
-Так люди думали много раз, и приходили к разным порядкам, которые им казались самыми лучшими. Но любые человеческие порядки все время рушились.
-Почему?
-Потому что даже самый лучший порядок бесполезен, если в нем нет божественной любви.
Наутро бабушка никогда меня не будила: она боялась, что душа не успеет вернуться в тело, потому что она покидает его во время сна и скитается. Особо любопытные души успевают семь раз обежать вокруг земли, все на свете разведать и вернуться вовремя в спящее тело. Но ни одна душа не ошибается и всегда помнит дорогу домой. Я настолько заинтересовалась путешествиями душ, что однажды пристала к Леве во время прогулки, и он дополнил скромный рассказ бабушки. Юркие и вездесущие, говорил Лева, души проникают в самые укромные тайные уголки, куда громоздкое неуклюжее тело и не подумало бы забраться. Они воплощаются разноцветными валунами, чтобы катиться с чужих незнакомых склонов, становятся невидимым мелким камнем, одним из миллионов, затерянным среди речной и морской гальки, омываемой водами неведомых рек и морей, и могут растворяться в разливе чужих вод. Души, обернувшись рыбкой, бороздят со своим косяком пресные и соленые воды великих рек, морей и океанов. Они могут узнать, что кроме Черного, существует Красное, Желтое, Белое и Мертвое моря, и еще масса других, и четыре необъятных океана, которые на самом деле — одно целое, один мировой океан, потому что все океаны перетекают друг в друга. Они могут перелететь с кавказских гор на вершины других гор – Альп и увидеть там снежного барса. Они свободно пролетают над благоухающими тюльпанными полями северной страны Голландии и роскошными орхидеями южной страны Колумбии, и видят с высоты полета бесконечные игры гладких китов у берегов Южной Африки. Души проносятся серыми и рыжими белками по чужим лесам, экзотическими птицами могут отведать незнакомый вкус и аромат сладких плодов в вечнозеленых джунглях и тропических садах, название которых не знают. Они оказываются рядом с медленно парящими белыми аистами над рисовыми полями Андалузии и могут видеть их просторные гнезда над церковью Сан-Мигель, способны превратиться в розовых фламинго, что пролетают над Францией накануне цыганского фестиваля. Гонимые попутным ветром, они катятся перекати – полем по чужим бескрайним равнинам, или одним из бесчисленных колес, что поднимают дорожную пыль по бесконечным дорогам мира, или пролетают грозовыми облаками над прекрасными белыми городами ближних и дальних стран живых. Они пролетают над городами мертвых, заселенных мумиями фараонов, животных и птиц, среди которых мумии ибисов, настоящих и фальшивых соколов. Они могут заметить, как хвойные леса на севере Мексики одеваются однажды бархатным трепещущим покрывалом – миллионами бабочек – монархов, которые ежегодно объединяются на своей родине.
Кто-то порой удивляется, узнавая незнакомое место или человека: «Как же так, ведь я здесь никогда не был! Со мной такого никогда не происходило! Ведь я раньше никогда его не встречал!» Поэтому иногда мы узнаем многое из того, чего раньше никогда не слышали или не знали. Тело никогда не знает, что это — проделки души.
Но иногда с душой может приключиться беда, например, она может свалиться в глубокий колодец или где-нибудь застрять, или встретить по пути Псахех, собирателя душ. Тогда она не возвращается вовремя в тело, и все думают, что спящий человек умер. Освободившись, душа может вернуться в свою телесную оболочку слишком поздно, когда та уже под землёй. Но, проснувшись, бедняга не находит дороги наверх, и его душа покидает заблудившееся тело навсегда. Ибо душам всегда нужен свет и простор.
Я мучительно завидовала судьбе этого вечного бродяги – душе, так как меня саму одолевала стойкая страсть быть повсюду. Первым шоком, отравившим мое детское существование, явилось сознание, что я должна жить в одной квартире, каждый день ходить в один и тот же детский сад, позже — один и тот же класс одной и той же школы в одном городе. Было странно видеть в зеркале одно и то же лицо, которое не меняется также стремительно, как я внутри себя. Поскольку это не было внезапным открытием, то не причинило острой боли, но стало хронической болезнью, с которой я так и не справилась. Мои глаза сами начинали слезиться, когда взирали на вечно переменчивую, вечно желанную тонкую полоску горизонта, — там, где сходятся земля и небо. Я до сих пор смотрю на нее с глубокой тоской.
Когда меня сотрясал очередной приступ лихорадки «я хочу пойти туда – то и увидеть то — то», мама восклицала с чувством: «Ну неужели так трудно сидеть дома, как все нормальные дети? Кажется, вместо собственного ребенка мне в роддоме подсунули цыганку!» В глубине души я признавала, что это правда: я принадлежала племени кочевников.
В пять лет в детском саду мне подарили большую книгу с изображением Ленина, которая так и называлась «Дедушка Ленин». Я сразу выучила все стихи из книги, в том числе и революционные, и решила рассказать их бабушке. Она была повернута к плите, — ни разу не обернулась и не сказала ни слова, пока я старательно декламировала. Я смутилась и замолчала. «Тебе что, не нравится?» «Видишь эти тополя, — сказала неожиданно бабушка, указывая на деревья за окнами, — мы сажали их вместе с твоим дедом в честь своих родичей. Они были уорки. Одни из них погибли в 1779 году на правобережье реки Малки. Те немногие, что остались, — в 1917 году, когда случилась революция, и еще позже, в 1937. Эти тополя без пуха. А весной, когда распускаются почки, они начинают издавать винный запах и тихо шуметь молодой листвой».
НАША СЕМЬЯ
Я родилась в университетском общежитии. Но мы переехали в маленькую двухкомнатную квартирку. Моя память не сохранила воспоминания о жизни той поры, о которой мама говорила, как о «маленьком кусочке рая, которого мы не сознавали», или как о «коротком коммунизме», а папа добавлял: «когда мы все одинаково плохо жили, но всем было одинаково хорошо». Благодаря бабушке и беглым репликам вечно занятой мамы, я была в курсе добрачной истории своих родителей. Отец был тогда молодым аспирантом, которому необходимо было собрать материал для диссертации. Этому предшествовала настоящая папина одиссея, которая по моим поздним размышлениям явилась фатальным и неизбежным прологом к моему собственному существованию. Отец уже в ВУЗе знал, что будет исследовать: жизнь и творчество кабардинского поэта Шаоцукова. Он был на третьем курсе, когда в республике праздновался пятидесятилетний юбилей поэта. Отец вернулся домой и ездил по колхозам республики, читая лекции о его творчестве. Точнее сказать, — не ездил, а ходил, (так как транспорта в начале пятидесятых почти не было), износив, как сказочный герой, не одну пару чужих старых башмаков. Клубы являлись редкой собственностью богатых колхозов, и он ночевал под открытым небом, возле правления. Народ собирался на обеденный перерыв на колхозном стане, в это время председатель колхоза представлял студента, и тот читал лекцию на месте, среди поля. Во время курсовой работы на тему «Творчество Б. Пачева», моего будущего отца из Ленинграда на месяц командировали в Нартан, родной аул поэта, и он прожил там, увлеченно собирая материал, но заболел от недоедания, и, не желая обременять своим состоянием чужих людей, у которых проживал, переехал в районный центр, к своим родственникам. Однако в Ленинград вернулся с собранными материалами. Его дипломная работа была посвящена жизни и творчеству А. Шаоцукова, и после ее защиты он получил направление в аспирантуру, куда позже поступил. В Москве, работая в архивах, он нашел детское письмо моей будущей мамы, которое она послала Юрию Лебединскому, другу дедушки, в котором просила помочь получить карточки на хлеб, — семье репрессированного военнопленного поэта в них было отказано. Вернувшись в Нальчик, отец пришел к вдове А. Шаоцукова. Моя будущая бабушка терпеливо и лаконично ответила на все вопросы, показала документы, бумаги и архив, но от нее требовались еще личные воспоминания. Она сослалась на безграмотность (а реально просто стеснялась говорить о своем муже), и сказала: «Ты спроси мою старшую дочь. Она грамотная, лучше расскажет». И папа пошел в городскую больницу, в одно из терапевтических отделений, в котором работала мама.
Мы занимали одну комнату на этаже молодых преподавателей университета: они все были молоды, с одинаковой зарплатой, крепким здоровьем, общими интересами и проблемами, которые решались сообща. Каждый мог беспрепятственно взять отсутствующий в доме продукт в соседском холодильнике, младших детей воспитывали старшие, соседские. Таким же образом была вынянчена и я, двумя девочками – подростками, когда мама вышла с полуторамесячного декрета на полуторную ставку и прибегала в кратких промежутках кормить меня с липким от молока бельем. Молодые пары устраивали по любому поводу сабантуи, с отварной картошкой, портвейном № 17 и танцами, а скудный стол не был помехой веселью, бившему через край. Родители на протяжении всей жизни не теряли связи со всеми «общежитскими» и были в курсе их дел. Мама называла этот период «чудной эпохой шестидесятых». Их закат распространялся на тот период, когда меня уже посылали в местный гастроном в соседнем доме, так что не надо было переходить дорогу. Я подолгу стояла у витрины, рассматривая гастрономические прелести, заботливо уложенные перед глазами вожделеющих потребителей: красно-розовые дольки сосисок всех сортов и калибров, кроваво-красный в белую крапинку сервилад, бледно-розовая белесая докторская, янтарные острова сливочного масла, прихотливо сочетающегося с коричневыми рифлеными айсбергами шоколадного. Между ними высились геометрические фигуры творожных и плавленых сырков всех мастей в пестрых обертках и, наконец, настоящие сыры: белые круги и полукружья кабардинского и осетинского, а также голландского, редко-ноздреватого, тускло сияющего почти непристойной телесной наготой, и более светлая сплошная тугая плоть — российского. Их окружали пирамиды из банок сгущенок и кофе с молоком, являя собой творения гастрономического зодчества. Наконец, с трудом оторвавшись от витрины, я вспоминала: «Триста грамм сливочного масла и кобийского сыра», и шла к кассе, оказываясь перед ласковым голубым взором необъятной тети Нюси – кассирши.
Наша новая, коммунальная квартира, в которую мы вскоре переехали, была одной из немногих лучших в городе, — в доме, добротно построенном немецким военнопленными. После прежней она казалась нам необыкновенно просторной, — мы занимали две большие комнаты. Наш сосед — высокий черноволосый синеглазый красавец – дядя Вася, показывал нам удивительные фокусы из карт и спичек. Его жена — улыбчивая, румяная и строгая тетя Нина, учила меня подметать, стирать и жарить картошку. С их плотным, розовощеким сыном Сашкой играли в Апанаса и другие, не менее шумные игры, испытывая терпение наших родителей и распугивая серых мышей складского подвального помещения. Мы по – своему разыгрывали первые вестерны, что шли на экранах ближайших кинотеатров «Дружба» и «Ударник»: мастерили себе ковбойские шляпы, такие, как носил Лимонадный Джо, а во дворе изрисовывали все сараи и гаражи огромной буквой Z, что означало Зорро. Мы хотели быть Фантомасом, несмотря на его немыслимое мрачное могущество, нас не отвратила эта загадочная фигура тогда даже, когда мой брат вывел из имени ее сущность: «Этот Фантомас на самом деле даже не существует. Он просто Фантом – Ас». Но мы все равно хотели быть великими фантомами, и никто не хотел даже на время становиться тупым инспектором, которого играл Луи де Фенес.
По выходным отец выводил нас в город. Мы попадали на центральную улицу Ленина, — широкий прямой типовой проспект, со старыми сталинскими и более поздними хрущевскими жилыми и административными зданиями, с небольшими стандартными магазинами и универмагом, с дешевыми советскими кафешками на углах кварталов, которые с большим основанием можно было назвать закусочными, (так как там вообще не подавали черного кофе); мы посещали их сначала больше из любопытства, потом по привычке, а позже, в студенческий период, заскакивали между парами семинаров или лекций, используя заведение по прямому назначению, ведомые повышенным студенческим аппетитом. Внизу, ближе к вокзалу, по центру просторной площади, высился памятник Марии в национальной одежде. Когда мы гонялись друг за другом вокруг памятника, брат спросил однажды: «А кто такая эта Мария?» «Дочь кабардинского князя Инала Гуашана, которая стала женой Ивана Грозного. После крещения ее назвали Марией» — «А что она держит в руке?» — «Грамоту о добровольном присоединении Кабарды к России». После минуты размышлений брат спросил меня: «А в Москве поставили такой же памятник?» — «Кажется, нет», — сказала я неуверенно. Мне, признаться, такая мысль даже не приходила в голову. «Значит, присоединение недобровольное», — заключил брат. Я открыла рот, чтобы возразить, но не нашлась и промолчала.
В центре проспекта располагались редакции, издательство и типография, а сверху улицу венчали два других памятника – Калмыкову, у самого входа в парк; напротив огромного белого здания дома Советов, в центре самой большой городской площади на пьедестале парила величественная фигура В. И. Ленина с вытянутой вверх рукой, как у Калмыкова и у Марии. Много позже, уже после перестройки, бронзовую фигуру вождя сместили на периферию площади, а на прежнее место установили огромный стеклянный глобус, выложенный из равных прямоугольников разного серого тона. Улица плавно перетекала в парковую зону, — Долинск, который убегал к Белой речке и куда – то в предгорья, а в ясное утро с широкой площади открывалась всегда разная панорама ближних темно – зеленых холмов с изумрудными лужайками, а за ними в сизой легкой дымке проступали высокие серо – белые, жемчужные горные кряжи, которые в полуденном мареве казались призрачными. Параллельно проспекту наверх вытягивалась курортная зона: строгие, добротные светлые корпуса санаториев белели в проемах густой зелени. Они процветали до девяностых годов, но перестройка и Чеченская война явились для курорта апоплексическими ударами, которые его парализовали почти полностью, после чего он так и не оправился. По обеим сторонам проспекта тянулись клумбы роз, которые благоухали до глубокой осени, одевая его в легкий, как дым, волнующий флер.
По воскресеньям отец водил нас на железнодорожный вокзал. Мы поднимались на высокий мост и становились в центре у высоких перил. Брат начинал ныть, требуя паровоза. Я вглядывалась в самую дальнюю точку горизонта, искала глазами темную точку, — приближающийся поезд. Пока его не было видно, я наблюдала за вокзальной суетой на привокзальной площади, к которой то и дело подъезжали такси и частные машины; из них выскакивали пассажиры, разгружали багаж и в окружении провожающих озабоченно устремлялись к платформе, по которой сновали маленькие фигурки пассажиров и носильщиков с тачками, дежурных и железнодорожников, проверяющих составы и пути. «Появился!» — внезапно восклицал отец, и только потом я различала темную точку на горизонте, которая не столько приближалась, сколько беззвучно стремительно нарастала, пока не превращалась в поезд, — и меня охватывал немой восторг сбывшегося ожидания. Вскоре нас оглушал протяжный гудок, обдавало облаками белесого светлого дыма, а стук колес оказывался таким живым и близким, что пронизывал все тело, — становилось жутко и весело. Вернувшись, мы обедали чаще всего под звуки, полные неистребимого оптимизма любимой старой песенки Дунаевского «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер» или пионерской удалой — «Эх, хорошо в стране советской жить!», или под аккомпанемент популярных песен местных авторов «Розы Долинска», «Твои глаза не карие».
Но уже очень скоро на меня стала действовать скука стандартизованной городской унификации. Кроме этого меня томила неясная пустота и тяжесть, они неподвижно повисали в окружающей атмосфере. Их происхождение я не могла понять и тем более объяснить, будто меня начинала разъедать тихая ржа и заволакивать плесень, цветом похожая на медленное серое забвение. Мои ровесники казались жизнерадостными и довольными, но в себе с некоторых пор я больше этого не ощущала, и долгое время думала, что все дело во мне: я – «неправильная», не такая, как все. Иначе как можно быть не вполне счастливой в таком счастливом месте, о котором поют счастливые песни и, главное, в котором все окружающие так счастливы?
Наш город тоже был вполне счастливым и по — социалистически благополучным. Можно было не сомневаться, что за углом улицы Первомайской перед вами откроется широкий обзор полупустой привокзальной Площади революции, или сквер Дзержинского, 1917 или 1905 года с еще одной бронзовой фигурой по центру. Следуя дальше, вы обязательно вышли бы на улицу Красногвардейскую или Красноармейскую с двухэтажными домами, покрытыми облезлой краской неопределенного цвета; узкий переулок с мусорными баками, облепленный кошками разных мастей, выводил вас на улицу Клары Цеткин, что вилась параллельно улицам Серго Орджоникидзе и Двадцати Шести Бакинским Комиссарам и перпендикулярно улице Суворова, известной большим водочным магазином и (или) пивной. Вскоре перед вами распахивался просторный зеленый сквер и монотонный фасад кинотеатра «Юность» и, чуть поодаль, — почти такой же кинотеатр «Аврора». Вы спускались дальше вниз и внезапно оказывались пойманными в тупик самодельным деревянным забором ядовитого зеленого цвета, сконструированным не самым добросовестным образом, и такую же калитку с табличкой «Осторожно злая собака», за которой беспородная дворняга тотчас же обнаруживала свое незримое, но грозное присутствие. Неумолимая стихийная логика советской архитектуры выводила вас на улицу Инессы Арманд с унылыми одноэтажными домиками, и, наконец, повинуясь чутью, вы сворачивали налево и выныривали на искомой улице Республиканской или Советской, которые выглядели респектабельными проспектами после тоскливых провинциальных улочек ваших недавних блужданий. Вы оставляли позади блекло – розовое полотно, простертое на пять этажей, на котором изображалась гигантская фигура В. И. Ленина, проходили мимо других пятиэтажек, похожих друг на друга, как сиамские близнецы, над которыми цвели выцветшие лозунги «Миру Мир», «Народ и Партия едины», «Мир, Труд, Май», «Единство, равенство, братство» и др. Уже, потеряв надежду, вы оказывались перед забегаловкой «Встреча» или «Маяк», возле которой назначили встречу.
Инерция поиска выносила вас на магистральное Шоссе Энтузиастов, которое победоносно и прямолинейно простирало свое широкое литое серо- асфальтовое тело вглубь республиканской провинции, бездумно попирая и сковывая ее своенравную непредсказуемую зелень, прорезало виртуальную границу республики, обозначенную лишь строгими черно – белыми указателями. Свернув с магистральной дороги, через какие – то два – три десятка километров вы могли оказаться в передовом совхозе «Заря Коммунизма», или не столь процветающем по известным и неизвестным причинам колхозе «Красный Октябрь». Где-то рядом пролегала окружная дорога, все еще стягивающая город и провинцию воедино, как старый серебряный пояс на фантастически узком стане прежней кабардинки, — (недавний обиходный предмет, ставший теперь утраченным символом).
Позже, в период перестройки дорога, полупустынная во времена моего детства, оказалась перегруженной транспортом, так что девственный «пояс» начал угрожающе трещать, пытаясь удержать в своих пределах расползающуюся вширь плоть города, который неуправляемо распухал на дрожжах новоявленных хот-догов, чизбургеров и пиццы. Названия магазинов, кафе, столовых, кинотеатров и т.д., обозначенные когда–то нетленными терминами советской власти, наряду с более редкими национальными (например, «Адиюх» или «Нартух»), стали постепенно вымещаться чужими, все еще диковинными для сельского глаза: Манхеттен, Плаза, Визави, Дольче Вита, Мулен Руж, Vavilon и др.
Первоначальная подростковая реакция отторжения постепенно смягчалась, и вскоре мы уже не замечали не самого изысканного, а подчас откровенно безвкусного экстерьера фасадов, так как едва ли ни каждое место наполнялось особым содержанием благодаря непередаваемому спектру ощущений: здесь было первое свидание, а там – первое признание, незабываемая встреча или разговор, или собственное внезапное озарение, которое переворачивало сознание и в результате меняло жизнь, а какая – нибудь самая обычная улица была навсегда освящена сиротливой тщетой юношеской влюбленности. Со временем я уже не воспринимала эту внешнюю, не самую привлекательную личину города всерьез, — она была лишь очередной потускневшей кожей, которая вот-вот должна сползти с его тела. Его неукляжая, корявая плоть скрывала таинственное сердце, которое открывалось не сразу, только со временем. Оно жило по своим законам, снисходительно уступая странным затеям своих обитателей, — так добродушная собака позволяет свом щенкам смелую, безобидную возню, но всегда их отрезвит болезненным укусом. Обманчивый облик города всегда во — время менялся. Лето заковывало его тонким панцирем расплавленного олова, и неподвижно томилось в тени домов и в безветренных уголках площадей. Но приходило другое лето сентября, которое медленно наполнялось магическим светом обреченности, и попадало в западню невидимых паутин, призрачно парящих в легком воздухе, — они лишь изредка лениво мерцали равнодушным слюдяным сиянием. Лето неслышно затекало в бездонный котел превращений, где его густой малахит вперемешку с другими самоцветами переплавлялся в червонное золото и янтарь осени, пересыпанный агатами в красно – багровых тонах, и также неслышно вытекало назад, пока хлесткий ветер не сметал листву, а холодная нудная морось и туманы не запирали нас дома, где мы слушали пластинки «Времен года» Чайковского и Вивальди, — подарки нашей вездесущей неутомимой мамы. Но и осень вскоре превращалась в льдистые алмазы и жемчуга, которые по окончании зимы оборачивалась застенчивым нежным изумрудом, аквамарином и бирюзой весны. Однако мои самоцветные иллюзии периодически разбивались о мокрые тяжелые туманы осени и весны, которые могли затягиваться на неопределенный срок; время останавливалось или, попав в невидимый смерч, вращалось на месте. Они таяли при виде грязного месива под ногами, которое только нарастало при снегопаде, — снег падал тяжелыми серыми хлопьями и еще больше разбавлял непроходимую хлябь.
Мама каждый день бежала на работу к восьми, к большому больничному корпусу; папа преподавал филологию в университете, поэтому именно ему выпадало водить нас с братом в детский сад. Брат сопротивлялся и орал каждое утро, пока отцу не надоедало и он не сгребал его к себе на руки, но он продолжал кричать у папы на руках, пуская в ход все конечности. Я шествовала молча со смешанным чувством. Мне сразу стала хорошо известна сила двух одинаково смутных, но властных влечений. Одно гнало меня в общество, где я искала понимания, признания и еще чего-то, что трудно было осознать. Так что мама любила повторять с досадой: «Ты просто дуреешь, когда видишь людей». Я не могла объяснить того шквала новых впечатлений, который получала почти от каждого человека и каждого дня, — он походил на удар, который вытряхивал из меня любую информацию. В результате я каждый вечер прибегала домой на 2-3 часа позже положенного срока, противно потея перед предстоящей трепкой, которая незамедлительно следовала. А наутро все повторялось сначала. Здесь властвовали тайные, в общем чуждые мне законы, которые заворачивались в непроницаемую ткань плаща – невидимки, — они не объяснялись и не имели названия. Внушалось же нам что – то совершенно другое, что к этим законам не имело никакого отношения. Например, нам говорили, что надо быть честными и добрыми, и вас все будут любить, но всегда чистенького, доброго и честного Игорька задирали и обзывали все, кому не лень. Зато я так же, как все прочие, искала общества Нади Бодровой, которая умела весело смеяться, бесстрашно дерзить и хорошо рисовать, одинаково уверенно сжимая в пальцах кисточки и карандаши; и я, тайком поглядывая ей через плечо, с восхищением следила, как под её рукой послушно рождались чудесные цветы и деревья. Другая сила гнала меня прочь от людей к настоящим цветам и деревьям, где царила другая, тайная жизнь, тем не менее, близкая и понятная мне. Я всецело отдавалась ей, пытаясь постичь причудливую изменчивую игру земли и неба. Мое воображение особенно завораживало развитие стихий или граница между ними. Я погружалась в таинство рождения искры, из которой постепенно вырастал костер; сумерек, вторгавшихся в пространство между днем и ночью, которое раздвигало их своим лиловым прозрачным телом; предгрозового затишья, неизъяснимо волнующего и прекрасного, исполненного тайного грандиозного смысла, как на миг проявленные в небесах письмена бога.
В результате моя жизнь невольно раздвоилась: на дневную, лицевую, видимую для других, и другую, — сумеречную, невидимую. Раздвоение было следствием внутреннего разлада, который состоял главным образом в непонимании, почему настоящая реальность никогда не озвучивается, но оговаривается другая, придуманная, к которой все тщательно подгоняется взрослыми. Вскоре я уже не относилась серьезно к насаждаемой «внешней» морали, и рамки «хорошо – плохо, как следует и не следует поступать» стали для меня эфемерны и прозрачны, — я принимала их как нелепые, но необходимые правила скучной игры. Но меня вынуждали им соответствовать, и я лениво подчинялась, отвечая формальным требованиям, но при первой же возможности убегала в свой настоящий мир, мой мир, до которого никому не было дела, но который был самой главной реальностью для меня. Я убегала в уединение. Это не было одиночеством, а моим надежным убежищем, где я обретала необъяснимо глубокую цельность. Это был мой дом – чуткая розовая актиния глубоких тропических вод, что плотно смыкает длинные гибкие стебли при малейшей угрозе. Я окуналась в него так же, как дельфины и киты уходят в глубины океана, раз глотнув необходимую порцию воздуха, — эта была моя родная стихия, бескрайние росистые луга и дикие джунгли, — с неведомыми растениями, животными и запахами, с собственными суровыми законами. Из их разряженного свободного пространства я плела прозрачную прочную паутину, которая давала мне невидимую точку опоры и позволяла вылавливать тайные знания, недоступные в шумном обществе.
Так же, как не соответствовали внешний и внутренний миры, так же не соответствовали обычные сезоны с моими личными временами года. Порой среди июля я могла почувствовать, как заковываются в лед подземные воды моего сознания, и даже вечно теплый источник на неизмеримой глубине начинал отливать голубыми кристаллами. Иногда зимы казались ледниковыми периодами. Но случались обильные оттепели, — веселые вешние воды выходили из берегов, и я тонула в них. Порой среди зимы меня начинало заливать палящее летнее солнце, и дарить бесконечное разноцветие августа, а позже мои невидимые сады плодоносили сочными яркими плодами. Но когда — нибудь случалась засуха, я постепенно пересыхала и мертвела изнутри, и только со стороны казалась живой.
Во мне очень рано открылась неведомая алая артерия, не обозначенная, вероятно, в анатомических атласах, топография которой была непонятна даже мне самой, но я знала, что она пересекает все мое тело от пяток до макушки, когда начинала весело или негодующе пульсировать, обозначая негласные настоящие связи между явлениями.
Мне стала знакома тоска по уходящему, когда я не могла еще определить это чувство словами. Многие впечатления детства и юности мне казались такими глубокими и значительными, что я совершенно определенно страдала от сознания, что переживаю их одна и другим они не доступны. Мне до боли, до слез было жаль уплывающие события и образы, которые оставались лишь в моей памяти. Многие из них блекли и вообще исчезали, так и не найдя свое воплощение ни в форме, ни в мысли. И я про себя оплакивала их гибель – забвение. Было острое сожаление по уходящему, невысказанному, уплывающему в небытие.
Я понимала, что мое видение мира – мельчайший фрагмент в гигантской системе, но знала и другое: отсутствие одного маленького звена меняет картину целого. Мой мир оставался никому неведомым, кроме меня. Это казалось недопустимым. В такие минуты мне так и хотелось крикнуть: «Смотрите же! Вот то, что от вас ускользнуло!» Тогда я стала возводить памятники уплывающим картинам моего мира. То были разные формы – стихи и песни, и даже маленькие, (а потом большие) скульптуры. Периодически я «переваливала» свои впечатления на бумагу, точнее, клочки бумаги, которые обычно терялись. Через это я подошла к одной мысли: вся жизнь – попытка вечности. Все стремиться стать вечностью, приобщиться к ней. Это неистребимое стремление к вечности мне никогда не казалось случайным.
МАМА
Соседи вскоре съехали, получив новую квартиру, и наша собственная нам показалась огромной и пустой; первое время мы с братом бесцельно слонялись по ней, скучая. Впрочем, долго скучать не приходилось, так как наше жилище напоминало Курский вокзал: каждые пять минут звонил телефон, я неслась к нему, роняя по пути сдвинутые в центр комнаты во время уборки стулья, чтобы пятью минутами позже уже мчаться к двери. Меня кто-то обнимал, спрашивал маму, и она выходила навстречу близким, друзьям и просто товарищам, близким и дальним родственникам (впрочем, дальних не было, и мне приходилось только удивляться несметному числу ближайшей родни двух маленьких фамилий), а также к друзьям и родственникам наших родственников из всех сел и городов республики, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и, кажется, всех городов и весей Союза. К вечеру после очередного тысячного звонка я заявляла голосом единственной лопнувшей скрипичной струны Паганини, чтобы мне оплачивали ставку телефонистки, а заодно вахтера — тоже ставку. К нам приходили с проблемами, которые могла решить одна только мама. И она решала. Легко. Весело. Иногда гневно и раздраженно. Но быстро и всегда положительно, ибо не было на моей памяти человека, который мог бы устоять перед её обаянием или гневом. Многие из её многочисленных пациентов со временем становились друзьями семьи. Ни один праздник не обходился без сладких сдобных пирогов тети Полины с её темно-вишневым румянцем на широких скулах, тревожными глазами, с неизменным платком на голове, который она повязывала «по старинке, по-казацки» — впереди, а не на затылке, и это придавало какую-то кроткую завершенность её стройной тихой фигурке. Я частенько приходила к ней в гости с мамой, хорошо знали всех её домочадцев, даты их рождения и даже некоторые семейные тайны, которые поверялись только маме в моем присутствии. Она сразу вспыхивала, когда тетя Полина очередной раз тихонько плакала, пряча лицо; мама быстро спрашивала «опять он?», и шла разбираться с дядей Петей, похожего на Тараса Бульбу с известной иллюстрации, который, как выяснялось, снова бил тетю Полину после очередной попойки. Мама запиралась с ним на кухне и о чем-то быстро говорила, я различала только её неподражаемую интонацию, которая заставляла выбегать из кухни даже дядю Петю, похожего на раскаленный медный таз. Тем не менее, он никогда не держал на маму зла и бесплатно стриг моего брата под «полубокс». Однажды я случайно узнала, что когда-то давно мама вылечила тетю Полину от тяжелого бронхита.
Регулярно приезжала серьезная круглая учительница из Малки. Её муж был инвалидом, и Мират приходилось одной содержать пятерых детей и двоих стариков, родителей мужа. Каждую субботу она вылетала в Москву, закупала вещи, в воскресенье возвращалась домой, чтобы в понедельник утром идти преподавать математику в местной школе. В течение последующей недели она продавала их с небольшой наценкой, а в субботу снова выезжала. Так продолжалось до тех пор, пока она не слегла с крупозной пневмонией. После выписки Мират как-то приехала с большой сумкой и предложила маме очень дорогие вещи совершенно бесплатно. Мама повысила голос, тогда Мират расплакалась и сказала: «Я бы тебе свою жизнь отдала за то, что ты для меня сделала, не то что эти проклятые тряпки». И тогда мама согласилась покупать её товар за свою цену.
Почти все её пациенты при мне произносили одну фразу, которая вследствие её упорной повторяемости стала мне казаться странной: «Твоя мама меня вылечила одним взглядом». Существовали вариации: кто-то считал, что вылечился одним прикосновением рук, другой – отношением, третий — голосом. Когда я ей пересказывала это, она смеялась: «Им это кажется, — я только подняла настроение и внушила веру. А вылечили их медикаменты». Я наблюдала ее во время стремительных обходов, когда серое пространство терапевтического отделения наполнялось ее радостным магнетизмом. «Покажи, где болит и как, — прерывала она решительно нескончаемый монолог пожилых тетушек. – Мне вылечить нужно, а не выслушивать историю всей жизни». После отрезвляющей, почти резкой фразы больные никогда не обижались, а, к моему удивлению, еще больше ей доверяли.
Она в течение многих лет регулярно проведывала со мной пожилую тетю Аишат, которая занимала две маленькие комнаты в игрушечном домике барачного типа. Маму вызывали в дальние районы, но когда больничная «скорая» была занята, а больные не могли прислать машину, её вез отец. Иной раз вечером, в гололед. Через некоторое время мне уже представлялись страшные картины возможных аварий. Остальные часы томительного ожидания до утра я ходила кругами по комнате, а на следующий день засыпала на уроке. Еще недавно её частенько забирали блестящие «Волги», преимущественно черные или белые. Теперь на городских трассах их постепенно вытесняли бесшумные иномарки, в основном «Мерседесы», владельцы которых прятали свое скромное обаяние за тонированными окнами. Последнее время к нам подкатывали подобные роскошные лимузины с кондиционерами и корректными немногословными личными водителями; в салоны таких авто можно было проникать лишь с благоговейным трепетом. Их хозяева чаще всего оказывались не так больны, как те, что были без машин.
Очень часто мы ездили на родину мамы, колыбель адыгского просветительства. Здесь еще витал бесплотный дух нескольких гениальных безумцев, дерзнувших пробиться через непроницаемую завесу. Как-то мы остановились сразу напротив небольшого домика, неподалеку от бывшего цаговского «университета», — теперь это была народная библиотека.
Дом, в который мы прибыли, напоминал дворец в актуальном ныне эклектическом стиле и выделялся подавляющим величием из блестящего ряда других новых домов, выстроенных на этой улице со времен последней «оттепели». Во дворе были разбиты цветники с фонтанами. В центре небольшой ухоженной клумбы, расположенной в центре двора, рос гигантский куст, аккуратно и прихотливо постриженный в форме огромной буквы S, перечеркнутой косо-вертикально. Над домом реял зеленый флаг, на котором я ожидала увидеть традиционные три скрещенные стрелы с двенадцатью золотыми звездами или особо почитаемый полумесяц со звездой, но увидела тот же символ, что рос на клумбе.
«Где больной?»- без обиняков спросила мама. «Нальжан, дорогая, не обижайся на нас, мы решили устроить тебе маленькую передышку, — лицо маминой приятельницы цвело улыбкой, — ты всегда такая занятая! Тебя можно вытащить не иначе, как только к больному. Прости мой маленький обман! Слава Аллаху, у нас все здоровы». Глаза мамы потемнели, а щеки вспыхнули. Похоже, такой её боялась не только я. Тем не менее, Хаджет, хозяйка дома, рассыпалась дробным смехом: «Ну что ты! Я только хотела, чтобы ты отдохнула, мы так тебя любим!» Я знала, что это правда, но я знала и другое: в этом доме совмещалось несколько «правд», и эта не была единственной. Однако мама, как обычно, быстро отошла от вспышки гнева и для неё, похоже, этот дрянной сценарий все-таки сработал. Или мне только казалось? И она, как бабушка, даже в мутной воде ясно видела любое дно. Пока Хаджет показывала свой дом и впечатляющие атрибуты благосостояния, я решила сбегать в библиотеку напротив. Она оказалась совершенно пустой. Мое ожидание и последующие поиски завели меня в маленький аккуратный дворик за библиотекой. В углу догорал костер: жгли книги. Я подняла темную, тесненную обложку, истлевшую по краям: «Антология адыгских инструментальных наигрышей». Кажется, это была одна из трехтомника. Вернувшись в зал, я на этот раз застала двух девиц с невинным отсутствующим взглядом, в одинаково лиловых платьях. Забыв о приветствии, я молча показала почерневшую обложку, оставшуюся в моих руках: «Зачем?.. Это же уникальная книга!» Они дружно переглянулись и продолжали молчать, не меняя выражения лица. «Зачем вы сожгли антологию? Это же уникальная книга!»- почти прокричала я. «А что оставалось делать?» — ответила наконец одна из них, явно поступившись чувством собственного достоинства. «Что оставалось делать? Эту книгу уже лет десять никто не спрашивает. Она пылится, мы таскаем её с места на место. Остальные библиотеки её не берут. И другие книги так же…А вы, простите, кто такая?» (Вопрос, заданный Алисе Синей Гусеницей. Я уже готова была ответить так же, как она «сама не знаю: с утра я уже несколько раз менялась»). Но вслух сказала: «Не беспокойтесь, я лишь частное лицо».
Однако общие визиты были далеко неединственной статьей нашей жизни, моей и маминой. Летом она брала меня в научные экспедиции в отдаленные районы республики с группой студентов-старшекурсников. Последний раз были Зольские пастбища. Пока мы подъезжали к ферме, несколько раз наползал и рассеивался туман, накрапывал мелкий дождик. «Это низкие тучи», — пояснил Басир, наш сопровождающий, похожий на индейца. Когда мы доехали, ветер согнал остатки облаков, и над нами широко раскинулся очистившийся купол неба, жадно набирающий потерянную синюю глубину. Его перехлестнула низкая радуга, соединив равнину с горой. Альпийский луг перекатывался изумрудно-серебристыми росными волнами трав, его пересекали прозрачные родниковые речушки, по краям которых толпились островки лютиков. По всему обозримому пространству рассыпались лошади, преимущественно гнедые кобылы с жеребятами. Голова кружилась от непривычной высоты и озона.
До обеда мы обследовали фермеров, заполняли карты и обсчитывали материал. (И здесь выявлялся высокий процент общей патологии). После пяти все освобождались. Басир оказался хирургом зольской районной больницы. « Вас интересует конный спорт?» — спросил он нас. «Интерес у нас есть, но теоретический». Практический интерес сохранялся только у меня: девушки больше боялись, чем хотели. Вскоре Басир подвел ко мне вороную кобылу: «Она самая понятливая и смирная», — помог забраться на седло, а сам сел на гнедого жеребца. Моя кобылка тронулась — и я испытала ужас и восторг одновременно. «Ты первый раз?» — крикнул мне Басир. Я молча кивнула. Ветер налетал порывами, трепал волосы. В городе он казался мне схваченным в траншеи между домами. Здесь же он царил на всем пространстве до горизонта и, как художник-самоучка, тщетно перемешивал два основных ярких цвета — зеленый внизу, синий наверху, вкрапливая немного белого — стремительно пролетающие облака. Мы поднимались вверх по пологому склону горы и остановились возле неглубокой пещеры. Я самостоятельно спешилась и зашла внутрь. Меня обдало прохладой. «Таких пещер здесь немало, — сказал он, — в некоторых еще находят скелеты. Моя мать – балкарка. Она рассказывала, что в начале войны, во время переселения, большинство стариков отказывались покидать свои дома, обрекая себя на голодную смерть. Иногда на аул оставались один — два старика. Перед смертью они уходили в пещеры». Конь под Басиром пошел галопом. Моя лошадка, которая до сих пор чутко улавливала каждое мое движение и, кажется, даже интонацию и настроение, тоже пустилась в галоп. «А-а-а!- закричала я. – Держи её, сейчас упаду!» — «Натяни поводья!»- крикнул Басир, разворачиваясь ко мне. Я до упора натянула поводья и лошадь стала. Басир почти все время молчал, но вскоре оживился (очевидная озоновая эйфория). Мы заговорили о лошадях. Я восхитилась красотой своей вороной лошадки. Басир промолчал. «Есть такие красавцы, — не придерешься, — сказал после паузы. — Но отпускаешь их на полную скорость, — через 60 – 70 километров они внезапно падают как подкошенные. Иные сразу подыхают. Начинаешь анализировать, и выясняется, что они что-то недополучили телками. Это сказывается в свое время, особенно в экстремальной ситуации». Потом он что-то говорил относительно своей работы в селе, я о чем-то спросила, не понимая, и Басир внезапно осекся.
-Попробуй объяснить…
— Ты все равно не поймешь.
-Почему?
-Ты другая. Городская.
-Понимаю: противоречия между городом и деревней… Это все еще так актуально?
-Еще более актуально.
-И там, и там — жизнь.
Он усмехнулся: «В городе слова, а не жизнь. Я не силен в выражениях. Но город приглаживает вместо того чтобы расчесать, только водит по коже, но не пробирает до костей».
-Выходит, жизнь — вне города.
-Да.
-…которой я не знаю.
-Думаю, так и есть.
-Мне нравится твоя откровенность.
-Не обижайся.
Но я замкнулась. Я ненавидела себя и уже искала предлог, чтобы вернуться на базу.
-Мой отец был чабаном, — сказал Басир, — я часто помогал ему и привык к животным. Иногда мне кажется, что я понимаю их лучше, чем людей. Мальчишкой по ночам сторожил скот. Для этого даже не было сторожки. Я устраивался прямо среди баранов, чтобы было теплее, или возле спокойной кобылы, или у теплого бока коровы, пахнущей молоком.
-Да ты мог быть ими раздавлен!
-Вряд ли. Они чуткие. Хотя условия у скота были лучше, чем у людей.
Нас было десять у родителей. Я был шестым. Приходилось много работать. До сих пор помню, как убирал лопатами навоз и вывозил на тележке, пока не занемеют руки и спина. Выдохнусь окончательно — зову младшего.
-А родители?
-Их-то по-настоящему видели только зимой. Отец в сезон был на пастбищах, мать весь световой день вручную обрабатывала колхозное поле, а ночью- свой участок.
-Ночью?
— Кто-то из десяти детей держал фонарь, а мать со старшими копали или пололи.
-Зачем же копать ночью? Копали бы днем!
-Тогда бы все увидели. Наш председатель колхоза не позволял сажать даже картошку на приусадебном участке. Уничтожались грядки, сносились тракторами заборы: «Достаточно одного входа в дом!» У него-то самого в доме ничего не было. «Надо работать!»- вот первый и последний лозунг. Только отучился — иди работать в колхоз. Тунеядцев выселяли в Сибирь. Таких вызывали на парт. собрания, постановляли и отсылали. Коровы, принадлежащие тунеядцам, не имели права пастись в колхозных стадах.
— Как же тебе удалось поступить в ВУЗ?
-Каким-то чудом. Чтобы поступить, нужен был паспорт, а его не выдавали, чтобы удержать молодежь в селе для работы в колхозе. Последний выпускной год я учился в соседнем селе, где жили родственники: там получить паспорт было проще. Чтобы вырваться в город для учебы, поехал по комсомольской путевке в составе строительной бригады и год строил хлебозавод.
-Это и есть та настоящая сельская жизнь, о которой ты говорил? — проговорила я уже без тени иронии.
-Это скорее только щель, слишком маленькая, чтобы через нее что-то увидеть. На жизнь больше похоже вот это, — и он огляделся вокруг.
Солнце уже закатилось, сумерки стремительно сгущались. Мы отправились на базу, но темнота быстро нагнала нас. Ночная жизнь, утратив видимые очертания, усилила свой накал, не скованная давлением дневного света. Вечер сорвал границы с невообразимого множества земных форм, размыл и смешал их, соединил энергию, запахи и звуки воедино, пока они не достигли резонанса в томительном ритме ночи, содрогаясь в едином пульсе от коры до ядра: вожделеющее ночное тело земли, устремившей грандиозный фалл остроконечного горного кряжа в звездную пустоту черного девственного лона.
Культурная мамина программа неизменно трещала по швам от переизбытка: она посылала нас на выставки, в музеи, театры, кино, на авторские встречи и презентации, зарубежные и отечественные вояжи, всесоюзные пионерские и комсомольские лагеря. Мы купили в общей сложности несметное количество билетов, в том числе транспортных. Если во мне эта воспитательная стратегия разбудила неуёмную жажду новых впечатлений (сходную с маминой), то у брата-страсть к уединению и тишине. Перед очередным культ. походом голос брата пружинил зреющим раздражением: «Ради бога, никого не доставай вопросами. Когда-нибудь твоя маниакальная любознательность плохо кончится».
— Например?
— Ну вот, снова.
На этот раз мы пришли на выставку народных инструментов. Мы оказались на этот момент единственными посетителями, и автор, пожилой человек с темными проницательными глазами юноши, взялся показать нам свои инструменты: шичапшина старого образца, шичапшина, усовершенствованная Ш. Шеожевым, кабардинскую шичапшина в форме кинжала, гудок, гусли, двенадцатиструнная осетинская арфа, арфа Давидова, которой я заинтересовалась. «Знаете, кто такой Соломон?»- спросил меня автор. Я ответила, что помню на память притчи Соломоновы. «В таком случае вы должны знать, что израильтяне разделялись на два основных калена: Давидова и Соломонова. Помните историю Давида?» Да, я помнила. Когда я дошла до грешного вожделения Давида к Вирсавии, рокового адюльтера с последующим изгнанием Урии на войну, Б. М. меня прервал: «Вы ведь знаете, что адыги произошли от хаттов- хеттов?
-Насколько я знаю, от хаттов. С хеттами родство опосредованное.
-Так вот, близнец Иакова, Исав, имел две жены-хеттиянки. И жена Давида, Вирсавия, отобранная им у законного мужа Урии — хеттиянка. Господь покарал ее с мужем Давидом за их грех, умертвив первого младенца, но потом послал им сына Соломона».
Кажется, для меня становились прозрачными мотивы автора, который возрождал утраченное народное мастерство по созданию древних адыгских музыкальных инструментов. Продолжая про себя его мысль о родстве древних иудеев с древними адыгами, я чуть не озвучила идею, расхожую до банальности: «Мы все оказываемся родственниками: все мы – дети Адама». Чуть позже Б. М. поведал мне более прозаическую историю про себя, о том, что он не может добиться рабочего помещения, живет в однокомнатной квартирке, потолок которой затопили соседи, и он в результате обвалился, от мастера требуют баснословные налоги, а он месяцами не может пробиться к министру.
Вечером я в лицах передала весь наш диалог маме. Я видела, как вспыхнуло особым светом её лицо с белой тонкой кожей и черными –черными глазами, и она с особой решительной манерой направилась к телефону. «Соедините, меня с министром… Ах, его нет? В таком случае скажите ему прямо сейчас, чтобы позвонил к Ш.» Через десять минут ей перезвонили, и мама властным жестом указала мне на дверь – я нехотя вышла. Сидя в другой комнате, я слышала её резкий, почти жесткий тон. На следующий день Б. М. попал к министру. Правда, я не знаю, помогло это ему или нет.
Она была с детским смехом и глазами, которые проницали стены. «Донка! (производное от Дины-Доны и т.д.) — кричала она из кухни в кабинет через две стены: — Убери из-под учебников художественную литературу!» Я для неё была столь же прозрачна, как стены.
Ей была свойственна какая-то невероятная плотность жизни. Я находилась в самом центре её поля с высоким напряжением, и оно уносило меня независимо от моих планов и желаний. Необъяснимой загадкой для меня оставалась не фантастическая трудоспособность матери, — к ней я привыкла, — а ее темп, который не оставлял никаких временных зазоров для простого обдумывания этого нескончаемого потока дел, похожего на шквал. У меня возникало смутное тревожное ощущение, будто она предчувствует короткую жизнь и все время пытается ее спрессовать – максимально. Каждый миг своей жизни она проживала до конца, с глубокой неистовой страстью, которая меня восхищала и страшила. Изредка, выпадая из маминой высоковольтной ауры, я находила окружающее пресным, унылым и пустым. Мать сообщала существующему пространству некий живой объем и энергию реальности. Без нее она становилась призрачной, полой, и, не связанная её магнетическим центром, растекалась. Казалось, эту реальность — лишенную –материнского – начала, можно собрать, как газовый платок, что без труда протягивают через кольцо. Очевидно, то же самое чувствовали другие и стаями летели на её яркий свет. За безличной аморфной поверхностью будней она видела необъятный дремлющий потенциал; с особой, молчаливой одержимостью чуткого режиссера высвобождала их разрозненные силы и вдыхала в остов собственного сценария. Так скульптор высвобождает живую форму из камня, дерева или глины, или прирожденный Мужчина будит крылатое божество любви, дремлющее в любимой женщине. Любая ситуация могла быть моделирована и проиграна по ее собственным законам, обретая предельную насыщенность и полноту. Перед ней с необычным радушием распахивались все двери, — от скромных однокомнатных квартирок до кабинетов министров, с которыми она тоже была на ты. Она отдавала себя самозабвенно: гневно, радостно, откровенно враждебно, с любовью, с искрящимся весельем, но никогда — индифферентно. Я не находила слов: «Мама, что ты с собой делаешь?..» Устремленный на меня выжидающий сердитый глаз — преддверие гнева. (Её фамильная, порой скандальная бескомпромиссность странным образом сочеталась с выраженным дипломатическим даром). Я боялась, что однажды он иссякнет, этот её искрящийся бурный поток жизни, нереально обильный, щедрый. Я не знала, как это сказать и как предотвратить.
Но самым большим испытанием была её любовь. Она невидимым кольцом окружала меня, как огромный камень-оберег с отверстием в середине, — такие висели на деревьях старой усадьбы. Оберег меня ограждал и не давал сблизиться с жизнью на короткое расстояние, необходимое для моих близоруких глаз. Меня неудержимо влекла опасная дистанция, я чувствовала искушение и отвагу очутиться лицом к лицу с самой сердцевиной жизни. «Не торопись, — говорила мать, — после меня успеешь».
Мы ходили к ее бесчисленным портнихам, которые становились ее подругами, заказывали обувь на заказ, посещали парикмахерские, модные салоны и Дом моды. Она обожала наряды, покупала их в невероятном количестве нам всем, особенно мне, так что я каждый раз стонала: «Зачем ты опять это купила!», и с безнадежным чувством пополняла свой обширный гардероб. Девчонки, мои подруги, заглядывая в мой шкаф, ахали: «Почему все это висит и не носится?» Я отвечала, что наши с мамой женские вкусы не сходятся, но не называла другой причины: я не хотела быть причиной зависти для большинства моих подруг, у которых бюджет семьи был весьма скромным. Меня обескураживала ее страсть к роскоши и комфорту до тех пор, пока повзрослев, не поняла, что она все еще противостоит нищете и голоду своего детства и юности.
Когда я выходила из автобуса, моя кожаная коричневая шляпа и такой же коричневый экстравагантный плащ шокировал парней из районов. «Из Франции, что ли?» — восклицали они с веселой насмешкой, смешанной с мужским любопытством. Городские с пренебрежением звали их нартами, а мне они внушали неясную ностальгическую тоску, я чувствовала в них свежий аромат незамутненной стихийной силы, то, что было утрачено нами, детьми города. Я тщательно скрывала, что меня увлекал идеал именно такого мужчины, этакого Тарзана из кабардинской глубинки. Но мы говорили на разных языках: они – на ломаном русском, я – на ломаном кабардинском. В своих неуклюжих попытках по – мужски заинтриговать меня, они беззастенчиво врали, и даже моя неопытность не мешала мне распознать, что для них это был обычный разминочный мужской тренинг по безличному общему сценарию, больше для самоутверждения, чем из интереса к таким городским «фифам», как я. Однако в них просвечивал неясный для меня стержень, который только с большой натяжкой можно было назвать адыгским, — он странно деформировался и под натиском времени принял причудливую форму, совершенно непостижимую для меня. Вместе с тем я чувствовала, что этот «ларчик просто открывался», но для меня он так и остался закрыт. Драма моей юности заключалась в безответности: я не интересовала таких, по крайней мере всерьез, так как была для них почти парижской барышней, которая никогда не смогла бы осилить неподъемного провинциального адыгского быта.
Мамина незыблемая уверенность в нашей исключительности составляла наш общий крест. Мы с братом не могли не отвечать её ожиданиям, потому что без этого она немыслимо страдала. Меня убивало её жадное материнское тщеславие, — наши успехи были для неё живой водой. Она могла их в деталях расписывать почти незнакомым людям, мало заботясь о мнении окружающих, доводила меня тем самым до слез стыда и отчаяния: «Мама, это никому не интересно, кроме тебя!» Но самое странное заключалось в том, что те самые люди, которые, как мне казалось, из терпеливой вежливости выслушивали её, помнили все детали её разговора, и с искренним участием расспрашивали о моей жизни много лет спустя, уже после её смерти. Сравнительно недавно я стала понимать, что развитие моих задатков — результат её безоговорочной, незыблемой веры в меня. Она развила мою собственную уникальность — индивидуальность, дала мне знание о ней и заставила её уважать. Постепенно я осознала, что это и есть чувство собственного достоинства: личное знание о своем лучшем исключительном начале и безотчетная уверенность в том, что ему уже никогда не изменишь.
Невысокая, миниатюрная, она не шла, а почти бежала, зная в любой момент, что будет делать в следующий, — для безнадежно рассеянного созерцателя в моем лице — непостижимый и недостижимый образец. Мама записывала меня на все мыслимые кружки, (помимо общеобразовательной и музыкальной школ). Уже в раннем возрасте я пришла к заключению, что самой главной особенностью каждого дня является его резиновость: в него помещается столько, сколько умещаешь. Доказательством являлся пример мамы, которая могла растянуть день, как бездонный сундук, помещая в него нереальное количество дел.
Порой мать казалась мне жертвой какой-то чуждой, инородной режиссуры, которая принималась ею по собственному неведению. Однажды она сказала: «Я просто счастлива, что родилась при советской власти. Кем бы я была, если не она? Да никем». Я молчала, так как испытывала странную неловкость; мне казалось, что она больше убеждает себя в этом. Впрочем, я могла ошибаться, — ведь мать, в отличие от меня, принимала действительность целиком и, как мне казалось, безоговорочно. Порой во мне назревал безмолвный протест, который она всегда чувствовала и раздражалась. Но иногда её глаза зажигались знакомым мерцанием, похожим на бабушкино. В глубине его, за плотно закрытыми темными створками просвечивалось какое-то тайное, недоступное знание. На секунду створки приоткрывались и обнажался слоистый срез, похожий на излом известковой горы. В этот момент меня пронизывало острое чувство счастья, будто я узнавала о своем бессмертии.
Над её головой колыхался белый прозрачный сноп, который, если присмотреться, состоял из тонких мерцающих нитей; он уходил круто вверх и терялся в атмосфере. Если другие странности, виденные с детства, казались мне вполне обыденными и естественными, то со снопом дело обстояло иначе. Повзрослев, я стала подозревать, что его никто не видит, кроме меня. Однажды я спросила отца, видит ли он что-нибудь над маминой головой. Он бегло пробормотал «нет» и снова погрузился в бумаги. Вскоре я решилась еще раз задать ему тот же вопрос, думая, что первый раз он меня не услышал. На этот раз отец ничего не ответил, но во взгляде его мелькнуло откровенное сомнение и тревога. Больше я его не спрашивала. Но как-то спросила брата. Он уставился на меня и констатировал, что по мне плачет палата №6. Какое-то время это меня так волновало, что я под разными предлогами выводила мать в самые оживленные места. Я вглядывалась в каждое проходящее мимо лицо, но не заметила никакой реакции. Его никто не видел: коллеги, родственники и даже члены семьи. Не видели приятельницы, с которыми она непринужденно болтала и смеялась до слез, а сноп в такт смеху медленно колебался, белый и чистый, круто уходящий ввысь.
Однажды, когда мы вчетвером отдыхали в местном санатории, в одно утро мама проснулась и сказала ясно и отчетливо: «У нас в доме потоп. Я увидела это во сне», — и добавила, деловито обращаясь к отцу: «Тебе следует собраться и немедленно ехать, а я останусь с детьми». Отец еще лежал в постели и, как всегда, что-то читал. «Мне дан единственный месяц в году для отдыха, а не для того, чтобы я потакал женским фантазиям», — сказал он рассеянно, не отрываясь от текста, но, посмотрев на маму, молча встал и оделся. Я увязалась следом. Мама не препятствовала: «Она может тебе помочь. Только надень на нее сапоги, не давай возиться с холодной водой и носить тяжести». «Что же тогда остается?» — спросил папа, но мама нас очень торопила и не ответила на вопрос.
При всей своей сдержанности, папа ахнул, когда вода у входной двери, разбуженная внезапным водворением, тихо плеснула у наших ног. Затопленной оказалась вся квартира, она подступила к нижним полкам с книгами большого кабинета, зеркально отражала югославскую стенку зала и даже пропитала обширный ковер спальни. Она просочилась через плотно закрытую дверь моей комнаты и хлынула внутрь вольной струей, едва я приоткрыла ее. По волнам безмятежно плыл молочно- белый резиновый кит, названный папой Моби Диком, с невинными голубыми глазами и улыбающейся розовой пастью, будто он только что закусил Ионой. В кухне и сан. узле уровень воды доходил до папиных щиколоток, а в кладовке мешок с мукой промок до середины. Босой папа растерянно ходил по воде, закатав брюки до кален и никак не мог придти в себя. Наконец он перекрыл воду и вызвал по телефону аварийную службу, обходя свои затопленные владения, похожие теперь на морскую державу. Я весело черпала воду в ведро совком, стоя в резиновых сапогах, насилу найденных. Мы вычерпали воду только к обеду, и то благодаря дополнительным усилиям подоспевших вскоре мамы и бра
***
В тот день Лева, убегая от самого себя, самозабвенно носился с мячом по тесной баскетбольной площадке, изнывавшей от июльской жары, и внезапно осел. Когда к нему подбежали, он попросил: «Позовите Жулю, она знает, что делать». Но прибежавшая мама, ставшая такой же белой, как он сам, не обнаружила ни пульса, ни сердечных тонов. «У него остановилось сердце», — сказал мой брат.
Когда неделю спустя мы разбирали его вещи, на мою голову свалилась целая стопка фотографий и распавшимся веером разлетелась по всей комнате. «Лунные создания» (по собственному определению Левы), грустили и улыбались ему одному. Таинственные, игривые, задумчивые и озорные прелестные лица были повернуты к нему, и сквозь соленый туман набежавших слез я читала: «Единственному…на память…» Фотографий было 28, двадцать девятой оказалась его собственная.
После смерти Левы бабушка слегла и больше не поднялась. Она пять месяцев не произносила его имени, а на шестой стала говорить о нем как о живом. Например, она могла спросить, когда же Лиуан вернется из командировки, и ей отвечали, что скоро. Или: «Лиуан придет и все мне расскажет». Но перед смертью она вполне осознанно спросила: «Вы накормили Магомеда?» Она тихо отошла в декабре, спустя полгода после Левы. А в июле следующего года погиб Мага. Все говорили, что он утонул. Но я в это не верила, — он плавал лучше рыбы.
***
Мамин белый сноп над головой почти совсем исчез после внезапной смерти её братьев и матери. Вскоре он отчасти восстановился, но прежним больше не стал. «Каким же он был, — думала я, — до смерти дедушки и маминой сестры?» Однажды он исчез совсем. На следующий день она очень буднично сказала: «Если бы где-то продавали смерть, я бы встала в очередь и купила». Я остолбенела. Эти слова не могли принадлежать моей матери. Когда она вышла, я разбила тарелку, просто выронив её из рук. Другой раз она за чем – то зашла в мою комнату и в конце своего распоряжения добавила: «Я и не знала, что иногда смерть можно полюбить так же, как жизнь». Моя рапахнутая книга, которая лежала на самом краю письменного стола, внезапно упала, закрывшись: «Тереза Батиста, уставшая воевать».
С тех пор она стала слабеть. Её детский смех, которым она еще закатывалась, легким облачком вылетал через открытую форточку, оседал искристой росой на траве, а к полудню траву высушивало солнце. Её энергия все еще колыхала тяжелую люстру и заставляла истерично мигать лампочки, но медленно просачивалась сквозь щели дверей и окон.
В день похорон я, не глядя на неё, отовсюду видела белое-белое лицо, но её черные глаза были теперь закрыты, очерченные снизу двумя плотными черными дугами ресниц. «Многие дети войны так уходят: это – посттравматический синдром. Такие красивые, такие молодые… Как прекрасные скакуны, которые жеребятами не получили своего, внезапно кончаются на длинной дистанции», — услышала я тихий шепот где – то сбоку от себя и подумала, что уже это где-то слышала.
Я повторила кому-то установленную причину смерти: «Внезапная остановка сердца» (sudden death, как мы однажды прочли с ней в одной английской монографии Introduction to cardioloqy).
Но никто не спросил об истинной причине, о которой знала только я.
УСАДЬБА
Теперь, спасаясь от наваждения, я провела целый день в опустевшей бабушкиной квартире, где кроме привычного, простого убранства и воспоминаний, обступивших меня плотным кольцом, ничего необычного не было. Я выпила горячий чай с прихваченным бутербродом и легла спать. Наутро я спокойно зашла на кухню и с ужасом обнаружила одинокий веник, который стоял в центре, не опираясь при этом ни на один предмет. Похоже, во мне не оставалось больше резервов благоразумия, и я всецело отдалась первобытному приступу дикого страха. Он незамедлительно погнал меня на автовокзал, откуда я первым же рейсом отбыла в аул.
Старая кабардинская усадьба, одна из немногих, которой не коснулась рука нового времени, раскинулась на 40 соток; лишь с фасада старый плетень был заменен на добротную бутовую кладку. Перед домом рос гигантский старый орешник, — он почти не изменился со времен моего детства: его широкая раскидистая крона покрывала почти все пространство огромного двора. Последний счастливо избежал каменного плена асфальта или модных фигурных плиток, а был выстлан на старый манер зеленым ковром сезонного разнотравья. На мощной высокой ветви, кажется, совсем недавно еще висели самодельные качели: крепкая старая короткая доска, отполированная несколькими поколениями детей, была надежно схваченная с обеих сторон длинными жгутами. Мы, замирая, бесконечно взлетали на ней, как в замедленном кадре, задыхаясь от немого восторга, касались ногами листьев высокой кроны, и с шумом рассекали воздух, разрушая омут прозрачной тишины. За орешником стоял унашхо — большой дом, построенный по традиционному образцу: сквозной просторный коридор с четырьмя большими раздельными комнатами по обе стороны. Я смутно помнила множество саманных кирпичей, которые долго сушились на солнце, и мерный темп кладки, и кирпичные торсы брата Жанос и его друга.
Слева от унашхо располагался старый дом с одной комнатой — гошпащ. В глубине прилегающей к ней кухни на земляном полу стоял камин, такой широкий, что на его глиняных уступах, покрытых досками для сидения, помещалось четыре подростка, по два с обеих сторон, а в широком дымоходе виднелись поперечные железные решетки, на которых раскладывался сыр для копчения. Раньше это делала сноха деда, Кара, а теперь Жанос, которая жила одна. Она покупала ведро молока, делала сыр и коптила его по привычке. В камине на очажной цепи свисал большой котел, которым пользовались в редкие дни, когда семья еще собиралась вместе. Но это происходило все реже. Хозяйственные постройки стояли теперь полупустые, из живности оставалось только десятка полтора астеничных птиц. Патриархом птичьего двора был индюк реликтового возраста, загадочная история которого стала достоянием всего хабле, если не аула. В одну пятницу Дотнах, отец Жанос, выбрал его очередной жертвой и поймал было в руки, но тут на него налетели все птицы и принялись клевать и бить крыльями. Опешивший старик отпустил индюка, зашел в дом и прочел молитву. С тех пор индюка никто не трогал, его почитали за птичьего святого. Он оставался жить и после смерти деда. Никто не мог объяснить причину этого странного долголетия, хотя индюк уже не передвигался и вконец ослеп. Жанос регулярно носила ему еду и питье. За плетнем начинался сад, который мне казался в детстве лесом, и я знала, что здесь водится Мазитха (бог лесов в адыгском языческом пантеоне – М. Х.) Сад и сейчас был большим, ибо когда — то принадлежал трем братьям. Его площадь, тем не менее, была результатом нескольких урезаний (я знала о двух, в 20 и 37 годах). В детстве здесь протекал глубокий ручей, прозрачная вода не нагревалась даже в жару. Он, извиваясь, пересекал все пространство старого сада. Нам он казался настоящей рекой, и все лето мы проводили в нем, ощущая голыми ногами его упругие холодные струи и мягкое землистое дно. Мы устраивали возню, обливаясь и визжа, платья до пояса были мокрыми и липли к телу, пока их поспешно не стаскивали, продолжая бесконечные игры почти голышом. Родители сделали для нас запруду, которая обрывалась
вниз импровизированным водопадом, в его пенистых струях мы оказывались только благодаря нелегкой победе, растолкав более слабосильных соперников, но чьи – то мокрые цепкие руки скоро выталкивали потерявшего бдительность победителя. Мы по очереди разгонялись на алюминиевом старом тазе, который ускорял с обеих сторон кто–то из нашей ватаги и с визгом срывались с крутизны, оказываясь погребенными под собственной посудиной. Однажды запруда спасла бабушку, когда она случайно задела вилами гнездо диких пчел в коровнике. Пчелы набросились на нее, она побежала к ручью; длинная злобная эскадрилья мелких черно – желтых истребителей понеслась следом, оглашая ровным гулом ленивую истому оцепеневшего летнего полудня. Бабушка с размаху нырнула в запруду с головой, и юбка накрыла ее сверху большим темным колоколом. Мы с улюлюканьем носились вдоль ручья, разгоняя пчел попавшей под руки одеждой, пока они не улетели.
Каждый из нас твердо знал, что ручей обитаем; он искрился мириадами золотых чешуек, по нему пробегали легкие тени — это был наряд Псыгуаши (адыгское божество воды), которую мы без устали высматривали в воде; и однажды, в летних сумерках в текучих струях мелькнуло чьё-то лицо, блеснула улыбка, и видение тотчас уплыло. Неподвижный августовский жар одного из последних дней лета был оглашен истошным криком соседской девчонки, которая, тряся мокрыми кудряшками, божилась, что видела Псыхаляфа ( адыгский демонический обитатель вод, наподобие водяного, в народе считают, что он затаскивает свои жертвы под воду – М. Х.), — он вцепился ей в ноги, так что они глубоко увязли в мягком дне, и она еле отбилась. Этот случай поумерил наш энтузиазм, и мы стали влезать в ручей с опаской. В конце сада он нырял в густые высокие заросли кукурузы с восхитительными метелочками наверху; нежно-зеленые и золотистые, — мы собирали их, чтобы сделать волосы своим самодельным куклам. Початки обламывались с влажным хрустом, когда срывали с них тугие нежные листья, плотно пеленавшие початок, пока не обнажалось тускло мерцающее сырое кукурузное тело с наливными янтарными и молочными зернами, облепленное со всех сторон живыми волосками. Початки варились в больших чанах и немедленно съедались, а оставшиеся кочерыжки высушивались для растопки. Кукурузное поле служило мне надежным укрытием от родителей, которые каждый раз разыскивали меня, чтобы увезти в город. Кроны грушевых деревьев были так высоки, что до их верхушек не доставали шесты, а влезать на такую высоту никто не решался; перезрелые тяжелые плоды падали, рассекая листву, с характерным тупым звуком, мы собирали их и уплетали сладкую сочную мякоть. На нескольких деревьях в конце сада висели камни — обереги с дырочкой в центре, туда продевали проволоку и вешали на ветку. Здесь, под деревьями еще сохранились два окопа, в которые прятались во время бомбежек с подушками на голове. Летом мы спали под навесом, умудряясь размещаться вчетвером, а то и впятером в двух старых железных кроватях с никелированными спинками, прямо под ласточкиными гнездами, плотно упакованными молодым потомством, имеющим похвальную особенность содержать свое жилье в чистоте. Однако эта привычка маленьких соседей доставляла нам наутро массу хлопот, так как требовала регулярной уборки. Однажды мы составили друг на друга пустые деревянные ящики и извлекли из гнезда ласточкины яйца, чтобы рассмотреть, — удивительно маленькие и хрупкие. И ласточки больше не прилетали к этому гнезду. «Теперь птенцы никогда не появятся, — сказал Дотнах, отец Жанос. – Влезть в гнездо – все равно что влезть без спроса в душу человека, она тоже может улететь, как ласточки из собственного гнезда, от своих будущих птенцов». Я убежала в дальний конец сада, чтобы дать волю слезам.
По ночам, когда мои двоюродные братья и сестры шептались, соревнуясь в сочинительстве самой страшной истории, я становилась в центре двора, где надо мной повисал грандиозный звездный купол ярких мерцающих россыпей, среди которых я пыталась различить знакомые очертания Малой и Большой Медведицы (на самом деле, «Пяти братьев», по определению бабушки), Венеры, Весов и Млечного пути. Жанос рассказала мне легенду о неком дерзком всаднике, который во времена всемирного потопа спас лошадей, продвигаясь по звездам этой звездной дороги. С тех пор адыги его называют Путь всадника. И продекламировала мне анонимные стихи:
Какой скакал здесь всадник знаменитый?
Какая цель сияла седоку?
Коня какого звонкие копыта
Сумели высечь звезды на скаку?
(стихи А. Кешокова)
В полнолуние, когда сияющий диск поднимался над черными силуэтами ветвей и крон сада, раздавалась ружейная стрельба: мужчины палили по направлению невозмутимого янтарного светила, которое, по представлению, способно было прилипнуть к небу, и следующий день мог не наступить. Но пальба всегда давала благотворный результат, и следующий день наступал, и мы снова плескались в ручье. Наше купание затягивалось до глубокой осени, если она была погожей. Впрочем, вскоре появился кран, и ручей пересох, а с его исчезновением закончилось детство.
Жанос вставала еще затемно, замешивала тесто худыми руками с синими выпуклыми жилками, (они перебегали между сухожилиями, когда я их трогала). Еще недавно она выгоняла корову, предварительно подоив, ставила огромный чан с закисающим молоком на маленький столик и через некоторое время осторожно выбирала из него творожистую массу, утрамбовывала её, клала под пресс часа на два, предварительно посыпав солью, отрезала солидный ломоть и протягивала мне. Сыр хрустел на зубах, как сухой снег под ногами. Чаще всего она его коптила на дымоходных заступах камина. Он темнел, становился суше, плотнее, чуть горчил и отдавал дымком. Сыворотку, которой она створаживала сыр, Жанос выдерживала 3-4 дня с хорошо просушенным на солнце бараньим желудком, никому не доверяя таинства собственной технологии. Вскоре корма подорожали так, что корову с теленком пришлось продать. Но Жанос регулярно покупала ведро цельного молока и продолжала делать сыр также, как всегда, кормить оставшихся птиц и отдельно — старого индюка. После обеда она отправлялась в сад, огород и работала дотемна. Излишки урожая она продавала и на это жила, но большую часть присылала нам в город и раздавала соседям.
Сначала мама сокрушалась: ну зачем одинокой пожилой женщине так надрываться! Жанос слушала, поддакивала, но продолжала жить как жила. Тогда мама выходила из себя и заявляла ей прямо, что та ненормальная, что раньше времени превращает себя в старуху и теряет здоровье «от непосильного труда». Я пыталась робко возражать, что Жануся обладает такой трудоспособностью, какой не знает традиционная научная норма, а сама Жанос виновато добавляла, что работает так же, как все её соседки, не больше, не меньше. За родительской работой на полторы ставки, нашей учебой- основной и побочной, мы не вырывались в поместье так часто, как хотелось бы, и маму однажды осенило: продать поместье и купить на эти деньги благоустроенную квартиру в городе для Жанос. Но та категорически отказалась. Тогда мама с характерной всепобеждающей энергией нашла редкого покупателя, готового отдать за поместье целое состояние, привезла его с деньгами. Жанос расплакалась и выбежала из дома. Тогда её оставили в покое, а заодно и поместье.
Среди прочих странностей у неё была еще одна: она без умолку говорила о том, что было. Каждый мой приезд сопровождался бесконечными воспоминаниями о тех временах, когда были ещё живы её родители и братья, закрома ломились от запасов, а сад плодоносил без опрыскивания и давал обильный урожай, были только свадьбы, рождения и джегу (игрище – М. Х.) и почти никто не умирал. Её рассказы бесконечно кружили вокруг истории нашего рода, возвращались к одним и тем же фактам, дополнялись новыми деталями, но никогда не искажались. Она помнила бесчисленное количество случаев о каждом из её семьи, в которых ориентировалась с удивительной ясностью, припоминая даты рождения и смерти, свадеб или болезней бесчисленной родни, друзей и приятелей. Она могла в деталях описать вагон, в который сел её брат, которого на 25 лет сослали в Сибирь в 37, и пожелтевшую тонкую пачку писем, полученных от него, каждое из которых она помнила наизусть, повестки о гибели на фронте двух младших братьев и свидетельства о смерти родителей. Она хранила одежду, пахнущую нафталином: фашу бабушки, — нереально узкую, ноговицы и папаху своего отца, брата моего деда, кинжал и газыри прадедушки, а также массу старых бесполезных вещей, назначение и предысторию которых я знала чаще всего весьма туманно.
Иногда она извлекала тонкую пачку бумаг, предмет своей тайной гордости: это были ее похвальные грамоты былых времен, когда Жанос еще работала на ткацкой фабрике «Горянка». Она мало говорила об этой поре при других, но мне периодически скупо поверяла кое – какие детали, например, что на работу ежедневно приходилось вставать с первыми петухами, чтобы успеть в город к семи. Однажды она проснулась, оделась и перед выходом взглянула на часы, которые показывали три часа ночи. Рабочий день продолжался до пяти, с часовым перерывом на обед, но, чтобы выполнить реальную норму, необходимо было работать дополнительных два часа. Она работала три, чтобы ее перевыполнить, так как с самого начала стала передовицей. Не то, чтобы ей совсем не льстили почетные атрибуты жизни лидера производства: первая путевка на курорт, передовицы в газетах, (которые она тоже сохранила), да и фото не сходило с доски почета. Но основной мотив был все – таки другой: она изобретала лучшие узоры для ковров и самый четкий рисунок был сделан ее руками. Ковры Жанос расценивали как произведения искусства и часто посылали на международные выставки. Один такой ковер накануне отправки кто – то намеренно повредил, но Жанос с подругой вовремя заметили распущенные узлы, и устранили брак, о котором промолчали и не сказали начальству, и ковер на выставку все – таки уехал. Отдых для работниц на фабрике не предусматривался, и когда начинали невыносимо ломить спина и руки, они ложились прямо на пол. После четырнадцати лет такой работы Жанос серьезно заболела и получила инвалидность по заболеванию позвоночника и вибрационной болезни. Ей запретили заниматься прежним любимым делом. Но она не отчаялась: у нее было другое занятие, — целительство, так как она была потомственным аза.
Среди множества вещей, принадлежавших ей, были такие, которые использовались для лечения больных: прохладная, изысканная раковина каури, оставляющая во мне ощущение неразгаданной тайны, – блашъхъэ, на тонком шнурке, которую она вешала на шею при ангинах и паратитах, и белые перламутровые бусины в форме улитки: более крупные, шаровидные – женские, более маленькие и компактные – мужские; благодаря им, определялась болезнь. Здесь же, рядом с ними, покоился красный камень: Жанос откалывала кусок, растирала в порошок, смешивала с медом и смазывала воспаленный участок. Она вылечила экзему на руке у моего отца, прибегнув к одному народному способу: вытащила небольшой ореховый прутик из нашего плетня, сожгла его, и теплую еще золу приложила к пораженному месту. Она проделала эту процедуру несколько раз, и отец вскоре забыл о своей болячке. Однако этими приспособлениями Жанос пользовалась все реже, и лечила в основном стариков, которые верили их силе. Молодежь же обращалась в поликлинику.
Благодаря Жанос и бабушке без конца воссоздавался могучий раскидистый каркас генеалогического древа; они без устали достраивали недостающие фрагменты его запутанной причудливой кроны. Жанос знала любую шероховатость, рубец или нарост темной шершавой коры, малейший изгиб кряжистого ствола, крепких, гибких ветвей. Она безо всякого порой вступления или перехода приступала к рассказу одной из несметных историй, пока они постепенно не увязывались в моем сознании во что-то цельное и завершенное. Я только смутно улавливала их временную принадлежность, тщетно силясь восстановить точные даты, но вскоре осознала всю бессмысленность моих усилий. При всем своем разнообразии, эти истории были чем-то странно схожи, будто где-то на дне их проступал один и тот же неясный лаконичный узор, похожий на знак.
Итак, из многочисленных блужданий по обширному лабиринту прошлого, в которое я устремлялась вслед за Жанос этакой ариадновой нитью (правда, Жанос олицетворяла не столько Тесея, сколько Мнемозину), во мне осел некий кристаллизованный слепок, который можно озвучить лишь вкратце, как бледную копию оригинала.
Основателем рода моей матери был маленький ловкий миссионер, прибывший откуда-то из Греции, чтобы распространять христианство. Но кончилось тем, что он женился на местной девушке и пустил корни в адыгскую почву. Юноша напоминал юркого подростка, и его прозвали Шаоцук. Он определял будущее по звездам и фасоли, научился гадать на бараньей лопатке, а то порой залезал рукой в горячий чугунок с густым просом, раскатывал шарики, раскидывал их по треножнику и говорил, кто украл корову, или отчего внезапно умер дед на окраине аула, и сколько выручат за поездку с яблоками в Цемез или в Армению с фасолью, а утром мог сказать, кто посетит дом вечером. Он умел заговаривать змей, знал змеиные тропы и гнезда. Однажды он заговорил одну змею так, что она лопнула. Ему был ведом звериный язык; и он загонял в лес диких зверей прочь от стойбищ, выводя ему только ведомый ритм на самшитовом пхачиче (адыгский народный музыкальный инструмент, похож на трещотку – М. Х.), а игрой на камыле (адыгский музыкальный инструмент, — похож на свирель) выманивал певчих птиц из лесной чащи. На ночь Шаоцук читал свою старую толстую книгу и рассказывал бесчисленные истории. Их слушали, запоминали и пересказывали, но не те, божественные, из его толстой книги, а другие, свои. Впрочем, некоторые события из его святой книги вскоре тоже делались своими и пересказывались на местный лад. Зато неясная книга снискала ему твердую репутацию человека ученого. Он знал все лекарственные растения в округе, делал из них снадобья, и со временем стал
великим аза, а слава его коснулась дальних пределов. Однажды он спас могущественного русского князя, вылечив его золотолистником. Веснами, с прилетом кру (журавли), на ежегодной джигитовке, древко нып (праздничное, чаще свадебное знамя – М. Х.) частенько оказывалось в крепких руках проворного Шаоцука; он уносился с ним далеко вперед от палящих по стягу всадников, гольмадын (шелковый женский платок, его привязывали к древку – М. Х.) оказывался целехонек, без единой пробоины, — это означало, что год будет удачным; весь этот день и всю ночь напролет чествовали маленького смельчака.
За обычным людским обликом Ш. умел угадывать черных и белых джинов. Однажды он поймал белого джина в образе женщины, схватил за волосы, срезал прядь и спрятал её в укромное место на чердаке, когда женщина уснула. Поэтому она и служила ему долгое время. Однажды белая колдунья пустилась на хитрость и попросила 12-летнюю дочку Ш.: «Сделаю тебе куклу, если принесешь мою прядь». Девочка поверила и принесла. Женщина толкнула её в огромный чан, в котором варилось пшено для махсымы и бросилась бежать, но во дворе ей преградили дорогу гуси; они набросились со всех сторон, не давая пройти. Тогда джин закричала: «Пусть будут прокляты семьи этого рода, что держат гусей!» С тех пор никто не держал гусей, так как все хорошо знали: с джинами шутки плохи. Сами джины посещали многих из этого рода. Одна старушка со светящимися глазами пришла однажды к больной дочке Шаоцук Увжоко. «Долго ты будешь лежать? – спросила она. – Вставай, я покажу, что тебя вылечит». И повела больную в степь. Когда встревоженные родители нашли девочку, та собирала какую-то луговую траву и никакой старушки с ней уже не было. «Она меня вылечит», — сказала девочка, сделала себе дома снадобье и в течение месяца поправилась. С тех пор она стала аза, и слава её перешагнула соседские пределы.
Дети Шаоцука унаследовали странные свойства отца: иногда все они видели один и тот же сон, который всегда сбывался; наутро же, не тратя понапрасну времени, только уточняли, кому, к примеру, идти предупреждать соседей, у которых, согласно сну, должна была отелиться корова к полудню. Все его потомки, проходя через предписанные Всевышним хитросплетения родовой кроны, воплощали с неясной закономерностью те или иные черты своего предка. Кто-то становился джегуако и прославленным сказителем, кто-то – гадателем на бараньей лопатке и прорицателем, а другие — аза, что знали травы и снадобья, возвращали утраченные силы одним прикосновением и способны были обратить вспять стрелу смерти, пущенную рукой черного джина. Кроме духов людей, многие люди этого рода видели духов зверей, птиц, гор и даже дней. Одной старухе в день губж (вторник), вечером, явились двое дюжих черных мужиков. Она в это время распушивала шерсть. Во дворе овчарка даже не залаяла. Не успела старуха встать, как незнакомцы подхватили ее за руки и заставили плясать удж (парная хоровая обрядовая пляска). Они плясали с ней, пока старуха не выдохлась, потом бросили ее на распушенную шерсть и сказали: «Мы – губжи, впредь в день губжа не смей шерсть пушить и что – то делать!» И ушли, а собака на них не лаяла.
Некоторые становились хатияко (церемониймейстер), вспоминали человека, который оживлял кукол, и даже одного канатоходца, который кончил тем, что упал со скалы. Одних благословлял создатель многочисленным потомством, других – силой, третьих – красотой. Среди дочерей этого рода была одна, которая заставляла останавливаться мужские сердца. Зловещая слава о ней облетела все округи, и каждый всадник объезжал ее дом за милю вокруг. Муж этой женщины перестал есть и спать, потерял свой облик и превратился в тень собственной жены. А вскоре нашли его мертвым под цветущим деревом с блаженной улыбкой на губах. Смертоносная красота цвела до конца дней ее жизни, так и не покоренная временем.
Другая женщина была наделена небывалой силой. Однажды, когда она доили корову, а годовалый телок надоедал ей, она подняла его над головой и перекинула через плетень, как кошку. Другой раз она одолела огромного пелюана (богатыря — М. Х.) из войска противника, переодевшись в мужской наряд.
Некоторые не получали милости всевышнего и мыкались бесприютно до конца дней своих. Но, говорили посвященные, это были те, что не распознали вовремя своего призвания, ибо посылая человека на землю, Тха каждого благословляет своим собственным божественным назначением.
В этом роду родился бегымбар (святой, блаженный, просветленный – М. Х.) по имени Лиуан. Он с детства был одержим поисками счастья и даже достиг вершины Ошхамахо (Эльбруса). Никто так и не узнал, нашел он там счастье или нет, но, прикоснувшись к солнцу, научился летать и отогревал своим жарким теплом каждого, кто в нем нуждался. У него было 27 дочерей от разных жен и один сын, рожденный сероглазой белокожей женщиной из соседнего племени тюрков, который тоже стал одержим поисками счастья.
Но чаще всего потомки Шаоцука рождались воинами. Эта усадьба
принадлежала знаменитому конокраду, который отбивал табуны лошадей в степях Закубанья. Говорили, что он был обладателем необыкновенной бурки – нэщыпхъуэ (в русской транскрипции – нашипхо: «глаза застилающий» – пер. З. Налоева), поэтому многие его считала фокусником. Одевая бурку, он внезапно исчезал, а снимая, — появлялся. Однажды Пшикан прослышал о необыкновенном белом жеребце из Моздока, которого держали в отдельной конюшне с крепкой охраной. Пшикан дождался, пока двое охранников уснули, лег между ними и начал раздвигать их своим телом в разные стороны. Каждый во сне думал на другого, и никто из них не проснулся. Пшикан натерся потом своей кобылы, которую почти без отдыха гнал с Кабарды до Моздока, поэтому жеребец сразу признал его и не издал ни звука. Пшикан кинул под ноги коня солому, чтобы не стучали копыта и бесшумно вывел его через узкий проход, образовавшийся между храпящими охранниками. Затем он легко вскочил на белого жеребца, неслышно кликнул свою вороную кобылку и к утреннему намазу уже был дома. Люди, которые видели Пшикана за вечерним намазом, смеялись над услышанной небылицей: ну как можно пригнать моздокского жеребца за время между вечерним и утренним намазом?
Он использовал тот же трюк, когда казаки из недавно образованной станицы украли из аула стадо баранов. Казаки на ночь расположились голова – к голове, не утруждая себя назначением ночной охраны, в образовавшийся центр загнали баранов. Пшикан лег между двумя казаками, незаметно распихал их в разные стороны, вывел баранов в образовавшийся проход и бесшумно погнал их восвояси.
Однажды он поборол страх своего маленького внука, которому на кладбище привиделась альмасты (демоническое существо женского пола, водится чаще в лесах или темных местах – М. Х.) в белых одеждах. «Пойдем, посмотрим, — сказал Пшикан внуку, — Если что – поймаем её». Они обнаружили белый платок, забытый на ограде. «Зыми ущымышинэ, — сказал дед, — умышынэм — утекуащ». (Никого не бойся, если не боишься — значит, победил).
Он прожил 112 лет, зимой ночевал на жестком ложе в нетопленой кунацкой и шел обмываться перед утренним намазом к проруби, прокладывая первую тропку по утреннему девственному снегу впереди самых образцовых невесток округи, что вставали еще затемно и спускались к реке за водой с первыми лучами солнца. К нему порой забегали парни: «Пшикан! Там, за аулом пасется чужой табун!» Старик спешно натягивал ноговицы, парни со смехом убегали, а он ругался им вслед, воинственно потрясая клюкой. У него были глаза победителя: веселые, гневные, озорные.
Пшикан с двумя младшими братьями владел обширным наделом земли, в центре которого находился огромный валун. Никто толком не знал,
как он оказался на этом месте. От аула до ближайшего горного кряжа пролегала лесостепь на полтора десятка миль; каждому было ясно, что сорвавшись с горы, подобное расстояние валун преодолеть никак не мог, так же, впрочем, как и вырасти из-под земли. Женщины, которые всему находили свое объяснение, были уверены, что он свалился с неба. Вскоре в это вынуждены были поверить и мужчины, когда обнаружились удивительные и даже зловещие свойства громадного камня. Дети карабкались и скатывались с него, как с ледяной горы, отполировав поверхность, и носились вокруг резвыми стайками, женщины, раз коснувшись его рукой, благополучно разрешались от бремени, мужчины возвращались из военных походов живыми и здоровыми; между братьями и их женами царили мир и согласие. Но раз кто — то сообразил, что камень занимает много земли, да и торчит ни к месту, как флюс, и все, кроме детей и нескольких женщин, склонились к этому мнению. Решили пригнать всех аульских мулов, чтобы оттащить камень. Животных запрягли, стегали нещадно, но камень даже не шевельнулся. Вскоре на мулов напал мор, и они все передохли. Однако этому событию большого значения не придали. Тогда решили позвать взрывника. Тот обложил камень порохом со всех сторон в таком количестве, что обрушилась бы скала, но после оглушительного взрыва валун даже не шевельнулся. Зато наутро внезапно скончался взрывник. К камню больше никто не прикасался, пока живы были очевидцы этого странного происшествия; со временем оно превратилось в легенду, легенда – в сказку, в которую вскоре уже никто не верил. Однажды кто-то снова нашел камень неуместным, и, как встарь, мнение это нашло одобрение большинства. На этот раз пригласили двоих инженеров, единственных в округе, выучившихся не то в Стамбуле, не то в Каире, и трех опытных взрывников. Один инженер и взрывник заявили, что не станут губить священный камень, и если уж он так мешает, то можно вырыть огромную яму прямо у основания, величиной с него же, столкнуть его туда и засыпать
землей. Но это будет большой участок неплодной земли, что может вырасти наверху, если снизу — громадный валун? – возразил старейшина. Решили взрывать. Инженер и взрывник отказались участвовать в этом деле и ушли. Оставшиеся устроили взрыв, потрясший всю округу, но камень только сдвинулся с места. Однако через некоторое время инженер — взрыватель и двое взрывников погибли один за другим при загадочных обстоятельствах. И снова жители присмирели от ужаса и страха. Новое затишье продлилось до тех пор, пока, повинуясь одному и тому же дьявольскому плану, люди через некоторое время не разрушили валун, благодаря небывалой силе новой взрывчатки. Все, кто так или иначе был причастен к уничтожению камня, вскоре погибли или скоропостижно скончались в течение месяца после взрыва.
Теперь в конце нашего сада лежал небольшой камень, издали похожий на спящую собаку. Жанос говорила, что это осколок того валуна, который все еще охраняет наш дом и не разрешала прикасаться к нему.
Порой я сбегала в сад от докучливых жанусиных разговоров и натыкалась на ограду, за которой начиналось родовое кладбище. «Как ты не боишься одна, рядом с покойниками?» — спрашивала я Жанос, и она отвечала: «Надо бояться не тех, кто за оградой, а тех, кто ходит мимо нее».
Поздней осенью, когда вьюнки и плющ опадали с ограды, издали (из-за моей близорукости ли или спазма аккомодации), старый редкий плетень, сотканный из тонких ореховых прутьев, значительно истончался, а порой казался совсем прозрачным, так что усадьба наша плавно переходила в кладбище или наоборот. Из года в год моя тетка поливала побитую градом сухую яблоню, которую посадил когда-то её отец. «Да не мучайся ты! Высохшее дерево никогда не оживет!» — говорила я с чувством. Она обещала мне не поливать его больше, а на следующий день поливала снова.
Она готовила только традиционные кабардинские блюда, подозреваю, именно потому, что ничего другого не умела, с удовольствием ела мои интернациональные разносолы, но никогда не бралась их запоминать. После бабушки только здесь реализовались мои скромные языковые практикумы (если не считать спорадического косноязычного общения с аульской родней). Я воплощала их особенно полно во время этих гастрономических раундов, пока, мучительно страдая приступами лингвистического дефицита, бессильно не увядала и не переходила на русский до новой вспышки энтузиазма. После русскоговорящего детского сада, такой же школы с необязательными факультативами по кабардинскому, с которых мы при случае безнаказанно сбегали, русскоговорящих учреждений, в которых работали мои родители и уже автоматически перешли на русский, после вузовской программы обучения на русском, это был единственный островок неразбавленной родной речи, от которой после смерти моей бабушки я почти
отвыкла.
Жанос регулярно делала махсыма, потому что его делала её мать и бабушка, и давала его мне еще совсем легким, почти не бродившим, продолжая выдерживать его в 10-литровом стеклянном баллоне с притирающейся крышкой. Вскоре в нем обозначалось три слоя: верхний, тонкий, почти прозрачный, средний, более густой, и нижний, тяжелый, самый темный, похожий на гречишный мед. Она давала мне верхний, отборный, который в старину подносили только пши (князья – М.Х.) и уоркам (дворяне – М.Х.). Зимой она выставляла кувшин с напитком на холод, накаляла на огне дзасэ (шомпол – М. Х.) и погружала его в холодное махсыма (адыгский слабо — алкогольный напиток, на основе пшена – М. Х.), оно тихо закипало, пенилось и пузырилось, нагретый металлом слой оказывался вверху, так что верхней губой я ощущала тепло, а нижней – холод, с обжигающим острым вкусом газа.
Усадьба всегда казалась разной благодаря сезонным метаморфозам зеленой лужайки, привольно раскинувшейся посреди большого двора. Они начинались, когда однажды ночью через незапертую калитку (редкая оплошность Жанос!) неслышно заползала весна и, притаившись где-то у плетня, чутко выжидала. Сначала она скромно заявляла о себе оплывшими
проталинами на темном ноздреватом снегу; и вскоре через обнажившийся бурый тлен перегноя пробивались подснежники, источающие горький аромат сырости, этакие ожившие снежинки, цветущий мемориал умирающей зимы. Но после весеннего солнцестояния, когда отмечали наващхаджед (распространенный новогодний адыгский праздник солнцестояния — М. Х.) и резали черную курицу (а позже – какую придется), весна входила в раж, опрокидывала солнце на нашу оттаявшую лужайку и расцвечивала её всеми оттенками желтого. В тенистых влажных уголках двора, среди робкой, еще нежной травы, в тени старого орешника, лишь подернутого зеленой дымкой, поднимались пряно благоухающие островки шейт1анапэ, первоцветов-баранчиков с бесконечным многообразием желтого цвета чашечек в зависимости от интенсивности солнечного освещения – от охры к насыщенно-желтому, до бледно- лимонного. Их длинные цветоножки с невинной доверчивостью склонялись с высоких бледных стеблей в окружении крупных ярко — зеленых листьев, оправдывая название пальцев или ног шайтана. К ним вскоре присоединялись вызывающие, почти вульгарные одуванчики, с шафрановыми пушистыми головками и глянцевые недотроги — лютики, легко роняющие свой цвет. В редкую весну появление одуванчиков предваряли островки мать – и мачехи, издали напоминающие их; каждый цветок — маленькое солнце: диск — яркий янтарный тон по центру, и лучи — более бледная периферия. Причудливо мимикрировали низкорослые епарудз – фиалки, от бледно — до ярко – фиолетового, почти фуксинового цвета, и эти, насыщенные, темных тонов источали более интенсивный, глубокий аромат. Отвар их листьев Жанос смешивала с медом и давала при кашле, простуде с высокой температурой и расстройствах желудка, а настой всего растения, с корневищем, раздавала больным с заболеваниями почек и суставов. «Много не пить! — предупреждала она, — может быть рвота!» Между деревьями появлялись густые мелкие островки лазурных незабудок. Месяцем позже, в конце апреля — начале мае, когда в саду расцветали зей – кизил, кугъэ-алыча, вишня и абрикос, к их бело — розовым ароматам примешивался запах ландыша, скромно белеющего в отдаленных уголках. В августе- сентябре на месте его майских белых колокольчиков появлялись ярко — красные мелкие шарики со светлыми округлыми семенами. Чуть позже к ландышу примешивался тонкий запах стронцианового многолепесткового цвета инбыр, вороньего глаза, который скоро превращался в одинокую сизо- черную бусину, глянцево мерцающую на своем единственном ложе. Я знала от Жанос, что красные и черные ягоды этих цветов хороши при лечении сердечных застойных отеков, листья — при нервных расстройствах, а корневища — при отравлениях, так как они вызывают рвоту. В конце мая мы искали колокольчики; синие резные головки с крупными желтыми тычинками прятались чаще всего под кустами в конце сада. Их давали роженицам: «От них уходит боль и прибывает молоко».
«Каждое растение и цветок призвано уничтожать какую — нибудь болезнь, только мы об этом почти ничего не ведаем, — говорила мне Жанос, — но если не знать меры, любое же может погубить». К доверчивым, солнечным чашечкам лютиков могла присоединиться медуница, являвшая на одном стебле весь спектр синего: ультрамарин, голубой, сиреневый, светло-лиловый, розовый. В середине мая появлялась душица; её благоуханные стебли с темно-зелеными округлыми резными листьями были усеяны мелкими ярко – сиреневыми цветками. Мы её растирали в ладонях, и она остро и пряно пахла мятой. В конце весны зацветали крупноплодные деревья, а позже – калина и шиповник, благоухающий розами; в бело-розовой пене их цветения полоскались струи легкого прозрачного еще ветра, налетавшего порывами, пока воздух не тяжелел и не увязал в растительных испарениях с первыми приступами летнего зноя. Но я ждала начала июня, когда зацветет виноград: он был для меня царем ароматов и повелителем настроений. Я подолгу застывала в эйфорическом ступоре, передвигаясь лишь в поисках самой насыщенной струи колдовской амбры, которую наш черный жезумей (виноградник – М. Х.) щедро отпускал на волю из своего темного подземного царства. Виноградник густо оплетал плетень, образуя живую ограду на десятки метров, и небольшую беседку, — обычный деревянный прямоугольный каркас, который также густо оплетался виноградными лозами, превращаясь сверху в крышу беседки, а по бокам – в ее зеленые стены. Рядом с виноградником, касаясь его кронами, росли вишневые деревья, поэтому в вине, который выжимали и настаивали поздней осенью, всегда чувствовался вкус вишен. В июне же аромат цветущего виноградника плыл над усадьбой, перебивая свежий сладковатый дух древних цветущих акаций, облепленных тысячами белоснежных цветков, похожих на мотыльки, безвольно повисших на тонких длинных ножках. Они с незапамятных времен плотной стеной отгораживали наш дом от центральной дороги и сворачивали на незаасфальтированное шоссе, ведущее по направлению нашей калитки; их высокие кроны смыкались, образуя длинную арку, благоухающую белым цветом в начале лета. Мы увлеченно поедали приторную сладковатую завязь, оставляя пробоины в выстланной ветхим шифером крыше навеса, с которого обдирали белые цветущие гроздья.
В начале лета двор покрывался ромашками, васильками и клевером –сиреневым и белым, повиликой и мятой, на плетень заползали, густо оплетая, вездесущие вертлявые вьюнки – шейтэанджэш, они дружно поворачивали свои бледно-розовые изящные головки вслед за солнцем, и с закатом сникали, — увядали, плотно смыкая сплошные нежные чашечки в тонкие сморщенные трубочки, чтобы наутро снова доверчиво раскрыться навстречу первым лучам. Тем временем в саду расцветал ядовитый молочай -шейтанбыдз, привлекая наивных пчел своими желто — зелеными невзрачными соцветиями; Жанос выжимала из него ядреный млечный сок, «грудное молоко самого шайтана», которое способно было вывести не только пятна и веснушки на коже, но даже мозоли. В середине лета, когда мощные ветвистые стебли конского щавеля окрашивались в ржавый цвет, она собирала его вдоль проселочных дорог, и, слегка просушив, сворачивала и клала в бумажные мешки. Этой травой Жанос вылечивала любые расстройства желудка, даже дизентерию. Я знала еще одну траву на толстой темно- фуксиновой, почти черной цветоножке, поросшей с разных сторон меленькими фиолетовыми цветочками. Жанос называла ее по – кумыкски тутты, высушивала, опрокинув вниз соцветиями и варила из нее необыкновенно ароматный калмыцкий чай, нежно любимый всеми.
Ее смуглые жилистые руки быстро мелькали между грядками, когда она ловко освобождала от сорняков свои насаждения, не позволяя погибнуть ни одному из них. Даже в кучке сорняков она умудрялась увидеть полезные растения, и извлекала их с трогательной заботой: лопухи, из которых она делала настои от кашля и от болезней печени, или обычный водяной перец, что останавливал кровотечение и восстанавливал кровь, подорожник и полевой хвощ (он казался мне выходцем какой – нибудь мезозойской эры), любящий влагу и бегущий ближе к нашему ручью, — его Жанос добавляла в состав трав, которые готовился ею для почечных больных. Не боясь обжечься, она извлекала даже крапиву, которую давала анемичным детям и взрослым, при гастритах и бог знает при чем еще.
Тем временем мы неумеренно вкушали щедрые дары раннего лета: вишню Майку, невинно розовеющую в своем младенчестве, не оставляя ей возможности достигнуть подобающей зрелости, зеленые, вяжущие плоды продолговатой сливы, абрикоса и округлой сочной алычи, из которой позже Жанос делала совершенно плоскую пастилу – маразей, темно – янтарную, кисло – сладкую, и ходили с сизыми, устрашающего цвета пальцами и ртами от съеденного черного тутовника. Я пружинила на гибких ветвях черешни, усыпанной тугими темно – бардовыми плодами; некоторые из них не выдерживали и лопались под натиском распирающего их сока, мы цепляли по две соединенные ягоды на уши, но вскоре съедали и эти серьги. С тем же азартом мы обдирали плоды шпанки, подолгу раскачиваясь на её вершине, или склевывали их прямо с ветки, как птицы, немилосердно обагряя свои светлые платья; и к середине лета лакомились янтарной душистой мякотью абрикосов, еще теплых от горячего солнца.
Наши веселые детские руки являли чудеса скорости в плетении разноцветных венков, ожерелий и браслетов из шафрановых одуванчиков, лазурных васильков, белых ромашек, скрепленных гибкими прочными стеблями невзрачной кашки; мы цепляли на грудь живые сиреневые броши из распустившихся ершистых бутонов липучего репейника, пахнущего полынью, и до последней клеточки тела ощущали себя продолжением нашего цветочного царства.
Я подолгу наблюдала за жизнью другого мира, который приходил к пику своей кульминации у меня на глазах: за шевелением пестрых яиц в перепелиных гнездах, которые вились на акациях, посаженных Пшимахо, средним братом моего деда, в самом конце сада, обозначая его границу с соседским, за сосредоточенным тяжеловесным полетом пчел и шмелей, басовито и размеренно жужжащих, их неспешным топтанием на месте в самой сердцевине цветка, на лоне нежного невинного пестика и тонких тычинок, с желтыми головками легкой пыльцы, которой они щедро одаривали каждого желающего. Мой охотничий взгляд азартно внедрялся в густые кущи атласной травы, выслеживая целенаправленную суету муравьев, и бесшумные прыжки кузнечиков, похожих на внезапно ожившие летучие листья травы, а позже, с наступлением сумерек, раздавались неумолчные бесстрастные мелодии сверчков, исполняемых на одной ноте. Я могла неопределенно долго томиться в жаркой засаде, наблюдая узорчатую, неподвижную спину дремлющей ящерки, слившейся с зеленью, и сбивалась с ног, тщетно пытаясь нагнать ее. Однажды под яблоневым листом я обнаружила неприметную куколку бабочки — адмирала. Я ощутила себя темным сгустком мучительной боли, схваченной со всех сторон жестким панцирем кокона, когда из червя с молчаливой неукротимостью пробиваются крошечные сухие колышки крыльев, — сложенные китайские веера, ниточки конечностей, необъятные фасеточные глаза, и все это еще в дремотной, индифферентной неподвижности, — странное уродливое существо, похожее на выцветший осенний листок, скомканный и забытый прошлогодним ветром. Я представляла себе, как это нечто (аморфная пролонгированная трансформация боли, или боль, не обретшая окончательной формы), жадно сосет черную пустоту и неотвратимо набирает свою хрупкую мощь, пока, вздрогнув от неслышного набата (час настал!), не начинает неуклюже двигаться к слепящему, изъеденному отверстию кокона и, тяжело выпростав свое тело, впервые раздвигает робкие еще крылья, а потом, задохнувшись и ослепнув, уносится первым порывом ветра в новорожденное пространство мира.
Меня увлекали ввысь стайки птиц, срывающиеся с наших деревьев, и серые прозрачные тучки мошкары и комарья, открывая мне безграничную жизнь неба, в которой уже давно растворилась моя душа, еще не воплощенная звуками известной песни. Я различала в воде родника, там, где в зарослях замедлялся его ход, прозрачные шарики икринок, ощущая в себе их первые биения жизни, и наблюдала бесконечную игру неутомимых головастиков на берегу полноводной реки, которая протекала вдоль нашего села, слушала страстное пение изумрудных лягушек; мой взгляд проникал глубже, к цитадели водной жизни, где искрилась мелкая рыбешка, и на самом дне притаилась моя древняя мысль, что приплыла с противоположного берега текучих времен, еще не одетая в рваное платье слов.
Иногда случались безветренные дни, когда ветер застывал, захваченный врасплох кольцом гор и, сгущаясь, повисал клочьями на ветвях деревьев, а позже превращался в сизую дымку. Еще недавно он был напоен ароматами предгорий, которые, едва пахнув, улетали, оставляя ощущение недосягаемости и светлой тоски. Теперь же влажный неподвижный воздух, тяжелея и изнемогая, пропитывал меня, я задыхалась и запиралась дома. Его комнаты ткали чуткую ажурную паутину небывалой тишины, в которой путался и беспомощно затихал любой звук. Казалось, ветер сворачивался и залегал где-то у корней деревьев, растворяясь в глубокой летаргии. Прозрачные облака застывали в горячем небе, застигнутые внезапным сном, но вскоре таяли, и приходил зной. Он сжигал листву и траву, и от нашего ручья оставалась сырая лужица. По улицам ходила, поднимая светлую пыль, босоногая ватага детей, которая носила на высоком шесте самодельную куклу Ханцигуашу и громко распевала:
Хьанцигуащэ къыдошэк1,
Ялыхь, Ялыхь, уэшх къыдэт!
(Мы носим Ханцигуашу,
Аллах, пошли нам дождь!)
Они заходили в каждый дом, и им сыпали в корзину конфеты, печенья, лакумы, клали домашние яйца (распространенный народный обряд, который бытует поныне, — как реминисценция язычества,– М. Х). В эти моменты я тосковала по свежему бризу океана, который вобрал в себя все неведомые ароматы планеты в их диком причудливом сочетании, и вливался в мои открытые легкие щедрыми струями, когда я стояла на хмуром берегу Атлантического океана Франции, превратившись в одну ненасытную воронку. Я узнала тогда, что он мог сбить с ног, но чувствовала в себе силы устоять и принять его.
Но однажды утром просыпался долгожданный ветер, разгоняя удушливую тяжесть липкого зноя, и под его неукротимым напором распахивались объятия просветленного горизонта: на юго – востоке близкие зеленые холмы за рекой обозначались необыкновенно четко, а на северо – западе рождалась снежно – белая гряда гор. Я близоруко щурилась, и, обретая объем, горы раскрывались другой стороной, скрытой светло – серой тенью, которая сливалась с голубой дымкой неба. Ветер играл кронами деревьев, перебирал их, словно четки, смешивал времена. Я оказывалась пойманной в западню безвременья, оно опутывало меня тугой спиралью, пеленая в плотный кокон. Меня охватывало оцепенение, похожее на странную сомнамбулу, во время которой я ощущала себя каждой из тысяч своих предшественниц, живших до меня, начиная с самого рассвета времен: (и внезапно моя средневековая фаша (национальный костюм) и пха – вакъэ (высокие деревянные башмаки, которые надевали адыгские женщины знатных сословий) оказывались мне так же впору, как и нынешний европейский наряд): медленная смена лиц, плоти и одеяний в слепом, черном омуте неизбывной боли бесконечных превращений, таинственные безмолвные скитания и изменения духа, его медленный безудержный рост в бескрайней череде воплощений. Ветер шумно волновал листву, но вскоре приносил за собой спасительный дождь.
Жанос собирала лечебную траву весной, летом и осенью, высушивала её, делала настои, отвары до глубокой осени. Все снадобья она раздавала больным, которые шли к ней редкой, но нескончаемой вереницей. Жанос не брала денег, считая это грехом. Ей приносили фрукты, сладости и молочные домашние продукты.
Поздней осенью наползал туман, он отрезал нашу усадьбу от внешнего мира, заглушал звуки, будто окружающие предметы слизывало гигантское животное, или сама земля становилась мифическим чудовищем, которое вдохнуло и забыло выдохнуть видимое пространство. Усадьба парила в призрачном небытие, напоминая летающий остров Лапуту Д. Свифта; кругом – ни звука, ни движения, только мелькнет где-то за приоткрытой калиткой локоть или колено редкого прохожего и тотчас бесшумно исчезнет.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СИНЯЯ ПАПКА
«Открывает глубокое из среды тьмы,
и выводит на свет тень смертную»
(Иов, 12, 22)
НОЧНОЙ ГОСТЬ
В тот день я решила заночевать в гошпащ (комната вне дома, по типу времянки – М. Х.), сказала об этом Жанос между делом, направляясь к старому дому. Но Жанос запротестовала: зачем ночевать одной, будто мало места в большом доме. Но я сослалась на слишком мягкую постель и теплое одеяло, это не по мне, добавила я. Жанос больше спорить не стала. Я крепко заснула и проснулась от какого-то бормотания. В углу напротив сидел старичок на старом низеньком сундуке и, отвернувшись к окну, что-то читал. Он держал на коленях увесистую, потертую книгу. Свет скупо сочился в окно, и старик больше походил на силуэт, но я различила старую поношенную одежду странной формы, ноговицы и невысокую шапку на голове. Я больно ущипнула себя за руку ( не сплю) и резко села в кровати. «Вы кто?» — еле выдавила я из себя, натягивая одеяло до подбородка. Он не прореагировал. «Да кто вы такой? — закричала я, забыв об этикете, — И что вы здесь делаете?» Он продолжал что-то бубнить. Только сейчас до меня дошло: старик меня не слышал. Я не была удивлена: еще бы, настоящее ископаемое. Но откуда он взялся?
«Я пришел предупредить их, — бормотал он, — они не слушали: «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка (Псалом 21, 12). Бурный ветер шел с севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него…(Иез. 1,4) Когда они шли, шли на четыре свои стороны;. Во время шествия не оборачивались…(Иез. 1, 17)
А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз ( ,,-,,18) И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса (19) Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались с ними, ибо дух животных был в колесах (20) Когда шли те, шли и они; и когда те стояли, стояли и они; и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах» (21). « Что он говорит, что читает? — лихорадочно думала я, кое-как овладев собой, — Похоже на святое писание…» — «Возлюбили они себя сильнее Господа, — скрипуче, еле слышно говорил старичок себе под нос, -поэтому не слышали его предостережения, и его слова, и его законы, «и рассеял их Яхве оттуда по всей земле» ( Бытие, 11) Снискали они гнев. «Пришло время, наступил день; купивший не радуйся, и продавший не плачь; ибо гнев над всем множеством их» (7, 12). Тогда сказал Господь: «И отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам Земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо Мое, и осквернят сокровенное Мое; и придут туда грабители и осквернят его (21). И положу конец надменности сильных, и будут осквернены святые их (24). Идет пагуба; будут искать мира, и не найдут (25). Беда пойдет за бедою и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев (26)»
Где-то запел петух. Старичок вздрогнул и засуетился, захлопнул полуистлевший талмуд и неслышно прошел к двери, приотворил её и скрылся. Я на ватных ногах двинулась следом, выглянула во двор. Старик исчез. Я бросилась к калитке. Она с ночи была заперта на ключ. Я зашла в дом. В моей голове кружилась фраза, многократно повторяемая многими: основоположником рода был маленький миссионер из Греции. Но теперь, кажется, я только начинала понимать, что миссия его заключалась не в насаждении христианства. Боюсь, она так и осталась непонятой для его окружения. Я с тоской подумала о моих «отлично» по атеизму и истмату, о длиннейших тщательных конспектах с оригиналов классиков марксизма-ленинизма в толстых общих тетрадях, которые мы складывали высокими внушительными стопками на стол перед взыскательным оком преподавателя. Мой здравый смысл, основанный на прочном фундаменте советского образования и воспитания дал внушительную трещину и теперь разлетался на осколки под прессом необъяснимых фантастических явлений.
Жанос уже встала, но была сонной. «Я его видела», — сказала я, не имея возможности объяснить. Но этого не понадобилось: с Жанос сразу слетел сон, и она прямо взглянула на меня голубыми всезнающими глазами:
-Он по-прежнему такой же худой? — спросила она.
-Да.
Ж. глубоко вздохнула и с какой-то болезненной жалостью коснулась моей щеки: «Надо пожарить и раздать лакумы». И мы направились к кухне.
«Жанос, что это за сундучок, на котором он сидел?» спросила я. Она внезапно вздрогнула и напряглась. «Какой сундучок?»- спросила она ненатуральным тоном.
-Ты знаешь, какой: железный, окованный голубым.
-Он бесполезный.
-Почему же ты его не выбросишь?
Ж. яростно месила тесто: «Ну, на нем еще можно сидеть». Я пристально следила за ней. «А то можно и выкинуть», — сказала она.
-Или сжечь, — добавила я раздраженно.
-Сжечь нельзя, он железный, — возразила Жанос.
-А ключ от него есть?
-Нет. Давно утерян. Да и лежит там ненужное барахло.
Однако в тот день чудеса на этом не завершились. Жанос прибежала из сада. Её голубые глаза сияли и казались еще светлее на худом обветренном лице: «Пойдем, покажу», — и потащила меня в сад. На высохшей яблоне, которую она без устали поливала вот уже который год, появились три бело-розовых цветочка.
С той памятной ночи я больше не испытывала желания ночевать в гошпащ, поэтому не знаю, приходил ли еще таинственный старичок. Мне в каком-то смысле было бы легче, если бы Жанос удивилась, признав абсурдность и призрачность моего ночного видения. Тогда констатация шизофрении, сама по себе неутешительная, внесла бы, тем не менее, какую-то определенность в эту ситуацию. Жанос выходила из курятника, держа в плетеной корзине свежие куриные яйца. И тут в сладкой дреме моего подсознания обозначилось первое, робкое еще движение: кажется, первый раз за долгое время я твердо знала, что делать и где искать. Вынужденно отдавшись во власть интуиции, я с удивлением наблюдала, как уверенно она выводила меня на единственный путь, в котором отказывал мне чистый разум (и я благословила «Критику чистого разума»). Даже в моих лихорадочных метаниях последних дней я стала усматривать что-то похожее на логику или пресловутый скрытый смысл.
В один из дней Жанос поехала в город. Я этого ждала: не мешкая, открыла шкаф, и меня обдало нафталиновой волной. Не было сомнений, что ключ от сундучка существовал. Стараясь ничего не менять местами, я целенаправленно искала. Несколько ключей не подошло. Час поисков так и не дал результатов. Наконец я обратила внимание на маленький овальный предмет в полинявшей ткани, и мой охотничий инстинкт испытал некий импульс. Развязав тряпку, я обнаружила, наконец, то, что безотчетно искала: прелестную инкрустированную металлическую шкатулку в форме яйца. Однако она была закрыта. Долго не думая, я залезла в отверстие подвернувшимся под руку гвоздиком, и крышка, пружиня, распахнулась. В шкатулке лежали золотые украшения и небольшой ключ.
Вернувшаяся с города Жанос, увидев меня над открытым сундуком, запричитала: «Что за проклятие на нашу голову! И этого ребенка не уберегла! Почему я не выбросила этот проклятый сундук в реку!» — «Ничего ведь не случилось, Жануся! Тут только синяя папка с какими-то записями и бумагами!» — «Что ты понимаешь! Здесь сидит джин, который уничтожает всех, кого касается! Он разрушительнее урагана: убил почти всех из нашей семьи, и последней была твоя мать». Она плакала. Я была в нешуточном смятении и одновременно чувствовала себя на каком-то празднике сумасшедших. «Не беспокойся, уж со мной-то точно ничего не случится», -сказала я. Жанос, рыдая, вышла из комнаты.
ДНЕВНИК
В синей папке я нашла дневник младшей сестры матери, с которой была связана какая-то темная история. С детства я знала, что у нее было слабое сердце, и она рано умерла. Я помню фразы, вскользь оброненные матерью, когда после похорон соседа она нашла ее, горько рыдающую в углу спальни.
-Что с тобой? — спросила испуганная мама.
-Знаешь, я сегодня так позавидовала покойному К.: он похоронен. А у нашего отца даже могилы не осталось!
Но однажды, (я уже была подростком), сама мама расплакалась на очередную годовщину её смерти: «Если бы тогда был гемодиализ, я бы спасла ее!» И вскоре резко, почти зло добавила безо всякой видимой связи: «Я презираю и не понимаю подобную слабость: нужно уметь преодолевать любые трудности». Эта сентенция заставила меня насторожиться, я поняла, что в истории с Теун, которая у всех близких вызывала слезы, не всё ясно. Лишь много позже я почти восстановила трагическую причину её ранней гибели по отдельным, случайно услышанным репликам и фразам из воспоминаний и бесед в семейном кругу: «Сделай же что-нибудь! Я больше никогда, никогда этого не повторю…У меня очень мерзнут ноги». И мама грела ей ноги пуховым платком и растирала горячими руками, стараясь растопить смертельный холод, который заползал снизу. «Я его больше не слышу, оно остановилось», — последнее, что сказала Теун.
Мама мне говорила, что у нее был жених откуда-то с Ближнего Востока, черкес, — Теун познакомилась с ним на первом международном фестивале, тогда уже он летал по авиалинии Москва – Оман. Вскоре они решили пожениться, но наших, советских, не выпускали за границу, а иностранцев не оставляли в Союзе. Словом, они вынуждены были расстаться, но какое-то время переписывались. Мама показывала роскошную позолоченную пудреницу и позолоченный инкрустированный маленький футлярчик из слоновой кости, — это был несессер, — ручки всех инструментов тоже были высечены из слоновой кости. Все это хранилось в черном ридикюле с выбитым одиноким цветком редкой красоты. Когда я повзрослела, мама достала его из глубин нашего семейного сундука: «Это принадлежало твоей тете, а теперь твое». Она извлекла из темных недр сумочки паспорт, пропуск с маленькой фотографией, с которой на меня смотрело мое же лицо с не моими толстыми косами по плечам. Следующим был футляр с очками в старомодной оправе. Я их одела и вскрикнула от удивления: «Они же как раз для меня! Та же степень диоптрий!» Я знала, что все стены маленькой комнаты в общежитии МГУ была увешана моими детскими фотографиями, первое слово, которое я произнесла, было имя Теун. А однажды, к ужасу моей мамы, ее сестра призналась с шокирующей прямолинейностью: «Ты же знаешь, как я тебя люблю. Но иногда я думаю: если бы с тобой что-нибудь случилось, Дина была бы моей».
В тот же период со мной стали происходить странные вещи. Идя по улице, на которой жила бабушка, мне повстречалась совершенно незнакомая женщина, которая неожиданно заключила меня в объятия («Ты же дочь такого-то и такой-то?») и тотчас упредила мое замешательство: «Ты не можешь меня знать. Я была подругой Теун, а тут смотрю: она идет мне навстречу. Дай бог тебе прожить то, что она не прожила», — добавила она со слезами и поспешно удалилась. После этого эпизода еще несколько человек, пристально вглядываясь в меня, останавливались и уточняли, не дочь ли я тех-то и племянница такой-то, и я утвердительно кивала. «Ты – вылитая Теун», — говорили они, качая головами.
Я взяла общую кожистую тетрадь, исписанную мелким отчетливым почерком старого типа, который в свое время кроме информативной, нес еще эстетическую функцию. Я полистала её. В нее было заложено несколько писем, — неотосланных, как я поняла позже. В самом конце тетради я обнаружила несколько стихов, написанных рукой Теун. Я открыла тетрадь:
«Происходит что-то необъяснимое и ужасное, чего я до конца не могу осознать. В своих ощущениях, похоже, я совершенно одинока. Говорить бесполезно, но и молчать не могу. Не уверена, что буду понята даже своими близкими.
Для меня все началось, когда после моего возвращения из Москвы к нам пришел незнакомец с какой-то бумагой, на которой красовалась гербовая печать, и поздравил с реабилитацией погибшего отца. Я вздрогнула и проснулась, почти физически ощутив, как что-то переключилось в моем сознании, и события всех предшествующих лет обрели хрустальную ясность и пугающую определенность. Мне оставалось их только увязать. Я вспомнила душный летний вечер, когда также постучали в дверь, — это был Жанхот. Мальчишеское лицо было бледно, и круглые стекла его очков тревожно блестели. Они крепко обнялись с отцом и зашли на кухню. Мамы и сестры не было, поэтому пришлось накрывать на стол самой. Жанхот впервые не улыбался, а что-то быстро, тихо говорил отцу. «Они все арестованы… все шестеро. Есть свидетельства, что их больше нет… Теперь на очереди я», — услышала я голос, прозвучавший растерянно. Почувствовала, как заколотилось сердце: я сразу поняла, о ком речь, я знала их всех: они собирались у отца по вечерам, и говорили больше всего о том, какой должна быть эта книга, над которой все работали, — «Кабардинский фольклор». Я помнила всех: Тута Борукаев, Таусултан Шеретлоков, Пшикан Шекихачев, Сосруко Кожаев, Михаил Талпа и сам Жанхот, самый молодой и веселый. Иногда заходил Адам Дымов, — они вмести с Нурби Баговым открыли первую типографию и выпускали в Баксане первую кабардинскую газету «Адыгэ Макъ». Я помнила, как похудел, осунулся отец, когда в 35 году нелепо погиб Нурби, его учитель и друг, который уже много лет работал над этой книгой. Все они находили оставшихся известных сказителей и записывали за ними, регулярно выезжая в села, иногда – в самые далекие места республики. Собираясь у нас, они весело смеялись, шутили и спорили, молодые, задорные. Я любила наблюдать за ними, откладывая свои собственные дела. В эти минуты жизнь казалась мне праздничной и значительной. Вскоре отец принес новую книгу, еще пахнувшую типографской краской; на твердой обложке было выведено тесненными буквами «Кабардинский фольклор». Он был бледен, улыбался, а на глазах стояли слезы. Это был 1936 год.
Отец протестующе поднял руку, будто от чего-то защищался, но Жанхот перебил его: «Да-да, я знаю, на разговоры нет времени. Кроме того, меня не должны у тебя видеть. Его бумаги не могут у меня оставаться. Они скоро должны придти с обыском. Может быть, сразу же и заберут». И он положил перед отцом какие-то бумаги. Они молча курили и даже не прикоснулись к еде. Жанхот вскоре ушел. В ту ночь я не могла заснуть и слышала, как отец выходил курить на кухню, во двор, как глухо и напряженно звучали его шаги в темноте душной летней ночи. Раньше отец не спал ночами, когда писал, но с того дня он перестал спать вообще, осунулся и похудел. Однако лицо его как-то особенно светилось, и если бы я не знала этой изнуряющей тревоги, можно было сказать, что от него исходит умиротворенный свет. Самым невыносимым было молчание, которое повисало внезапно, порой среди разгара повседневной суеты, захлестывая нас мертвой пустотой, разъедая несокрушимую, как казалось, цельность нашего семейного мира. Мы ждали недолго: Жанхота арестовали через две недели, а пол — года спустя его семья получила свидетельство гибели в подвалах НКВД.
Я вспомнила и тот день, когда отец собрал оставленные Жанхотом бумаги, а мама, не переставая и не меняя интонации, его о чем-то просила. Отец молча, с угрюмым спокойствием положил их в старый портфель и, не сказав ни слова, вышел, забыв закрыть за собой дверь. Он вернулся поздно ночью оживленным, каким уже давно не был, и я услышала лишь одну фразу, брошенную им маме: «Готовь вещи». Мама проплакала всю ночь, а наутро заковала себя в броню немоты. Отец много работал, по-прежнему почти не ел и не спал, постоянно курил, но это было уже не подавленное ожидание, как перед арестом Жанхота. После гибели Жанхота почти все визиты к нам прекратились, и дом погрузился в странное оцепенение, оживляемое только капризами младшего братишки и нашими спорами. Вскоре пришла повестка на фронт. Было так нелепо представить отца с автоматом в руках: ведь он уходил из дома, когда резали кур, и мама всегда обращалась с этой просьбой к соседям. Он не успокоился, пока не купил нам по мешку фасоли и муки, я помню его теплые губы на моей щеке.
Эта запись была вклеена и предшествовала другим, сделанным ранее.
***
Мы получили два письма, затем — бесконечное молчание. Нам выбили окна, а на стекла нет денег. Мама раздобыла картон, промаслила его вставила в раму. Всю зиму спали в пальто и все-таки тряслись, спим по двое, тесно прижавшись друг к другу, так теплее. Мама попеременно ходит с нами за город за дровами, в лес, на Кизиловку. Лиуан колет дрова, а мама со мной или с Нальжан складывает дрова в сани. Мы чередуемся с сестрой, чтобы кому-то оставаться дома с маленьким Магой. На добывание дров уходит почти целый день, но мы даже двигаемся с трудом, не то что работать! Всему виной страшная слабость от недоедания. Еды почти никогда не бывает, и мы очень медленно жуем макуху ( так требует Дат), чтобы заглушить голод. Правда, Мага сразу все съедает и снова кричит от голода. Мама прибегла к одной уловке, которую, похоже, разгадала только я, но никому о ней не сказала: перед сном она сообщает нам, что поставила варить похлебку. Все успокаиваются, но засыпают, не дождавшись. Они не знают, что мама кипятит пустую воду, а потом плачет, когда ее никто не видит.
Пришел военком, к которому ходил отец перед фронтом. Он сухо сообщил нам, что отец попал в концлагерь. Все, кто живым сдался в плен –предатели, сказал он. Снова всплыло это слово: «репрессированные». С тех пор к нам перестали приходить даже родственники. Сама Дат запретила им. Она не поменялась, только неистовее и дольше стала молиться.
***
Левка подвязался к ребятам – подросткам носить самогон в воинскую часть, которая расположена в Прохладном. Самогон подпольно гонят какие-то городские женщины, военные обменивают его на одежду. Идти километров сорок. Мы не сказали об этом Дат, — ведь она верующая, не согласилась бы. Левка отдает кому-то одежду на стирку, за небольшую долю, затем несет ее в Терский район, в Муртазово. Это тоже километров пятьдесят. И там уже выменивает на пшеницу. Матери говорит, что на колхозных полях обменивает за фрукты или еще что-то. У него все время ноют ноги.
С лета до осени детей с 10 лет заставили работать на танкостроительном заводе – с начала лета до октября. А затем послали рыть окопы. Стоит сырая осень, мы – в протекающих калошах, мать каждый день с утра выкладывает сухую солому внутрь калош, но это не спасает, — ноги все время в воде. Перед сном разминаю онемевшие пальцы ног, и с них облезает кожа.
***
В середине зимы пришла какая-то толстая женщина с лоснящимся лицом и черными усами и сказала, что ей позволили у нас жить. «Кто позволил?» — спросила Нальжан. «А твое какое дело, маленькая стерва?» Нальжан вспыхнула и полезла драться. Жирная тетка отшвырнула её, как щенка, и не успела Дат на нее броситься, как та вытащила нож. «Если пикните, я вас всех порешу, одного за другим, так и знайте. И никто вам не поможет, отродья врага народа!» Я видела, как побелели лица старших и крепко стиснулись маленькие кулаки Маги. «Селитесь, только не трогайте моих детей», — сказала мама. Она как всегда держалась необыкновенно прямо и казалась спокойной. Вскоре пришел полупьяный сожитель этой женщины, и они заняли единственную теплую комнату в нашей квартире. Сестра нервничала и не могла успокоиться, не смотря на уговоры мамы. По вечерам они учиняли пьяные оргии и матерились. Однажды сестра, улучшив момент, привела милиционера, которому, как потом выяснилось, все подробно рассказала, поэтому он был настроен очень решительно. Тетка оказалась трусливее, чем мы ожидали: увидев нешуточную угрозу хромого старика-милиционера, она стала спешно собирать вещи. Он даже заставил заплатить матери, чтобы «возместить физический и моральный ущерб семье»… Жиличка стала божиться, что у них – ни копейки. Тогда старик стал угрожать обыском вещей, и деньги нашлись: Дат получила небольшую сумму. Наш ангел- хранитель не ушел до тех пор, пока толстуха не убралась вместе со своим вечно пьяным мужем. Мать горячо благодарила милиционера, называла нашим спасителем и заставила с нами пообедать. Жить стало веселее. Дат купила немного муки на полученные деньги, испекла лакумов и, помолившись, послала Нальжан их продавать. Перед мамиными лакумами невозможно устоять, поэтому у «девочки с длинными косами» их стали охотно покупать. В теплое время Нальжан продает еще и воду – по 1 коп. за стакан. За вырученные деньги мама снова покупает немного муки. Так и сводим концы с концами.
***
Осенью мальчишки обносили городские сады. С ними был Левка. После одного предупредительного выстрела сторожа стреляли на поражение. Несколько подростков в нашей округе были убиты. Мама ругала, просила и плакала, но голод был сильнее. Почти все добытое он приносил домой. Однажды мы с Магой оказались дома одни. Ватага ребят, забежавшая за Лиуаном, решила забрать младшего, не смотря на мои протесты. Я крепко держала Магу, но он оказался очень сильным: вырвался и побежал за старшими. Я пустилась следом на большом расстоянии, чтобы меня не заметили и не отправили домой. Наконец мы крадучись вбежали в сад.
Тяжелые янтарные плоды горели в первых утренних лучах, оттеняли зеленую еще листву. Мальчишки молниеносно обдирали их, кидали в мешки. Я стояла за деревом и наблюдала за братишкой, озираясь кругом, чувствуя, как сердце колотиться у самого горла. Внезапно раздался выстрел, и вся ватага рванулась к краю сада, мелькая между деревьями. Последним бежал Мага. Громадный детина в два прыжка догнал его, сгреб в охапку. Малыш отчаянно колотил его ногами и кусался. «Ах ты, гаденыш!» — взревел громила и схватил брата за ухо. Тем временем подошли еще два охранника. «Проси пощады!»- гаркнул один из них. Мага молчал. «Проси!» — «Не буду!» Двое подоспевших задрали на Маге рубашку, третий содрал с себя ремень и с силой ударил по его спине. «Проси пощады, щенок!» Только ремень свистел, и я сквозь слезы видела худенькую красную спину. «Ну закричи, пожалуйста, закричи!»- шептала я, больно кусая губы. Во мне поднялась горячая волна, в глазах потемнело, и я выскочила из-за дерева. «Отпустите его, сволочи, отпустите!» — кричала я чужим голосом и повисла на волосатой красной руке громилы. Мужчины оторопели, а тот, что с ремнем, ослабил хватку. Брат откатился, с трудом поднялся на ноги: «Бежим!» Мы взялись за руки и побежали. Сторожа остались на месте. Только после того, как миновали сад, мы пошли пешком. Мага еле передвигался. «Я тебя понесу»,- сказала я. «Нет», — жестко ответил он. «Господи, как он сейчас похож на отца!»- подумала я. Навстречу шла маленькая старушка: «Что это ты, сынок?» И увидев кровавые следы на спине, покачала головой: «А ты сопельками помажь, сопельками, так оно быстрее заживет!» «Матери – ни слова!»- сказал Мага перед домом. Я молча кивнула. Маме потребовался только один взгляд на фигурку, неподвижно лежащую на животе. «Покажи спину!»-скомандовала она. «Не покажу». Она содрала одеяло и кровавую рубашку. «Кто это сделал?» Мага молчал. Мать повторила вопрос. «Спроси у сестры», — сказал он и отвернулся. И тогда я ей всё рассказала. Она побледнела, замкнулась и стала обрабатывать раны. Лиуан пришел только вечером. «Твоего брата избивают, а ты и не знаешь про это!» — сказала ему Дат с вызовом. Наутро Левка собрал группу крепких ребят-подростков, я издали указала им на сторожей. Ночью их связали спящими и принялись сечь ремнями – до тех пор, пока они не попросили пощады.
***
Я перебирала очередной раз семейные фотографии. На обратной стороне одного из последних снимков только сейчас обратила внимание на какую – то странную надпись. Я спросила у Дат, она улыбнулась и сказала: «У твоего отца были свои причуды. Он верил, что однажды все люди смогут общаться на одном языке, который уже изобрели, чтобы понимать друг друга. Он говорил,чтоэто – язык будущего, придет время, и закончатся все разхногласия. Он и называется как – то странно, — эсперанто, что ли. Он изучал этот язык. И подписал мне свою фотографию, — так, чтобы никто не прочитал».
-А как же ты?
-А я запомнила.
И тут мать заплакала. Ее слезы – такая же редкость, как дождь в пустыне. «Почему ты плачешь?»
-Какой же он был доверчивый и наивный! Не зря его Аллах забрал: он не смог бы жить в этом мире! – воскликнула мать. – Не то, что прекратить разногласия между чужими, — не избежать даже предательства близких друзей! Он душу готов был отдать за свой народ, за каждого человека, а его послали на смерть. Сознательно это сделали. Не чужие послали – «друзья»!
За год мы все повзрослели и понимаем гораздо больше, чем кажется. При всей нашей общности мы становимся разными и порой бурно растекаемся в разные стороны. Но мама сдерживает нашу неуправляемую стихию спокойными крепкими руками, придает ей необходимую форму и направляет в нужное русло.
Я любила наблюдать, как отец играл в шахматы. Он воспринимал игру всерьез, очень нервничал, а когда начинал проигрывать, то не выдерживал, неожиданно смешивал все фигуры и заявлял, как ребенок: «Начинаем сначала!»
Вспомнила другой случай, когда мама купила отцу хороший твидовый отрез на костюм, заплатив хорошую сумму: «Не выдержала и взяла из денег, отложенных на питание: у тебя ни одного приличного костюма!» На следующий день к нам пришел Бетал Куашев с новыми стихами. Они сидели за столом и отец просматривал стихи в объемной папке.
-А где тот отрез, который ты купила Беталу? — сказал он матери.
Мама молча вынесла отрез и протянула его гостю: «Пусть господь дарует тебе вместе с ним здоровье и успех!»
Мама, такая кроткая и немногословная, сильнее всей нашей взрывной ядерной четверки, и даже если бы вернулся отец…
***
12 ноября 1942 года пришла повестка, что отец погиб в Бобруйском концлагере.
***
Пять лет с нами нет тебя. Кончилась война. Я тоже была во власти
праздничной эйфории. Но для меня что-то навсегда закончилось, безвозвратно ушло, будто ты унес с собой все цветные краски.
Я ищу тебя повсюду: в каждом новом восходе, в первом весеннем цветке, в молодой улыбке, напоенной будущим, во всем гордом, сильном и смелом. Я ищу и нахожу тебя в своих снах, в каждой строке твоих живых стихов, в мимолетном тепле ладоней твоих немногих живых друзей, которыми они молчаливо касаются моих волос. Я нахожу тебя на самой последней глубине – в сердце моего сердца.
***
Я закончила учебу в МГУ, вернулась домой. Чудесная неповторимая эпоха — позади. Моя взбесившаяся бардовая ручка, мгновенно истекающая синей кровью: лекции Ф., П., и Р., которые я почти стенографировала без особой надобности, так как впитывала их сразу же, как губка. Наши споры на семинарах, сияющие физиономии и слезы на экзаменах. Длинные уютные коридоры с живыми цветами. Улыбчивые лица девушек в белоснежных передниках и колпаках, катящие бесшумные тележки по ковровым дорожкам ровно в семь вечера: бесплатный горячий чай и теплые еще пирожки. Огромные просторные лифты красного дерева с подвесным телефоном по центру, тоже бесплатным, на которых вечно кто-то висел, катясь вверх и вниз по бесконечной вертикали. Ежедневные встречи в шумных столовках, меню с устойчиво низкой ценой даже на черную икру. Горы бесплатного хлеба и чая: счастье для хронических мотов, что после грандиозной пирушки в течение последующего месяца могли давиться хлебом с горчицей, но которым никогда не грозила голодная смерть. Воплощенный коммунизм. Я оставила свою родину: огромное, в голубой подсветке, нереально прекрасное ГЗ в окружение величественных черных силуэтов многоэтажек, уносящихся в московское ночное небо. Особый разряженный воздух, сотканный из стремительных атомов свободных душ. Здесь, под гулкими летящими сводами потолков распрямлялась и обрастала крыльями моя душа. Мои застаревшие паронояльные сны о прекрасной жизни в просторных дворцах, залитых светом, которые простираются в детство, и, кажется, в жизнь до моего зачатия, здесь обрели реальность. Я уверена, что проживала в них в прежних существованиях, среди благоухающих парков с мрамором бассейнов, с синей морской водой в золотых прозрачных бликах солнца: суссальное золото, вкрапленное в бирюзу. В каждой строчке текстов, оставшихся от жизни белоснежных мраморных дворцов Средиземноморья, что выбелены горячим солнцем, как величественные скелеты поверженных царственных династий, где — то на руинах античного храма одного из островов Эгейского моря, и на прекрасной греческой амфоре в недоступных морских глубинах осталась жить моя сияющая анаграмма. Времена стекаются в храмы, заполняя храмовое пространство, теснятся под стрельчатыми арками, готическими сводами и смыкаются где – то под куполом. В храмах, уносящихся в небо, концентрируется мировой дух, именно здесь начинаешь скользить по ребристым спиралям вглубь времени, свернувшегося улиткой, и перед мысленным взором предстает величественная башня Александрийской библиотеки, парящая над древними египетскими облаками, — она полыхает пожаром над самым берегом моря. Потерянные труды Аристотеля и Платона, целый зал сгоревших томов Гомера. Кажется, я все это видела. Видела гречанку – Клеопатру, объятую ужасом и позже восстановившую 260 тысяч книг. Адыгская царица Египта Хаджепсуд, что жила до нее, — тоже была отчасти мной. Все это повторяется в разных вариантах в разные времена, на каждой из бесчисленных спиралей улитки. Поэтому, впервые увидев ГЗ, я тотчас узнала его.
Я продолжаю жить и работать, свернувшись внутри себя под натиском непривычно низких потолков и тесных помещений. Но настоящая жизнь как будто где — то затаилась. Настоящей жизни нет, я слышу только слова: слова – назидания, слова – формулы, слова бытовой текучки, слова – лозунги. Чаще всего – слова лозунги. Я теряюсь в них. Они так часто и произвольно повторяются, что их больше не слышишь и не понимаешь. Силу и смысл придает только мое чувство, расцветающее чувство.
Мне всегда нужен был ясный смысл каждого слова, — не восхождение к понятию, которое стоит за современным словом, а его первичный смысл, чтобы самой выстроить понятие. В какой — то момент я, кажется, поняла: нужно только вдуматься. К примеру, я долгое время не понимала до конца слово преданный. Тогда я расчленила его на составляющие и вдумалась в них: это данный передо мной, данный до меня. Не при-данный, (в смысле приданного мне), не под — данный (стоящий подо мной, т. е. зависимый от меня). Здесь точка отсчета смещается, поскольку речь идет о ком-то, кто поставлен еще до тебя, а потому отсчет от него, от пре-данного; он, как первичная идея, которую я воплощаю своим существованием. ( Но это же — настоящий Платон!) Он же, преданный, определяет меня и мою жизнь. Но в таком случае это совсем не тот современный смысл, который вкладывается в него.
Жизни нет, она прячется за неверными словами. Смысла нет, одни разговоры. Они не отражают того, что есть, в лучшем случае придают только бледную форму, а зачастую вообще уводят в сторону. Так называемое содержание остается субстанцией совершенно особенной, неозначенной, и слова к ней не имеют никакого отношения. То, что есть во мне — это целый мир. Он похож на море, огонь, небо, — так же безбрежен, неисчерпаем, неопределим. Он – суть движение, поэтому меняется каждую секунду. В нем живет некий дух, своеобразный, неповторимый, как аромат. Он просачивается во взгляде, в жестах. Я поняла его особенность: он неопределим; стоит только заикнуться о нем, -и он улетает, как пугливая птица. Этот безмолвный дух — сердцевина любого феномена: сейчас я вижу освещенную закатом вершину именно вот этой горы – невыразимый момент! Кажется, в нем заключена красота всего мира, и я не знаю для этого слов, но проходит минута — и все меняется, и грандиозная картина навсегда уходит, потому что никогда не будет сочетания именно таких облаков, такого матово- интенсивного мерцания и еще чего-то неуловимого, что схватывает скорее мое подсознание. Этот молчаливый дух живет в придорожном камне, реке, цветке, дереве, — он столь же неистребим, как и уязвим. К нему можно только прислушаться, попытаться постичь — и только. Определить, выразить его – все равно, что набросить аркан на дикого жеребца: он с отвращением сбрасывает его и убегает.
Иногда мне кажется, что от нашей оголтелой болтовни сбежали все молчаливые духи, населявшие сердце планеты. Мы навсегда спугнули их, и теперь, чтобы заполнить пустоту, мы её безнадежно заполняем словами, за которыми ничего не стоит, какой-то бездушный мусор, цветистые фантики съеденных конфет, искореженные заезженные фразы пустых тел. Мы выворачиваем себя наизнанку, чтобы выявить, выяснить, определить. И кончается это, как правило, грустно, ибо мы целый мир заключаем в схему, целое море сковываем удобной плотинкой и заставляем её освещать только одну узкую грань. А нужно было сначала учиться двум вещам: видеть и слушать.
***
Нас вызвали в Москву: В ЦДЛ отмечали 50- летие отца. Поехала только я. Во время торжественной части старалась сдержать слезы и не могла: запоздалая слава, позднее признание – все это слишком поздно, потому что отца уже нет. Я думала о том, что на родине, в Кабарде, о юбилее только объявили в прессе и по радио, но не отмечали, — мы посидели в тесном семейном кругу с несколькими оставшимися в живых близкими друзьями отца. Кажется, это уже становится печальной традицией: прежде чем официально признать талант, нужно дождаться признания со стороны, чаще всего, из центра.
***
Я искала и нашла противоядие против многого, но по сегодняшний день остаюсь маленьким незащищенным ребенком перед вежливым равнодушием. Со всем можно что-то поделать, кроме как только с тем, чего нет. Что бы я ни делала: ни любила, ни доказывала, ни сопротивлялась, на меня с чуждого холодного пространства устремлены пустые глаза за пустыми стеклами очков. Они чаще всего улыбаются и даже льстят, то есть делают жалкие попытки замаскировать пустоту и выдать её за какую-то видимость жизни. Но ребенка, смертельно боящегося пустоты, ничто обмануть не может: ведь только в таких глазах находишь подтверждение самой страшной мысли юности: о нелепости и бессмысленности существования. Мне кажется, такие люди терпят других, потому что им недостает решимости и желания убить.
Думаю, всему причиной — моя близорукость: по её вине, а точнее, благодаря ей мне дан внутренний ТРЕТИЙ ГЛАЗ, который позволяет видеть СТЕРИОСКРПИЧЕСКИЙ АБРИС, который сам по себе еще не суть предмета, но хотя бы хрупкая попытка приблизиться к ней. Я вижу предметы не с одним и даже не с двойным дном, — они вовсе без дна, ибо их текучая сущность постоянно струится из одного в другое. Все предметы – это бесчисленное множество взаимно сообщающихся сосудов, которым только дана обманчивая оболочка формы. И тот, для кого она не является прозрачной, — обманут. Для меня, как для пчелки – сластены, сущность – это мед. Но эта круговерть сущности, перетекающей сквозь предметы, бесконечно циркулирующей по бесчисленным формам, пространствам и временам, — не бессмыслица ли это? Не надоевшая ли игра праздно скучающих богов, которой они сами себя развлекают?
Не представляю, сколько бы я могла сделать – кажется, саму Вселенную плясать удж (адыгский парный народный танец – М. Х), если бы ни это темное существо, копошащееся на самом дне каждой мысли, каждого действия. После шока от первого осознания смерти и пустоты, оно выкатилось из детских сказок ( «Что сон, что ни сон – все равно» ) и из пустых глаз равнодушных и навсегда поселилось в моей груди. Иногда маленькое существо просыпается и начинает потешаться надо мной. Порой этот вечный аноним разрастается и искушает меня день за днем, отравляет сомнением. Ненавижу его ухмыляющиеся циничные морды химерического Протея, который выныривает в местах неожиданных, скалясь и дразня, сверкает багровым глумливым зрачком на доброжелательных физиономиях моих улыбчивых недругов. Именно ему я каждый час вынуждена доказывать целесообразность собственного, пусть временного пребывания на ограниченном земном пространстве.
***
Эта мешанина внутри меня медленно вызревала бесконечными бессонными ночами и наливалась горьким соком предчувствий и сомнений, а день только подтверждал их весомую явь; теперь она переполняла меня, обретя свинцовую плотность, и больно распирала грудь.
Наконец вечером я решилась. Мама стояла у плиты спиной ко мне: «Дат, ты помнишь те бумаги, которые принес Жанхот отцу перед своей гибелью? Где они?» Я видела, как напряглась спина матери, но она ответила обычным тоном, не оборачиваясь: «Я не помню никаких бумаг». – «Они должны были остаться, я хорошо помню, как их принес Жанхот, а после его гибели отец, не слушая тебя, поднялся к военкому, который тогда еще жил в нашем подъезде… А когда он от него вернулся, я слышала, как он сказал тебе тем же вечером «собирай вещи», и ему действительно вскоре пришла повестка на фронт». Я видела, что мой напор и уверенность не оставили ей выбора; я предчувствовала возможное сопротивление матери, и эта тактика была отнюдь неслучайной: я проигрывала её в разных вариантах, и теперь видела, что не ошиблась. Мать не торопилась с ответом, она энергично размешивала пасту в чугунке.
— Наверное, отец увез их с собой на фронт.
– Мама, но это же неправда. Зачем они ему были нужны на фронте?
Тут она наконец обернулась, — лицо было бледнее, чем обычно, но в нем чувствовалась спокойная решимость, а потемневшие глаза были непроницаемы: «Что ты от меня хочешь?»
— Бумаги Жанхота Алоева, которые он передал отцу.
-Зачем они тебе понадобились вдруг?
-Мама, ты ведь знаешь что-то и молчишь. Почему ты мне не доверяешь? Почему?
Она по-прежнему молчала, опустив глаза. Её молчаливая непреклонность –то, что меня всегда так злит и восхищает.
-Эти бумаги, — продолжала я, видя, что она не заговорит, — я уверена, что они многое объяснят: почему забрали и убили Жанхота, почему отец показал их военкому и вскоре получил повестку, хотя я хорошо знаю, что у него на руках была бронь. А потом он был объявлен врагом народа, а мы оказались репрессированными. Дат, это объяснило бы всю нашу жизнь, весь этот ужас, который мы пережили!
-Вряд ли тут помогут какие-то бумажки, детка, — сказала мать устало, — даже самые великие бумажки никогда не объяснят ужаса жизни.
–Пожалуйста, покажи их мне!
— Ты очень упрямая.
–Где они находятся?
— Я не могу сказать.
– Почему?
— Мне запретил твой отец. Я не могу нарушить его последнюю просьбу.
-Тогда скажи хотя бы, откуда эти бумаги?
-Их привез из Турции учитель и друг твоего отца, Нурби Багов. После того, как к власти пришли младотурки, отношение к адыгам там поменялось: им стали разрешать многое из того, что раньше было под запретом, в том числе посещать библиотеки и архивы. Нурби долго работал в архивах, успел кое — что переписать. Но позже, когда пришли кемалисты, архивы уничтожили, закрыли школы, запретили говорить на любых языках, кроме турецкого. Запретили даже играть на народных инструментах. После возвращения на родину, Нурби стали преследовать как проживавшего за границей, и он вынужден был скрыть архивные материалы. Он передал их не
отцу, которого бы сразу заподозрили, а самому младшему, почти мальчику, – Жанхоту. Это все.
Мать замолчала. Я поняла, что продолжать было бессмысленно, но она внезапно заговорила: «Тогда твой отец перестал есть и спать. Все только курил и молчал, ночи напролет сидел за столом- писал или просто ходил по квартире или двору, и вскоре стал походить на свою тень. Я уже не знала, что делать, как однажды он сказал: я пойду к нему, к Калмыкову. Я стала плакать, чтобы он этого не делал, ведь по его распоряжению забрали Жанхота. По его же распоряжению должны были забрать твоего отца. «Я должен пойти первым», — сказал он». Да, только так и мог поступить отец, думала я, только так и мог. Я снова видела его черные –черные пронзительные глаза, в которых я прочитывала все, до последней мысли, до последнего зигзага любого чувства, и все-таки , как бы хорошо я его не знала, он был непредсказуем. Мне кажется, что действительность открывалась ему, кроме того, как она являлась взгляду, еще массой других, непостижимых сторон и граней. Такое невозможно никому объяснить, если только другой не такой же, как ты, как не может объяснить собака, как это, обонять разом 500 оттенков запахов и выбрать среди них нужный, или как не может объяснить насекомое или летучая мышь, что значит чувствовать ультразвуковые частоты, или любое животное, — безошибочно предчувствовать землетрясение. И все- таки, он был почти предсказуем для Нальжан, — не зря она так на него похожа. И если он оставил во мне свой дух, то в ней — свою кровь, слишком алую, слишком горячую для этого холодного, аморфного мира.
«Он не стал одевать свой лучший костюм, — продолжала мать, — оделся как обычно, буднично. Ничего не поел и молча вышел. Калмыков его удивил: принял без очереди, вышел навстречу и пожал руку. Твой отец в кабинете сразу и сказал: «Я пришел спросить, что вы от меня хотите: за мной повсюду следят, как за преступником, ко мне приходят с предупреждением об обыске, как к преступнику. Я спросил одного из них, какие за мной грехи, кроме честного труда, но мне не ответили. Может быть, вы мне скажете?» Калмыков захохотал, как сумасшедший, а потом сказал очень серьезно: «Поверь, я горжусь, что среди адыгов есть такой человек и поэт, как ты. И пока я буду жив, — никому не позволю причинить тебе зло. А помочь всегда рад. Приходи всегда, когда тебе нужно». Рассказывая мне о своем визите, твой отец не сомневался в правдивости того, что ему было сказано. Он был доверчив, как ребенок.
«Как же случилось, что главный подписал бумагу, чтобы посадили Жанхота?»- спросила я.
Он нахмурился и вышел из комнаты. Я не поверила, потому что погибли почти все литераторы и писатели республики, но сказанное Калмыковым все-таки оказалось правдой, и пока он был жив, твоего отца не трогали. Я думаю, потому, что для республики нужно было сохранить
хотя бы одного настоящего поэта. И только после ареста и гибели самого Калмыкова нашли способ от него избавиться».
–А бумаги?
-Это и был предлог, они просто использовали удобный случай. Бумаги ничего не объясняют, но сами обладают дьявольской силой. Кто знает, что бы случилось со мной, будь я грамотной. Но Аллах оградил меня своей милостью: я знаю, что в них, но не смогу прочесть ни строчки.
Бедная мама! В течение всей недели я усыпляла её бдительность, — ни разу не упомянула о бумагах. «Дьявольские бумажки!» Такое определение могло испугать кого угодно, но не меня. Мое безумие (я сама это хорошо осознавала) зашло слишком далеко. Уже не я, а оно вело меня, и едва мать на несколько дней уехала в Баксан для весенних работ, как я сказала себе: пора, и тотчас приступила к поискам… Синюю папку я обнаружила на дне сундука и раскрыла её…
Едва переступив порог дома, мать сразу все поняла. Даже не глядя на меня, — не знаю как.
-Ты все-таки нашла бумаги, — сказала она и тихо опустилась на стул.
-Как вы могли молчать об этом! – крикнула я, уже не сдерживая слез. Пока я плакала, она сидела тихо, не шевелясь. Я только повторяла «как вы могли!» и когда я перестала, мать сказала:
-Есть правда, которая испепеляет сердца. Если убили твоего отца или брата, можно найти убийцу. Если уничтожили род – можно найти убийц и отомстить им. И даже если уничтожили племя, можно найти виновных и наказать. Но если уничтожен почти весь народ – где найти врага? Он становится невидим. И горе тому, кто сделает врагом другой народ или целый мир. Такие превращаются в одержимых безумцев.
– Но если скрывать правду, как скрывали от нас, она не будет известна, то война может повториться завтра, и повторяться каждый раз!
— Это так. Но к правде надо быть готовым. Вас не готовили к правде, в
нашей жизни так поставлено, что о ней нигде никогда даже не упоминают. Как же мы можем сказать о ней нашим детям, -она может разорвать их сердца.
Неужели и вправду, детка, ты можешь думать, что эту правду никогда не узнают? Не вы, так другие, не в этом столетии, так в следующем. Жизнь длинная. Какая разница, в шестом или девятом колене будет увидена истина, перед кем из потомков время откинет непроницаемый полог и обнажит трагическое и смешное, великое и убогое в череде поколений, и блеснет в нескончаемой людской реке вездесущий прекрасный лик Тха (верховное божество в адыгском языческом пантеоне – М. Х. ) Важно, что она будет увидена ЕГО глазами, записана ЕГО рукой, первым зачинателем рода и самого народа, при тленности своей божественно бессмертного, ибо отпрыски, — народ его – это воплотившиеся во множестве глаза, уши, руки и сердце первого человека, — слепок рук и творение самого Всевышнего.
Ты видела, как через асфальт пробивается трава? Сколько бы он не закрывал, ни душил её, а она все равно пробивает его, потому что трава сильнее, — ведь она живая. Живое всегда сильнее мертвого. Живая правда всегда будет услышана, рано или поздно, какой бы она ни была.
Но кровь умерших всегда взывает к живым, и она может сжигать их бесплодным огнем. Сердце женщины – бездонный колодец, она прячет свою боль на самую глубину и живет с ней до смерти. Сердце мужчины – сухая степь: пройдет огненный смерч и превратит её в выжженную пустыню. Поэтому твои братья не должны ничего знать. Обещай мне!»
Я молчала. Мать твердо и требовательно повторила: «Обещай мне!» И я кивнула.
-Нальжан тоже не должна знать, — у нее ребенок. Обещай, что не скажешь ей!.. Обещай!
-Обещаю!.. Но как же все остальные? Ведь все живут так, будто ничего не произошло, живут, как во сне! Все довольны и даже счастливы! Как это возможно?
— Это — беспамятные. Они восстали из ящериц и саламандр. У них очень долго была жизнь пресмыкающихся, в течение которой они все забыли. Не их вина. Им не дано знать.
И она рассказала мне эту притчу.
ПРИТЧА
«Плачет Рахиль по детям своим и не может утешиться,
Ибо нет их»
Собрал однажды творец вездесущий подвластных богов на священной горе и провозгласил: «Бессмертные! Отныне от вас пойдут и нарекутся народы. Найдите имя им!» Молодой черноволосый бог Тха смотрел на розовеющее рассветное небо. «Ау, Дыгъэ!»- воскликнул он на своем странном гортанном языке при виде солнца. «Что ж, пусть его народ зовется адыге, дети солнца», — решили боги.
И пошли от богов народы, которые нареклись разными именами. Но грешной оказалась жизнь смертных, и Всевышний наслал на них потоп. Среди всех спаслись только праведные в Ноевом ковчеге. Не стало суши, и на 40 дней мир поглотили воды. Чтобы найти землю, дважды выпускали они белую птицу, во второй раз прилетела она с зеленой веточкой мирры, а на третий раз не вернулась, найдя сухое прибежище, и дети Тха, что были среди праведных, назвали её божьей птицей, тхаруко (с каб. – голубь – М.Х.). Отхлынули воды, и обнажилась твердь обновленной земли, что оказалась горой Эрцаху, где и по сей день стоит остов ковчега. И даровал Господь адыгам цветущие земли Черного моря и Меотиды с горами, предгорьями, плодоносными равнинами и полноводными быстрыми реками, и цветущие земли Западной Анатолии, северной и центральной Малой Азии, и благословил их на земле своей. Завоеватели, смешавшись с хаттами, образовали великое Хеттское царство с главным городом Хаттусасом, которому покровительствовала воинственная богиня Инара, что дала начало адыгскому роду, здравствующему и поныне. Адыгское племя каски получило имя свое от хаттского бога луны — Кашки. Те, что расселились по берегам Меотиды, стали зваться меотами.
И во временах, опрокинутых в небеса, на дне текучих вод и глубинах земли запечатлелись смутные кольца, в которых была воздвигнута и обращена в руины роскошная страна Синдика, процветавшая на морском берегу, созданы и забыты письмена, напоминающие таинственные греческие иероглифы, возведены на трон и уничтожены царские династии Спартокидов, которые сотни лет правили на море. Древнее адыгское племя — ахейцы — граничило с городом Троей, и однажды между ними вспыхнуло пламя войны, названной Троянской. Во времена благословенные на морском берегу зародился и расцвел роскошный цветок Боспорского царства. Всесильное время сокрушало старые и возводило новые полисы. Так возникли города Горгиппия и Фанагория; последняя была наполовину затоплена водой, и стала называться Атлантидой. Наземная часть, что осталась на Таманском полуострове, называлась Керчью. Другие великие города процветали на землях адыгов: Балаклава и Солгат, Матрега, Лимен и Тана. В Себастополисе проживали родственные племена абхазы. Они добывали рыбу, закидывая конопляные сети, и на своих маленьких, выдолбленных из дерева каюках заплывали далеко в море, глушили баграми дельфинов и вытапливали драгоценный дельфиний жир, что продавали греческим и турецким купцам. Легкие абхазские и адыгские камарики, скроенные без единого гвоздя, несли на носу изображение священного козла, дарящего удачу и победу в морских схватках. Они были легки и быстроходны, и их можно было быстро скрыть в густых зарослях прибрежных лесов. А шапсуги, жившие у моря, переправлялись через глубокие реки Шахе и Аше на высоких деревянных ходулях. И покровительствовал прибрежным племенам адыгов Кодес, что удерживал морские воды в берегах, а в стране души Апсны (Абхазии – М. Х.) — всесильный Хайт, имеющий силу самого океана, что царствовал в своем роскошном подводном дворце, и прислуживали ему 12 мальчиков – утопленников.
Мужчины их были великие воины и входили во все воинства мира, и, оказавшись в Египте, свергли царствующих правителей, воцарились на престоле и правили страной 150 лет. То были 23 мамлюкских султана, от первого, Захир Сайф ад-дин Баркука, до последнего, — Ашрафа Туманбея, что сам побил треть вражеского войска и пал жертвой заговора. Его трагическая величественная гибель снискала ему славу и имя могучего льва, Аслана. И стал Египет зрачком мира, что простирал свой взор и власть на великие земли Палестины и Сирии, Киликии и Ливана, Судана и Ливии. Его владения простирались на Хиджас и Йемен, Судан и Эритрею, Кипр и Сомали, а также туркменские государства Зулгадыр и Караманидов. В те времена был создан великий флот, что владел четырьмя морями: Средиземным, Черным, Эгейским и Красным, и подходил к берегам Индии.
Кабардинская княжна из рода Идаровых была отдана в жены московскому царю и была крещена Марией, а брат её, на Руси названный Михаилом, по велению царя организовал жестокое воинство — опричнину. И пошла от них династия князей, прозванных Черкасскими. Из них Дмитрий Мамстрюкович и Иван Борисович подняли на престол низвергнутый русский трон Романовых после смутных времен. Яков Кудинетович Черкасский, великий полководец при царе Алексее Михайловиче, вел русские войска в войнах с Речью Посполитой. Великий князь Михайло Алегукович заслужил небывалый чин генералиссимуса и вершил великие дела в Русском царстве. Первую карту Каспийского моря составил пресветлый князь Петра 1 Александр Бекович — Черкасский, но погиб в бою, а царь его, Петр 1, предоставив карту возлюбленного князя своего, был избран почетным членом Французской Академии. Великим канцлером России и главой русского правительства стал Алексей Михайлович Черкасский. Трудами и разумением своим укрепляли они мир не только на земле черкесской, но и Русской, Северо-Кавказской, Грузинской, а также в пределах Калмыцкого ханства.
Множилась и росла мощь и сила их, ибо были они любимы создателем. Умножались по его воле люди родов, чтобы походить на своего создателя. Но иные, приблизившись к божественному совершенству, получали вместо милости гнев господний. Такие чаще всего оставались бездетными и обделенными судьбой, будто редкие избранники, достигшие в своем совершенстве небесных высот и дерзнувшие встать вровень с ними, лишались своего продолжения во времени. Или, достигнув предела, были остановлены невидимой чертой. Ибо умножение рода – это только бесконечная попытка достичь совершенства, но не пребывание в нем, и человеческий род – это только колесо божественной колесницы, а не стрела, достигающая солнца.
Это был странный народ, который больше жизни любил свободу, и народ походил на своего создателя. И зачинал Всевышний детей своих в солнечном лоне горячей любви, и были они истинными детьми солнца; их огненные души и сердца помещал он в надежные сосуды крепких тел и молчаливых уст. Младшие боги, горячо любя народ свой, принимали человеческий облик и заходили в дома, как гости. Прознали про эту хитрость люди, и встречали каждого гостя, как бога своего, и первого мужчину, что заходил в первый день после нового года, почитали Созарешем, и в честь него ставили грушевую ветку или ветку боярышника с семью сучьями, и зажигали на них свечи.
Но другие боги невзлюбили Тха за независимость и гордость. Особенно негодовал могущественный бог Севера Гог. «Он ни во что не ставит богов! -гремел он. — Предпочитает им солнце и свой смертный народ!» Разгневались боги и приковали Тха к скале. Из стекающей на землю крови прикованного бога появились редкие цветы – кавказские крокусы шафранового цвета, что спасали от огня. Так был спасен Медеей Ясон, когда натерся соком крокусов, чтобы устоять перед пламенем огнедышащих медноногих быков Ээта, подаренных Гефестом. В порыве ревности и гнева послал Гог многочисленный народ свой Магог уничтожить народ бога Тха, чтобы овладеть великими землями их, с морями, реками и озерами, обширными пашнями и тучными стадами, и бесчисленными табунами редких лошадей, цветущими садами и виноградниками, и прекрасными женами их, что во все времена были в центре вожделеющего зрачка. Но нелегко оказалось одолеть детей Тха, ибо то были великие воины.
Тогда прознали Гог и Магог, что сила народа — в могучем дубе, который почитается священным в священной роще. Ее охранял Мазитха, о котором сложили песню:
Тебя именуем Тха лесов. Усы твои – червонное пламя.
Тебе в молениях возливаем щедро кровь – питье красное.
Зарезан в дар – жертву тучный белый козел, угодный тебе.
Перед тобой молодая жена неплодная на коленях долго стоит.
Белорукий – ты знаешь все.
Могучий – ты низко клонишь вершины дубов.
Одежда твоя – шкура тучного тура.
Ложе твое – место тела слона.
Чистым серебром оправлены рога твои.
Стрела – сердцевина красного кизила ядреного.
Лук у Мазитхи из ореха — белого дерева,
Головою тряхнешь – по лесу шум идет.
Тогда зверь – о, горе, — в норе содрогается.
Бог леса ездил на кабане с золотой щетиной, и посылал самок оленей и лосей на опушки леса, и девушки доили их.
К дубу приходили страждущие с самыми заветными желаниями, ибо суетные и незначимые дуб не принимал. Желания и надежды горели разноцветными лентами и лоскутами на ветвях дерева. А у корней на алтаре мужчины приносили жертвы богу своему. Чем больше проливалась кровь человеческая, тем обильнее лилась жертвенная, и кора дуба постепенно из коричневой стала багровой, а лоскуты на ветвях пестрели все гуще.
Тогда решили враги уничтожить дуб. Они пришли с топорами, но не успели занести их, как со всех сторон войско обступила стая волков с холодным блеском в глазах. Люди оборонялись топорами, но волки прибывали, а наутро нашли растерзанные человеческие тела. Тогда Магог решил сжечь священную рощу с дубом, чтобы не водилась там смертоносная лесная тварь. В самый засушливый день подожгли сухой валежник, но раздался гул в небесах, набежали облака, и небывалый ливень загасил первые языки пламени. Тогда враги взяли ружья и принялись убивать лесных животных. Однако поднялся ветер, ветви деревьев гнулись и хлестали их лица, а древесные лианы обвивали и опутывали руки и ноги. Люди целились в зверя, но попадали друг в друга. Так погибло большинство из врагов, а те, что остались, в ужасе бежали, и прокляли чужой священный лес и хранителя его, Мазитху.
Тогда явился сам Гог, Северный бог, и принялся рубить священный дуб под корень, но топор отскакивал и тупился. Рассвирепел Гог, и начал обрубать сучья, и кровь жертвенных животных, обильно питавшая дерево, брызнула на руки его, и на тело, и на лицо, заливая глаза. Ослепленный кровью Гог продолжал рубить, и разметал в разные стороны пышные ветви, увитые лоскутами надежды, лишил дерево кроны, и оставил стоять только голый ствол, истекающий кровью.
Прикованный к скале создатель перестал слышать народ свой. И стали выходить из берегов своих реки, переполненные кровью, и жизнь стала соседствовать со смертью так тесно, что граница, разделяющая их, отпечаталась на переносице мужчин, разделив её глубокой прямой складкой, так что один глаз созерцал жизнь, а другой — смерть, а потому в счастье и несчастье они научились видеть их тесное соседство, и смеялись над страданием и печалились в радости.
Глаз мужчин был точен и всевидящ в темноте, как при свете дня, подобно глазу горной рыси, а ухо обрело чуткость дикой серны. Они проникались презрением к любому страданию, так же, как к чувству, и умирали без стона. Одним из грехов почиталось излишество – в богатстве так же, как в еде, и так же, как смертоносны были для воина роскошь, нега и чревоугодие, грехом и настоящим проклятием была для него жирная плоть. «Еще не родилась та лошадь, что не околеет под тобой на ближнем переходе», — говорили толстяку.
От вечной готовности к бою их одежда приобрела вид, нужный для войны: на ремне – кинжал и нож, на груди – газыри, бесшумные ноговицы, плотно облегающие стопу, и бурка, которая спасала от воды и холода, служила постелью и невидимым укрытием. Рука их была тверда, как добываемая ими сталь, которую закаливали семь раз, окуная в масло черного буйвола, и к закалочной жидкости добавляли растение зыкъер (зыкер), что росло в горах и делало сталь крепче дамасской. Днем кинжал находился на поясе, а ночью – у изголовья. Оружие никогда не вынималось из рук, и скоро оно приросло к ним. Так душа адыга переместилась в оружие, а у матерей стали рождаться младенцы с кинжалом в руках. Скалистый, узкий лабиринт тысячелетних войн, через который они проходили, отшлифовал их, оставив лишь необходимое: сухое крепкое тело, сильные руки и ноги, ловкие и быстрые, как черкесские стрелы, строгие лица с лаконичными резкими чертами. Но еще сильнее стал их дух, который всегда подчинял тело и повелевал им, и так стала плоть одухотворенной.
И как благословенными испокон веков были сраженные молнией властителя небес Шибле, так благословенными были павшие в бою, ибо доблесть их была священным покрывалом, которая делала их тела нетленными, и над ними не совершали омовения. Один воин из рода Анзоровых был захоронен на поле битвы, но отправляя прах на землю отцов, извлекли тело через 40 дней, и увидели, что тлен не коснулся его. Поэтому, считали адыги, погибшие в сражении были любимцами создателя. Одна княгиня из темиргоевского рода сказала после смерти мужа, который умер пожилым в своей постели: «Из его кожи получился бы хороший курдюк».
Дороже жизни почитался для воина хороший конь, ибо был он осенен звездной рукой самого Невидимого. За него любой мог отдать дом свой, и стада, и пашни, и земли свои, ибо только конь мог спасти от пули, штыка и стрелы, только конь заменял в нескончаемых военных походах убитого друга, живое тепло четырехногого заменяло далекий дом, а умный взор служил безмолвным советом. Лучшие из лучших лошадей породы шолох были отмечены двойной тамгой, — одной от бога, другой — от дьявола, шутили бывалые всадники, ибо никто не мог объяснить соединения стольких достоинств в одном творении: божественной силы, выносливости, скорости, ума и преданности.
Всадник никогда не расставался с конем, и вскоре прирос к нему, образовав единое целое. «Щым и лъынтхуэр ц1ыхулъ ирожэ (в жилах коня течет человеческая кровь)», — говорили люди. Пролетая мимо пеших в сражениях, игрищах и набегах, или в дикой скачке молодого удальства, конь казался с головой и торсом человека, или всадник – с копытами и крупом коня. Греки, что испокон веков жили рядом с адыгами на золотых берегах Черного моря, назвали это существо Кентавром.
Так же, как с конем, черкес никогда не расставался с оружием. Ибо только мужчины могли отстоять два великих блага, которые даровал им господь: прекрасную землю и прекрасных женщин. Но, даровав, тем самым проклял, ибо земли и женщины их испокон веков были в центре вожделеющего зрачка.
Женщины унаследовали красоту земли: как бьющие из земли источники, глаза чисты и прозрачны, как земные недра, — черны и бездонны; так же, как земля щедро омывалась великими морями, реками, озерами и ручьями, так и прекрасные тела их омывались струями алой, горячей крови, в которой растворились морские, степные и горные ветры, наполняющие легкостью и резвостью. Волосы — темны и густы, как леса земли, и так же благоуханны, как цветы и травы. Женщины походили на крепкие плодоносные деревья с глубокими ветвистыми корнями, — они могли устоять в ураган, и гибкие тела гнулись, но не ломались, а корни уходили глубоко вниз, обильно оплетали сердце самой земли, образуя на нем имя Бога, подобно тому, как сосуды, оплетая человеческое сердце, складывают из себя имя Аллаха. И носили они нагрудники и пояс серебряные, ибо серебро залегало в недрах гор и предгорий, и также, как золото Востока, исцеляло от всякого недуга, а также нечистого мужского взгляда, что не должен был подниматься выше груди, — уязвимость их была столь же велика, как и сила чар. Ибо носила каждая в чреве своем тысячи звезд в двух сияющих сферах, что могли дать жизнь целому новому народу, и цвели они по обеим сторонам божественного лона, напоенного светом нестерпимого солнца, — колыбели бессмертия. Потому каждая почиталась и охранялась как будущая мать целого народа. Чем яростнее разгорался великий дух мужской любви, чем сильней становился бич неистребимого влечения, тем туже затягивался корсет на девичьем стане, тем тщательнее изживалось всякое чувство в себе, тем изощреннее насмехались над несчастным, который выказал тень еще не вытравленной любви. Все неистовее насаждался образ непорочной девы, лишенный всякого чувства, которая впоследствии должна была быть лишь надежной женой и хорошей матерью, не вселявшей безумную любовную лихорадку. Ибо это и была сама смерть. Опасная страсть делала тело влюбленного податливым и мягким, как воск, лишала воли и силы, так что руки и ноги отказывались повиноваться, голова горела огнем, а глаза казались дикими и блуждающими. Такие становились первыми жертвами в бою и на них уже при жизни смотрели как на мертвецов. Но неистребимый властный дух любви, изгнанный из женских телесных пределов, поселился внутри, растворился в каждом изгибе тела, в скупых движениях и словах, в кротких робких взглядах, в затаенном невыразимом очаровании плоскогрудых девственниц, стянутых корсетами, которые в знак великого молчаливого презрения к вечному обузданию женского приобрели неповторимую осанку богинь. Так что сама богиня любви, едва появившись, сразу же сбежала, так и оставшись безымянной. «У них даже есть богиня пчел и бог наездников! Но меня они не замечают, почитая богиней каждую смертную! И каждая же мнит себя богиней! Они предпочитают смертных, зная, что полюби меня кто-нибудь из них – и тот обретет бессмертие и вечную любовь!» — рыдала она подле бога Тха, мучимая ревностью. Великий бог молча гладил её роскошные волосы; сказать ему было нечего, ибо в каждую из дочерей своих он вкладывал столько любви и страсти, что они являлись свету непростительно прекрасными для смертных, и потому каждая способна была остаться в сердце мужчины вечным образом.
Чем больше зрела в мужчинах неизбывная тоска по любви и теплу, тем дальше уходили они от дома, тем больше согревало их оружие у изголовья жесткого, одинокого ложа. Чем больше они любили и привязывались к детям своим, тем больше сдерживались и отстранялись от них, и отдавали на воспитание аталыкам, потому что то были другие силки любви, и попасть в них значило погубить себя и свою семью. Ибо в непрерывных воинах погибали и похищались дети и жены их, но еще чаще – они сами, отцы, и потери эти могли стать концом каждого из оставшихся в живых. «Не люби! -приказывала жизнь со всех сторон и во все времена, — сопротивляйся чувству изо всех сил, ибо в нем заключается смерть твоя».
Но еще больше истреблялась любовь к себе. Малейшее проявление её – и быстрее пули и штыка врага такого убило бы всеобщее презрение и насмешки. Чем больше креп и расширялся дух мужчины, что требовал для себя жизни и пространства, тем больше замыкался он в себе. Чем больше разрасталась его сила и знание собственного величия, тем глубже погружалось оно на самое дно суровой души, и тайно охранялось там, тем больше смирения он выказывал, ибо мог быть только воином.
Они не звали детей своих истинными именами, и давали им множество других, чтобы ревнивые и злобные духи не похитили имя ребенка вместе с его жизнью. Они изобрели язык охотников, чтобы провести хранителя леса, Мазитху, что знал все языки 12 адыгских племен, и мог отвести разящую стрелу от жертвы. А на айтысах, (соревнования острословов во время праздников), что завязывались чаще на свадебных церемониях, употребляли хъуэрыбзэ (хорибзе), — язык влюбленных, понятный только двум. Звуки слов сами несли с себе силу тайного смысла, а потому заключались в единственно надежный сосуд – душу. Ибо слово, озвучиваясь, уносилось ветром в эфир и таяло, как первый снег. Каждый адыг верил сердцем своим лишь первозданной форме чистого смысла, безмолвно живущего внутри. Он не доверял её звуку и уж тем более – знаку. Сколько раз в тайных мучениях и радостном озарении рождались письменные знаки, но в прозорливом отвращении, внезапно узрев будущее, их создатели бросали труды свои в пылающие очаги. Перелить теплую живую плоть таинственного Смысла и отдать бездушным знакам, — не означало ли это уничтожить его? И снова тайное заключалось только в душе народа.
Но находились те, что видели рождение нового смысла, когда он просачивался на радужке глаза, возле самого зрачка, и таился там, пульсируя и мерцая, не претворяясь в действие или слово. То был нектар или мед, целительная благоухающая смола или драгоценная влага в сосуде, еще не испитая и не тронутая, — то, что красноречивей молчания и глубже морского дна. Они видели его таким, когда он еще мог уместиться на острие иглы, но затем вырастал в мысль. Они замечали начало великой любви в первых биениях новорожденного чувства; видели зарождение, становление и закат Тайного, так и не отданного словам и не воплощенного в действие, зыбкое и всесильное Нечто, оставшееся за блеском глаз и мерно дышащей грудью. Они могли видеть невидимое время и отмечали его беглый полет по звездам, на которых оно оставляло млечную пыль.
Но находились такие, у которых Тайное разрасталось и властно теснилось в груди, не находя выхода. Они выпускали на свободу саму душу, облекая её словами – крыльями, и безымянная правда превращалась в стих,
чувство – в песню, а непосильное горе – в гыбзэ. Потому больше всех любили и боялись джегуако; они были отмечены, ибо обладали силой самого создателя. Они могли сплетать воедино души людей и извлекать из них единый голос, облекая его в слово, которое находило свой обратный путь к сердцу каждого. Они могли внедряться в камень и высекать из его немого сердца песню, становились соком земли, проникали в кровь деревьев и трав и, превратившись в растение, обретали его язык и голос.
Но было Тайное, перед которым в благоговейном молчании отступали лучшие из лучших джегуако, ибо всегда знали в сердце своем: только в молчании отражается величие. И слово оказывалось бессильно перед любовью матери к ребенку, перед любовью к земле и дому, перед любовью к женщине и к мужчине. Языком влюбленных был взгляд, а откровением любви – поцелуй, который отпускал то невыразимое, что было в обоих и претворял потаенное, что было в них. В нем плескалось безбрежное многоликое море любви. И был он, как распахнувшаяся дверь, когда в открытый проем врывается солнце, или как устье, через которое хлынул поток, как небеса, что отверзлись для целительного ливня, как сухой валежник, вспыхнувший огнем. Он соединял душу и тело, и то единое, что возникало в одном возлюбленном, соединялось с единым в другом. Таинство, воплощенное безмолвием.
Когда пало проклятие на землю и род черкесский, сошлись в едином решении четыре воинства с четырех концов света, и уничтожены были поля их, и сады их, и скот их, и сожжены дома. И полилась обильно кровь, так что синие воды трех морей, бесчисленных рек и озер стали красными. Текли красные реки по черной земле. И в зной над ними поднималась розовая дымка, что сгущаясь, превращалась в алые облака, которые разбегались во все стороны и проливались красным дождем, и сведущие говорили: «Это слезы черкесских матерей». Они же говорили: «Это великий Тха плачет по детям своим». Полуденное солнце выпивало кровавый урожай земли, но он был так велик, что не вмещался в его необъятные недра, и багровое варево переливалось через край, растекаясь кровавыми струями на горизонте запада и востока, на закате и восходе. Вслед за смертью приходил великий мор, а следом – другой, что из оставшихся забирал последних. Народ говорил: «Джаурым имыхьар, емынэм ихьыжэщ, емынэм къелар, Хъумбылей ихьыжэщ». («Те, что уцелели от гяуров, погибли от чумы, те, что уцелели после чумы, погибли у реки Хумбылей»- ныне река Малка, где в одном сражении в конце 18 века была уничтожена почти вся кабардинская аристократия).
Не курганы сохранились
На долинах у предгорий.
То в курганы обратились
Наши муки, наше горе.
Опоясавший курганы,
Не скудел поток кровавый,-
То сочились наши раны,
Наша кровь текла в канавы.
( А. А. Шогенцуков, фрагмент из поэмы «Камбот и Ляца»)
И поняли адыги, что проклята земля, род и семя их, и приходит последний час. Среди них нашлась старуха, которая слыла уд (колдуньей): она оживляла умерших младенцев и поднимала на ноги обездвиженных стариков. Ей сказали: «Нас гонят в гнилые болота, где свирепствует лихорадка, а если нет, то через море на Восток». И она ответила: «Спросите придурковатого Мусу». И народ решил, что старуха сама тронулась умом и оставил её в покое. Но на всякий случай спросили и Мусу, как быть, и тот ответил: «Адыгами будут зваться лишь те, что останутся на этой земле». Но никто его не слушал. Да и как можно было слушать подростка, который плакал, когда давили муравьев, или часами мог, улыбаясь, глядеть на травинку, будто слушал неведомый разговор, или ложился на землю и обнимал её, как женщину, со странными словами: «Ты слишком большая, чтобы я мог обнять тебя так крепко, как хочу».
И потянулись подводы на Восток. И великий плач стоял по всей земле. И народ оказался согнанным к берегу моря, и те, которым не нашлось места на чужих переполненных кораблях, нашли смерть свою на родном берегу, и не оставалось среди них живых, кто бы мог предать земле останки их. А те из них, что пересекли море, не утонув в переполненных кораблях, нашли погибель свою на чужом берегу. И обреченные обезумевшие матери искали чужих, чтобы отдать им детей своих для спасения, а те немногие живые, что остались на чужбине, были проданы в рабство. И так, ушедшие на Восток, нашли погибель свою от нищеты и мора, а те, кто еще оставался на земле своей, нашли погибель свою от штыка и пули, отдавая жизнь за любовь к земле, ибо были пленниками души своей, в которой жила красота.
Ею заболевали в тоске и боли, и она безмолвно жила в них, омываемая молчанием. Ни словом, ни слезой, ни вздохом не нарушался её целомудренный предел, потому и царила она безгранично. Так же беззвучно прорастали в их душе ростки любви, ненависти и других причудливых сильных чувств и, как дикие древесные лианы черкесских лесов, оплетали их одинокие сердца; ничем не обнаруживалась их тайная жизнь, надежно схваченная броней самой надежной и непроницаемой – безмолвием. Ибо слово превращалось порой из звука в саму смерть: уносилось на крыльях злобной молвы, могло быть услышано дьявольским ухом и обратиться смертоносной стрелой, или подхвачено завистливым джином, который даже мог проникнуть в душу и разрушить высокий чудесный дом, возведенный там или спалить прекрасный сад, цветущий в невидимых пределах. Иногда слово оборачивалось огненным смерчем гнева; оно испепеляло разум несчастного, и в порыве безумия он мог поразить брата своего. Тогда ночью покидали аулы целыми семьями, а то и родами, бежали тайными ночными тропами, спасаясь от кровной мести.
В одном ауле погибли все молодые мужчины, остались лишь женщины, дети и старики. Среди них был великий джегуако, что всю жизнь ходил из аула в аул, слагал песни, удалившись от всех в укромное место, и по три дня каждой из них обучал учеников своих. Его отец, тоже джегуако, прожил свыше ста лет, ослеп, и имел поводыря, из учеников. Его деды, и сыновья были джегуако. В женщинах этого рода тоже жили песни, свернувшись до поры, чтобы проснуться в свой черед и быть спетыми своим будущим детям.
В аул этот пришли новые гяуры, которые ничего не знали о гибели мужчин, они собрали стариков и сказали им: «Мы пощадим вас, женщин и детей, если скажите, где скрываются ваши воины». Старик – джегуако выступил вперед: «Хорошо, я покажу, где они», и повел их в горы, выбирая самые узкие и крутые тропы. Они проходили бездонные ущелья и пропасти, где только блуждало неумолчное эхо, потерявшись в узких расщелинах голых скал. «Он хочет погубить нас!» — догадались наконец некоторые, но было уже поздно. «Вы отсюда никогда не выберетесь», — сказал старик. «Говорят, что в свое время ты был лучшим танцором, — вспомнил главный из отряда, — танцуй!» И старик начал танцевать. Ему прострелили руку, но старик танцевал. Ему прострелили другую руку, и он танцевал с прострелянными руками. Старику прострелили бедро, грудь, но старик улыбался и продолжал танцевать, истекая кровью. Враги рассвирепели и прострелили ему сердце. Старик успел прислониться к большому валуну, да и умер, будто еще был в танце. Так умирали последние из великих джегуако. Ибо насылались на них воинства числом, подобные песку или морским волнам.
И снова погибали мужчины, и песни джегуако не могли заполнить зияющую пустоту их непрожитых жизней, и запах тлена проникал во все живое, и причитали плакальщицы, и стон шел на четыре стороны, а в ночь на вторник возносились молитвы страждущих, разверзались небеса и приоткрывался божественный занавес, принимая их. И рассыхалась самшитовая колыбель, и прерывалась шелковая нить, и разбивался серебряный кувшин, и иссякал хрустальный родник, и умирала последняя искра огня, и рассыпались жемчужины по сухой земле, и тускнел всевидящий зрачок, угасал последний звук, растворяясь в небесах ущербной луны, и время катилось к своему исходу.
И красота их женщин цвела без глаз возлюбленных, как весенний сад без солнечных лучей, без веселого жужжания медоносных пчел, и бесшумно опадали нежные лепестки пустоцветов, и налетевший ветер уносил вдаль тонкое облачко их несравненного аромата, достававшегося только небу. Ибо суженные их были мертвы. И те из них, что не омертвели в ожидании, заполняли комнаты горьким ароматом увядших цветов и опавших листьев, и дома их покрывались трещинами, как вечно ожидающие лица – морщинами, и по — прежнему бились старые стекла окон от неизбывной тоски, и ночные птицы испуганно вздрагивали и улетали. Ибо суженные их были мертвы. Петли красных сафьяновых каншиба, что запутывались и перекручивались для новобрачных и за порванную петлю острословы слагали кебжач, разрубались теперь вражеской саблей.
Сафьяновые каншибы
На груди у нас рвут штыками.
Снимать бы их юным уоркам
Урочной ночью брачной.
Красные стеганые петли
Сплетаем мы белым шелком (1).
(1 — белый цвет у адыгов — цвет траура – М. Х.)
В генеральском дому высоком
Величают меня «кынязь».
Когда ведут меня на ночь в спальню,
То и там толмач мне нужен.
Как взгляну в стеклянные окна,
Все чудится мне пши молодой.
А подойду к белой постели,
Вижу лохматого медведя.
Всю жизнь ходила я на ходулях, (2)
А теперь у ножек кровати
Кровавые слезы роняю.
(Фрагменты из песни – плача «Разорение селения», — в книге «Кабардинский фольклор», Нальчик, 2000, переиздание 1936 года. 2) – ходули – пха – вакэ – деревянные высокие подставки, которые одевали на обувь женщины знатных сословий. — М. Х.)
И женщины их стали походить на сухую землю, что трескалась без живительных дождей, и, вечно живая, мертвела, а суховей разносил только пыль её. Скудная влага, которую знала земля, не утоляла, но разжигала жажду, — то были соленые слезы. Ибо суженные их были мертвы.
И вдовы кормили младенцев не молоком, а кровью собственных ран, заменяя вечные слова колыбельных песен новыми словами:
Спи, мой птенец, спи, засни.
Золотую куклу тебе шьют.
Слышишь – плачет твоя мать,
Стонет-плачет над тобою.
Ой, птенец мой, ой, сосунок,
Невеселые дни настали,
Несладкое сосешь молоко!
Но в люльке расти, вырастай.
Окровавлена твоя земля,
Замутилась смутой великой.
Веревкой связали мне руки,
Топором ноги подсекли,
Сосцы мои изранили.
Рану мою соси, птенец,
Кровь мою соси, богатырь!
На свете недолго мне жить.
Мать умрет – не умрет родина.
Как один без матери останешься?
Станет тебе матерью родина,
Наследством – сабля отцовская.
(Фрагменты из «Колыбельной песни», — там же).
Среди их снох была одна из соседнего племени тюрков. На третий год она овдовела и прожила в роду мужа 40 лет. Она похоронила многих, из них 12 мужчин, и каждый из умерших оставался в сердце её. Души их нашли прибежище в доме вдовы, и куда бы ни шла она, тени покойников следовали за ней, как цыплята, которых она кормила. Она слушала их бесконечные беседы и споры, когда возделывала скудную землю свою за домом, и натыкалась на них в укромных уголках своего двора. Оплакивая очередного умершего, она слышала долгий вздох где-то за дверью или у плетня. Порой тихий смех раздавался из глиняных горшков и кувшинов, куда забирались души умерших детей. Тогда она клала сосуд набок, а сладости – напротив отверстия, чтобы выманить их, ибо если духи засиживались в горшках, закисало свежее молоко, испарялась или начинала тихо бурлить холодная вода. Последним из рода был её сын. Его похоронили на бескрайнем кладбище, усеянном жерновами. И когда погребли тело, на вершину холма тоже водрузили мельничный жернов, ибо каменный обруч невидимо сворачивал и соединял начало и конец рода, начало и конец мира, образуя круг, знаменующий божественную пустоту небытия. И в расколовшейся могильной тишине только еле слышно звенел ветер в камышах, извлекая из камыля тонкий звук забытой песни. Похоронив сына, вдова разломала косяк двери, так же, как сделали тысячи тысяч до нее после погребения последнего мужчины рода, села напротив потухшего очага, обмотала руки очажной цепью, и окаменела. Глядя на неё, одни говорили: «Вот сама скорбь по сгинувшему роду», а другие говорили: «Вот сама верность мужу и его сгинувшему роду». Но никто не знал о тайном грехе женщины: о её великой любви к мужу и сыну, что и после смерти была так же сильна, как при жизни.
У вдовы из дагестанского аула умер на руках ее смертельно раненый сын. Тогда она влезла на плоскую крышу своего дома и принялась танцевать неистовый исламей, пытаясь провести врагов и саму смерть. Всевидящая богиня вьюг Дардза – Нянильч, восседающая на вершине Казбека, тяжело вздохнула, собрала своих семерых сыновей, превратила их в сияющие звезды и отправила на небо для другой жизни.
Затравленная любовь, как голодный волк, оборачивалась порой звериной мордой оборотня, и такой человек становился одержим. Змеилась страшная молва от аула к аулу, скользкая, холодная, и оттого приводящая в озноб, как юная вдова погибшего выла ночи напролет от бесплодной тоски и однажды нашли её холодное тело с волчьей пастью. И юные вдовы каждого аула из последних сил пытались заглушить в себе дикую тоску. А те из них, кто не надеялся на себя, зашивали свой рот суровыми нитками, чтобы не издать ни звука, — только бы не превратиться наутро в зверя. После сражений среди наступившей могильной тишины скулили только собаки. Но аза, те, что видят невидимое и слышат неслышимое, глохли от неумолчного звериного рева, сотрясавшего черное пространство ночи. Тогда они обращались с воззванием к великому Тха, а эфенди – к великому Аллаху, но рев не прекращался. Некоторые из них бежали из аулов, зажав руками уши, а те, что остались – глохли навсегда. Но наутро, как всегда, розовели и не разверзались немые небеса, равнодушно принимая нечеловеческий вой земли, и также гасли белые безглазые звезды, не замечавшие с небесных высот ужас, творимый под солнцем. Рассказывали шепотом, как у бесленеевского уорка гяуры похитили жену, пять лет он искал её и, не найдя, перестал быть похож на себя, а однажды в полнолуние обернулся шакалом и убежал в горные леса. В Шапсугии враги сожгли весь аул, и в одном доме сгорело трое детей. Их мать, у которой незадолго погибли муж и брат, чудом уцелела. «Уж лучше бы и её прибрал всевышний, да простит он нас», — причитали женщины, потому что после погребения женщина осталась раскачиваться из стороны в сторону. А однажды, когда взошла красная огромная луна, круглая, как головка сыра, она превратилась в змею, уползла на могилу своих детей и поселилась там; никому не давала подходить, шипела и изворачивалась. Так и околела на могиле. А в Абадзехии из 62 аулов истребили 54; в одном из них полегли все мужчины, и тогда стали обороняться женщины. Одна воевала до тех пор, пока из детской люльки не потекла струйка крови, тогда женщина заколола себя ножницами, чтобы не достаться солдатам, и другие, — те, что остались в живых, поступили так же, но обернулись косулями и убежали в лес. Одна суровая зима принесла мор, а тот унес жизни всех детей махаджиров (название черкесов, подвергшихся массовой депортации в Турцию во время Кавказской войны), тех, кто остался в ожидании на берегу моря; матери их превратились в белоснежных чаек и остались с криками носиться над непогребенными телами детей своих. Море, сжалившись, поглотило всех мертвых детей, а чайки так и остались носиться над ним.
Множество теней тех, кто лишил себя жизни от бесплодной любви или безысходности, бесприютно скитались между небом и землей, не давая покоя мертвым и намозолив глаза живым, ибо земля не могла принять их.
Раз возникнув, над землей повис багровый туман. Говорили, что это – дыхание ожившего дьявола. Туман сгущался над реками, которые несли на своих стремительных пенистых плечах полуобгоревшие трупы детей, истерзанные тела юных девушек и девочек – подростков, обломанные ветви плодовых деревьев, сплошь усеянные еще живыми белыми цветами, над обугленными домами с черными скелетами стариков, что проделали обратный путь свой в огне, пока тела их не превратились в младенческие кости, заключенные в черном лоне смерти. Туман сгущался над богатыми дилижансами, увозящими с Европу странный груз – герметично упакованные черкесские головы. Другие одинокие головы были насажены на колья, что высились вдоль стен возведенных чужих крепостей. Но на медленно тлеющих равнодушных головах необыкновенно быстро отрастали волосы и бороды; на одной голове борода достигла земли, смешавшись с травой, и один охранник, забредший ночью под крепостные стены, запутался в ней и навсегда потерял дар речи. Туман порой обретал странные очертания, превращаясь в причудливого огромного зверя, или многоголового бляго, исторгавшего из всех своих голов огненный смерч во время бесчисленных кровавых сражений, или гигантскую алую пасть, в центре которой зияло черное отверстие, ведущее в ненасытную утробу.
Случилось то, чего не помнили предки стариков: в далеких горах ожил огромный Красный Иныж, вылепленный адыгами в незапамятные времена из красной глины, для времен, когда из народа никого не останется, чтобы стать на защиту земли. По ночам был слышен долгий протяжный гул, холодящий кровь, что разносился эхом по всем окрестным лесам.
И вот стали бесследно исчезать единственные оставшиеся от считанных уцелевших родов. Говорили, что их в полнолуние заговаривали аза с молчаливого согласия стариков, и те оборачивались ящерицами и несгорающими саламандрами, чтобы выжить, затаившись в узких расщелинах скал, и когда — нибудь снова восстать в человеческом облике, и продолжить жизнь людей, которая теперь была невозможна. Но, говорили знающие, вернувшись к жизни человеческой, они навсегда утратят память, и сердца их будут пусты и безмолвны.
В одном шапсугском ауле на сражение ушли все мужчины, способные держать оружие. Из них после битвы вернулось 12. Три дня хоронили погибших. Но после погребений старейшая из аула, которой было около ста лет, созвала всех девушек и молодых женщин. Она сняла с себя платок, расшнуровала корсеты девушек и сказала: «Через год вы должны родить столько, сколько мы потеряли». Через год в каждом доме стояла гуша.
Один джегуако, из Кабарды, однажды сложил песню:
Тенджыз и 1уфэр ди хэкужьти,
Ди адэжьхэр бгъуф1эу 1уэхум еплъырт.
Я кхъуафэжьейри бгъуф1эу ящ1ырт,
Ягури бгъуф1эт, бгъэр зэгуичу.
…Зэгуэрым бийхэр къатогупл1э,
Зым щэ къыхуэзэу…
Лъапсэрыхыр
Къащыхуэк1уапэм,
Я нэахъыжьым:
«Си щ1алэхэ,
Фэ фи1эщ лъеыгъэ,
ауэ
девгъэплъыт
бжыгъэм.
Зым пщ1ы къыфхуэзэу вгъэгъуэлъами,
Зыкъывадзынущ апхъодипщ1ым!
Ар дауэ хъун:
Дыгъэ къухьэнум
Ди лъэпкъыр дыкъухьэжу!
Ижь лъандэрэ тхъумар дгъэк1уэдуи!
Ар зыхъумэн дыхуейщ –
Жылак1э хъуну.
Зы пак1э фыхэк1 мы лъыгъажэм,
Фыхэк1и-
лЛъэпкъыр фхъумэну –
фи щхьэр фхъумэ!
Зыкъафщтэ зэуи бгым фихьэжи-
Лъэпкъ къыфтепщ1ык1ыжынщ».
Жылак1эу пабжык1ахэр бгым йохьэж,
мылъкууи къыздащтар зы закъуэт
я пщалъэр-
тенджыз пщалъэр.
Къурш зэхуаку бгъузэм
(пщалъэр- бгъуэт!)
ящ1 дамэдази – яхудэк1къым…
Къа1эт итанэ и зы к1апэр,
ираупсей ар 1ащхьэмахуэ:
Лъагагъыр лъэпкъым хуохъури пщалъэ,
Лъагагъым
къэлъху
нарт Сосрыкъуэ.
Побережье моря было нашим краем родным,
И поэтому отцов и дедов (наших) отличала широта взгляда,
Они и лодки строили широкие.
Да и сердца у них были столь широки,
Что разрывали грудь.
…Однажды враги нежданно напали,
их было столько, — на одного по сотне…
И когда гибель всей нации стала неминуемой,
Самый старший рек:
«Сыны мои,
все вы доблестны,
Однако
Давайте посмотрим
На количество.
Хотя каждый из вас и уложил десятерых,
Но еще в десять раз больше остается на каждого!
И как тут быть:
чтоб сегодня с заходящим солнцем
сошел на нет весь наш народ!
Так мы потеряем то сокровенное,
Что мы храним с незапамятных времен!
И нам сейчас нужны те, кто сохранит его –
Оставшись в живых, став нашими наследниками.
Пусть горстка молодых покинет поле брани,
и, чтобы сохранить народ, —
останется жить.
Покиньте же сейчас, и в горах схоронитесь-
и народ возродится.
Молодые уходят в горы.
И берут они в дорогу только одно-
Свое мерило,
мерило морских масштабов,
( то есть широту),
Но мерило это не пронести между скал,
(оно слишком широко!),
Тогда берут его за один конец
и приставляют к Эльбрусу:
и с этого момента высота становится
мерилом народа,
И она (высота)
рождает
нарта Сосруко.
(Стихи и подстрочный перевод Кажарова Х. Х.)
Так, согласно року, снова шли войной со всех сторон на вожделенную землю, и рождала она обильно кровавый урожай, и снова горели дома, поля и виноградники, и угонялся скот. И мертвых стало всемеро больше, чем живых. Но кровь мертвых оставалась в живых, и говорила в живых за мертвых, и вела их, и сообщала их волю, перетекая из колена в колено, а потому мертвые не умирали, ибо оставались в живых. Но пока продолжали погибать рода и племена, от оставшихся мужчины и женщины возрождал Господь новых потомков, и все начиналось сначала. Вылетая легким облачком из праха, вселялись вечные души в новых младенцев, и выдвигались стрелки солнечных часов из бездонного немого круга небытия, и снова приходили в движение соки жизни, и первой расцветала нетленная красота женщин, что родили новых сыновей. И все возвращалось на круги свои.
И когда немногие, оставшиеся в живых, приблизились к самому краю жизни и заглянули в открывшуюся бездну небытия, они увидели в ней лик смеющегося бога. «Почему он смеётся?» — удивились адыги, недоумевая и не находя ответа, и обратились к мудрейшему. «Он смеялся над жизнью», — сказал мудрец. «Воистину, жизнь достойна смеха», — согласились люди. Но на следующий день мудрец снова вышел к ним и сказал: «Я не понял божественного смеха: он смеялся над жизнью и смертью». И те, что узрели смеющегося бога, узнали ответ. С тех пор они смеялись над жизнью и смертью в душе своей. И тот, кто цеплялся за то или другое, не был почитаем. Они предпочли границу жизни и смерти, света и мрака. В свете дня лицо адыга покрывала тень тьмы, а во мгле оно светилось, ибо и во мраке он носил в себе яркий свет жизни.
Но духи памяти и скорби не улетали. Они совершали бесконечные бесплодные круги вокруг разоренных пустынных земель, выбирали и поселялись в сердцах, похожих на распахнутые окна, ибо то были дома их. Часть из них, в ком поселились духи памяти, убегали на край земли, не в силах вынести это бремя, и бросались со скал или до смерти скитались в дремучих лесах. Духи памяти не оставляли людей: они внедрялись в каждый уголок души, растворялись в крови и передавались детям и потомкам. Так стали рождаться дети с тоскливыми глазами и уязвимыми сердцами. Жившие в них духи пробуждали память народа, и переполненные сердца не выдерживали и останавливались.
Видя, что полнится потомство от горстки оставшихся, Северный Бог дал народу своему оружие, какого никогда не было, — на колесах, и управлял ими дух четырех яростных непобедимых животных. И тогда животные в колесах истребили девять из десяти, не пожалев стариков, женщин и детей, а тех, кто остался, рассеяли по всему лику земли, чтобы отнять последнее, что у них было – язык. Чтобы переняли они языки других народов и нареклись чужим именем, и слышали других богов на их чужих языках. И стало так.
А Тха, прикованный к скале, однажды собрался из последних сил, разорвал цепи, взглянул вниз и увидел, что сделали с детьми его. Вскричал он от горя. «Соединяйтесь! – закричал он, — Помните, «царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий дом или город, разделившийся сам в себе, не устоит!» (М.ф. , 12, 25) Обретите свой язык, чтобы слышать меня и соединяйтесь! Идите путем, каким шел народ Яхве! Как прошли сквозь огненный смерч времен и долгих скитаний 12 кален израилевых и воссоединились на земле своей, так и 12 племен народа моего должны воссоединиться на древней родине своей! Обретите вновь свою потерянную землю!» Так кричал он 100 лет, но не был услышан, ибо почти никого не осталось из народа его, а те, что остались, были похожи на домашних птиц, что добывают себе корм, уткнувшись носом в землю и никогда не поднимают головы к небу. Как в великом Вавилоне, люди его народа перестали понимать друг друга, ибо утратили единый язык и единого бога. И тогда Тха разорвал свои одежды и посыпал голову пеплом. И все — таки нашлось несколько из детей его, чей слух был обострен, а душа обращена к небу, и был он услышан ими.
ДОКУМЕНТЫ
За записями Теун следовали какие-то бумаги, похожие на копии с документов, написанные другим, как будто бы мужским почерком. Я положила их перед собой:
«Завещание своим преемникам Петра I :
Неустанно расширять свои пределы к северу и югу, вдоль Черного моря. Возможно, ближе продвигаться к Константинополю и Индии. Обладающий ими будет обладателем мира. С этой целью возбуждать постоянные войны то против турок, то против персов, основывать верфи на Черном море, мало-помалу овладевая как этим морем, так и Балтийским, ибо и то, и другое необходимо для успеха плана — ускорить падение Персии, проникнуть до Персидского залива, восстановить, если возможно, древнюю торговлю Леванта через Сирию и достигнуть Индии как мирового складочного пункта.
Секретный рапорт, подготовленный Погодиным по поручению российского правительства и представленный на рассмотрение Императору Александру II:
Восток должен принадлежать нам по праву. Нельзя ни на миг ослаблять нашей деятельности в этом направлении. Константинополь не имеет сведений об истинных наших намерениях. Завладев им, мы приобретем важнейший пункт мира, и эти ворота в Азию навсегда должны остаться в наших руках. Британия издавна является владычицей морей. Мы же, опираясь на достигнутое нами на суше могущество, должны тоже и на море. Необходимо овладеть Черноморским побережьем, Босфором и Дарданеллами. Черное море должно стать местом наших маневров; уступчивости, проявленной нами на последней встрече, оказалось вполне достаточно, чтобы «разрушить» противника, готового яростно сопротивляться. Несмотря на такое положение дел, нам предстоят немалые труды – сооружение крепостей на Черноморском побережье, снабжение всех страннических пунктов всеми видами вооружения. Необходимо завершить войну с народами Кавказа, которая потребует еще немалых затрат и большого упорства. Эта война должна послужить приобретению нашими войсками должного опыта и стать прикрытием всех наших операций по овладению Черным морем.
***
Использование Кавказа в собственных интересах никогда особенно и не скрывалось английскими политиками. Вот какие обвинения были адресованы депутатом М. Анстеем министру иностранных дел лорду Пальмерстону на заседании британского парламента 18 марта 1848 года:
«В случившемся обвиняю лорда Пальмерстона. В свое время в силу необходимости Британия добилась установления торговых отношений и сотрудничества с Кавказом. Теперь же по отношению к нему совершено предательство…
Лорда Пальмерстона обвиняю в том, что он сознательно, собственными руками вручил свободный, никому не подвластный Кавказ России, овладение которым было ей необходимо для осуществления своих дальнейших замыслов в отношении принадлежащих нам индийских колоний.
… В заключение, уважаемого и благородного лорда обвиняю в двуличии по отношению к парламенту и государству, которые были им введены в заблуждение и по его вине совершали ошибки, обвиняю в величайшем предательстве.
Спустя 8 лет (уже после парламентского договора) лорд Пальмерстон на заседании палаты лордов признал обоснованность столь резких обвинений: «Лорды! Черкесов мы оставили в одиночестве, лицом к лицу с бесчисленным множеством страшных событий. Но нам было необходимо их содействие, и, скажу с вашего позволения, мы их использовали сполна».
Заседание парламента было продолжено выступлением Эдмонда Бильса, который еще яснее выразил мысль, что истребление черкесов — результат политической игры Британии.
Дэвид Уркварт, сотрудник британского посольства в Стамбуле, по собственной инициативе проделал гораздо большую работу, чем требовали его обязанности и политика его правительства, чтобы оказать хоть какую-нибудь реальную помощь Северному Кавказу в освободительной борьбе. Его письма, адресованные на Кавказ, убедительно демонстрируют сущность политики Англии и других европейских государств по отношению к Северному Кавказу: «…Если я ничего не могу сделать для вас, то должен по крайней мере, предупредить о новой опасности, что угрожает вам.. Вы единственный из всех народов мира, кто узрел истинное лицо России, потому вы одни и противились её власти. Но вы должны увидеть и истинное лицо Европы. Ваша безопасность в борьбе с Россией была … знанием её слабостей, ваша защита от Европы будет заключаться в знании её вероломства.
…В течении нашей жизни произошли четыре великих столкновения, о которых вы могли слышать и которые определили начало новой эры для всего мира: между Россией и Персией в 1826-1827гг.; между Россией и Турцией в 1828-1829гг.; между Россией и Польшей в 1830-1831гг.; между Россией и Венгрией в 1848-1849 годах. Из всех этих случаев европейские державы либо покинули государство, подвергшееся агрессии со стороны России, либо оказали ей прямую поддержку, хотя в тоже самое время правительства этих держав говорили своим народам, что они сделали всё для того, чтобы противостоять России» (Послание Д.Уркварта черкесским народам и их предводителям от 8 мая 1854 года)
***
«Особенно тяжелые потери понесла Кабарда в первой четверти XIX века в результате эскалации военных действий. Так, российские экспедиционные силы под командованием генерала Глазенапа, одержав победу, в бою в мае 1804 года, уничтожили 80 кабардинских селений. Во время карательной экспедиции в апреле 1810 года российские войска, возглавляемые генералами Булгаковым и Дельпоццо, уничтожили 200 кабардинских селений, более 9000 тысяч домов, 111 мечетей, угнали свыше 51000 голов скота, 515 лошадей, отобрали 6310 пудов красной меди и 2200 рублей серебром, окончательное «замирение» Кабарды осуществил главнокомандующий российскими войсками на Кавказе генерал А.П. Ермолов. Он жестоко подавил восстание в 1822 и 1825гг. Одним из главных методов Ермолова в покорении Кабарды было именно насильственное изгнание непокорной части населения. В годы завоевания Кабарды десятки тысяч её жителей вынуждены были бежать в Западную Черкессию, Чечню, Дагестан и даже Османскую империю. В середине 30-х годов XIX века из Кабарды и Западной Черкесии вынужденно переселилось в Османскую империю около 370 семей.
В результате войны и депортации от кабардинского населения, составляющего во второй половине XVIII века около 350000т. человек к середине 20-х годов XIX века осталось лишь одна десятая часть. В Кабарде был установлен военно — оккупационный режим. Российские власти игнорировали традиционный образ жизни кабардинцев, обычаи и этнопсихологию. Был наложен запрет на свободу передвижения (билетно — пропускная система), запрет на общение с соседними народами, запрет на прием в гости лиц, неугодных российским властям. Существенно осложнилась жизнь кабардинцев в результате аннексии царскими властями большей части земель: пахотных угодий, пастбищ и др. Кабардинцам теперь приходилось арендовать свои же земли у казаков, которые получали значительные наделы из аннексированных земель. Все эти меры послужили причиной вынужденной эмиграции кабардинцев во второй половине XIX века (Черкес. диаспора в Арабских странах XIX-XX вв. –стр.34)
После окончания Крымской войны (1853-1856гг.) российское командование предприняло широкомасштабные наступления на северо-кавказском фронте. При этом царские войска применяли тактику «выжженной земли»- черкесов постепенно теснили вглубь страны, сжигали их селения, поля, сады, густые леса. На опустевших землях водворялись казачьи станицы (Чд. ва. с.-с.36)
18 сентября 1861 года произошла историческая встреча черкесской депутации с русским царем Александром II. Депутация просила прекратить военные действия, уничтожения селений и заселения их земель казаками. Ответ царя был короток и категоричен : «выселиться куда укажут или переселиться в Турцию».
Чтобы поставить черкесов в безвыходное положение, командование развернуло широкое наступление по всей линии фронта. «Война шла с неумолимой суровостью, — писал русский историк Е.Д. Фелицын, — Черкесские аулы выжигались сотнями, посевы их истреблялись или вытаптывались лошадьми, а жители, изъявившие покорность, выселялись на плоскость под управление наших приставов, непокорные же отправлялись на берег моря для переселения в Турцию».
«Горцы сопротивлялись чрезвычайно упорно… как отдельный человек в поле не сдавался перед целым войском, но умирал, убивая, так и народ после разорения дотла его деревень, произведенного в десятый раз, цепко держался на прежних местах. Мы не могли отступить от начатого дела и бросить покорение Кавказа потому только, что горцы не хотели покориться. Надо было истребить горцев наполовину, чтобы заставить другую половину положить оружие… Особенно пострадала слабая часть населения — женщины и дети».
«В этой кровавой трагедии нередко матери разбивали головы своим детям, чтобы они не достались в наши руки… Многие племена были истреблены поголовно и навсегда исчезли с лица земли, почти весь Западный Кавказ был обращен в безмолвную, дикую пустыню.
Теперь, когда умолкли шум азарт отчаянной борьбы, когда наша власть на Кавказе вполне упрочена, мы можем спокойно отдать дань удивления героизму и беззаветной отваге побежденного врага, честно защищавшего свою родину и свою свободу до полного истощения сил».
«Генерал Ермолов распорядиться расселить абазин — обитателей целого ущелья по казачьим станицам от Моздока до Екатеринодара. Вся вина их состояла лишь в том, что несколько местных жителей угнали лошадей из соседней станицы.
Несколько абазин из числа переселенных в казачью станицу Бабуково, в одну из ночей 1858г. приняли гостей — соплеменников с другой стороны Кубани. Получив об этом донесение, местная администрация приняла решение наказать 20 абазинских семейств, переселив их вглубь России. Попытка горцев апеллировать к командующему отдельным кавказским корпусом, а затем и к наместнику Кавказа, имели трагические последствия: карательная команда, присланная в августе в станицу, учинила над несговорчивыми абазинами кровавую расправу.
..В 1868 г. Жители аула Куденеток, получив распоряжение выселиться в Турцию, распродали всю свою живность и отправились в путь по Керченской дороге. Однако начальник отдела полковник Догмитцов догнал их и приказал возвращаться. Черкесы обратившиеся за советом к своему эфенди, получили такой ответ: «Для нас, правоверных мусульман, возвращение в аул будет означать согласие на российское подданство, измену своей вере и добровольное превращение в гяуров». Двое аульчан, посланные с подобным отказом к полковнику, были тут же арестованы разгневанным Догмитцовым. Артиллерия открыла огонь прямой наводкой по черкесам, занявшим оборону за арбами. Раздались ответные ружейные выстрелы, группа всадников ринулась прямо на пушки… Из всего населения аула в живых осталась только одна женщина с ребёнком. Все убитые (233) человека были брошены в две большие ямы, вырытые по приказу Догмитцова… (сноска)
..В 1837г., уже после заключения мирного договора с Шамилем… и другими вождями горцев, генерал Фези, возвращались в Темир-Хан-Шуру, «не испытывая угрызений совести», отдал приказ об уничтожении Ашильты, «Ашильта была стерта с лица земли, 500 её домов были разрушены до основания, виноградники вытоптаны, колодцы засыпаны, скот вырезан, жители аула убиты или пленены».
..В 1864 г. Даховский отряд генерала Теймона «с 6 по 16 марта.. очистил на южном склоне пространство между Туапсе и Псезуапе, истребив все аулы по течению этих рек; результатом этих действий было массовое переселение шапсугов, которые были партиями сконцентрированы в устье Туапсе, для отправки в Турцию».
Официальное выселение народов Северного Кавказа началось после постановления Кавказского комитета «О переселении горцев» от 10 мая 1862г. Самое крупное и трагическое изгнание народа Западной Черкесии произошло 1863-64гг. Окруженные со всех сторон и теснимые русскими войсками черкесы покидали свои жилища и скапливались на побережье Черного моря в ожидании кораблей. Особую настойчивость проявляли русские войска при депортации натухайцев. Так, «чтобы заставить натухайцев переселиться, на помощь войскам прислали ещё 12 тыс. солдат»(11, И.ч.-с. 120)
«Царские колонизаторы захватывали земли адыгов, сгоняли их с плодородных нив и переселяли в болотистые, неплодородные места, являвшиеся вместе с тем рассадниками различных болезней. Это послужило одной из основных причин выселения адыгов за пределы своей родины ( 22- И.ч.-с 121)
«Царизм сам создал условия для переселения горцев в Турцию» (23, «—»)
В течение небольшого промежутка времени всё побережье Черного моря оказалось заполненным огромной массой изгнанников. Пунктами переселения стали порты Батум, Поти, Сухум, Адлер, Псоу, Цандрипш, Сочи, Туапсе, Цемез (Новороссийск), Анапа, Тамань, Керчь. Отсюда черкесов на кочермах доставляли к берегам Османской империи»
Перевозка черкесских беженцев осуществлялась на турецких, отчасти на русских судах, а также на кораблях всевозможных авантюристов из европейских стран, желавших наскоро заработать. Проезд в Турцию сухопутным путем в первое время был запрещен российской администрацией, чтобы воспрепятствовать перегону скота и вывозу имущества беженцами.
Значительное количество черкесов, скопившихся на черноморском побережье в ожидании своей очереди на отплытие, испытывало неимоверные трудности и лишения; среди них распространялись эпидемические и инфекционные болезни; особо холодная зима 1863-1864г.г. и голод унесли десятки тысяч жизней этих беженцев. Сохранилось много записей русских, турецких, европейских и других авторов, ставших свидетелями ужасов этой депортации. Вот как описал события 1863-1864 годов в Западной Черкесии офицер российской армии И.Дроздов «В конце февраля, пшехский отряд двинулся к речке Мартэ, чтобы наблюдать за выселением горцев, а если понадобиться, так и силою выгонять их. Постепенно продвигаясь то вправо, то влево, то вверх, то вниз и истребляя по пути брошенные аулы, отряд достиг верховьев Псекупса, откуда перевалился при впадении речки Чилипсе в Туапсе. Отсюда оставалось только тридцать верст до Черного моря.
Поразительное зрелище представилось глазам нашим по пути! Разбросанные трупы детей, женщин, стариков, растерзанные, полуобъеденные собаками; изнеможенные голодом и болезнями переселенцы, едва поднимавшие ноги от слабости, падавшие от изнеможения и еще заживо делавшиеся добычей голодных собак. Живым и здоровым некогда было думать об умирающих; им и самим перспектива была не утешительной; турецкие шкиперы из жалости наваливали, как груз, черкесов, нанимавших их кочермы до берегов Малой Азии, и, как груз, выбрасывали лишних за борт, при малейшем признаке болезни. Волны выбрасывали трупы этих несчастных на берега Анатолии.. Едва ли половина отправившихся в Турцию прибыла к месту. Такое бедствие в таких размерах редко постигало человечество…
Теперь в горах Кубанской области можно встретить медведя, волка, но не горца»
Известный российский публицист Я.В.Абрамов писал о трагических событиях 1864г. следующим образом: «…Горцы, без всякого имущества, скапливались в Анапе и Новороссийске, частью во многих мелких бухтах Северо-Восточного побережья Черного моря, тогда еще не занятых русскими. Отсюда их перевозили в Турцию турецкие кочермы, а также отчасти заарендованные специально для этой цели русским правительством суда. Но так как этого транспортного флота было крайне недостаточно для перевозки почти полумиллиона человек, то массе горцев приходилось ждать своей очереди по полугоду, году и более. Все это время они оставались на берегу моря, под открытым небом без всяких средств к жизни; страдания, которые приходилось выносить в это время горцам, нет возможности описать, они буквально тысячами умирали с голоду. Зимою к этому присоединялся холод. Весь Северо-Восточный берег Черного моря был усыпан трупами и умирающими, между которыми лежала остальная масса живых, но крайне ослабленных и тщетно ждавших, когда их отправят в Турцию. Очевидцы передают ужасные сцены, виденные ими в это время. Один рассказывает о трупе матери, грудь которого сосет ребенок; другой – о матери, носившей на руках двух замерзших детей и никак не хотевшей расставаться с ними; третий — о целой груде человеческих тел, прижавшихся друг к другу, в надежде сохранить внутреннюю теплоту и в этом положении застывших».
Перенесший тяготы этой депортации в детстве, офицер турецкой армии черкес Нури впоследствии вспоминал: «Нас швыряли, как собак, в парусные лодки, задыхаясь, голодные, холодные, мы ждали смерти, как лучшей доли нашей судьбы. Ничего не принималось в расчет: ни глубокая старость, ни болезнь, ни беременность! Все деньги, которое ассигновало наше (русское) правительство на поддержку переселенцев, все они уходили куда-то, но куда? Мы их не видели! С нами обращались как со скотом, нас валили на общий каик сотнями, не разбирая, кто здоров, кто болен и выбрасывали на близлежащий турецкий берег. Многие из нас умерли, остальные приткнулись где попало».
Суда обыкновенно нагружались, что называется, до верху: триста или четыреста человек наполняли пространство, на котором в обыкновенное время помещалось от 50 до 60 человек. На одно из таких судов погрузили 600 человек, на другой берег живыми доставили 370.
«Судно «Нусрети-Бахти» 17 ноября 1864 г. бурей было выброшено на берег и разбито, погибло 300 из 470 пассажиров»
«Один пароход, плававший по той же самой дороге, по которой шли незадолго перед ним эти суда с черкесами, мог проследить путь по плывущим трупам….»
«Я помню, как одна мать ни за что не хотела, чтобы ее ребенка выбросили в море и долго скрывала его смерть. Абхазцы знали об этом, но молчали. Она держала мертвого ребенка на руках, прижав к груди, и когда кто-нибудь из турков проходил мимо, начинала разговаривать с ним, как с живым. Так скрывала она его до тех пор, пока на пароходе не начал распространятся трупный запах. Тогда сделали обыск и нашли мертвого ребенка; но мать и тут не хотела отдавать его, и когда ребенка все-таки вырвали из ее рук и бросили в море, она сама попыталась броситься за ним. Ее с трудом удержали. Крик этой матери и до сих пор раздается в ушах…»
Главными портами приема переселенцев были назначены Трабзон, Самсун и Синоп, но от Трабзона до Аче-Кале черкесов высаживали на любом пригодном для этого участке берега. В Стамбул и балканские порты изгнанников доставляли либо прямо с Кавказа, либо с Трабзона или Самсуна. Османские власти, опасаясь распространения эпидемических болезней среди турецкого населения, создали вдоль побережья, где скопились беженцы, специальные карантинные лагеря, ставшие по существу лагерями смерти. Такие лагеря были созданы в Ачка-Кале, Сари-Дере, Самсуне и других местах. О том, в каком количестве гибли черкесы на турецком побережье свидетельствует письмо русского консула в Трепизонде А.Н. Мошнина «…с начала выселения в Трепизонде и в окрестностях пребывало до 247000 душ, умерло 19000 душ. Теперь осталось 63 290 человек. Средняя смертность 180-250 человек в день… Свирепствует страшный тиф… Их… помещают в дырявых палатках, на главной площади, где они буквально тонут в грязи. Отсюда и та опасная болезнь… зарытие трупов совершается с такой страшной небрежностью, что во всяком другом государстве местные власти были бы уличены в уголовном преступлении.
Самсунский санит. инспектор, врач французского посольства в Константинополе Бароцци писал в своем отчете: «Не нахожу слов для изображения положения, в котором я нашел горцев и несчастных эмигрантов… На каждом шагу встречаются больные, умирающие и трупы — у городских ворот, перед лавками, посреди улиц, в скверах, в садах под деревьями.. Виденное мною в Трапезунде не могут никак сравнится с тем ужасным зрелищем, которое представляет город Самсун…»
«В Аче- Кале было 15 тысяч человек переселенцев. Несмотря на суровость сезона, они были расположены под защитою жалких листьев оливковых деревьев; не имея никакой провизии, они существовали только теми ничтожными, если не сказать более, средствами, которыми снабжало их турецкое правительство… Хлеба было так мало, что едва половина могла быть удовлетворена, остальным приходилось дожидаться следующей раздачи.. После молитвы хоронили мертвых: четыре человека несли их на своих плечах и за каждым умершим следовало его семейство; женщины при этом шли несколько позади, испуская страшные крики. Это они оплакивали умерших. Я слышал уже это оплакивание на Кавказе, но в Аче- Кале было столько умиравших, что эти концерты дошли до невыносимых размеров; раздирающие душу вопли они отдавались эхом по окрестным горам».
Работорговцы, среди которых были турецкие администраторы, беззастенчиво обогащались на бедствиях горцев. А.Н. Мошнин в своих рапортах писал о том, что жертвой работорговли стал каждый десятый из переселенцев. Черкесских детей 11-12 лет продавали за 30-40 рублей, а местный паша приобрел 8 «самых красивых девушек» за 60-80 рублей и отправил их в качестве подарков в Стамбул».
Дочь британского консула так описывает один из черкесских лагерей: «…По высадке одной партии эмигрантов на берег, около двух тысяч человек остановились в небольшом лесочке. Истощенные страданиями своего долгого путешествия, покрытые насекомыми и почти умирающие с голоду, они расположились лагерем на земле, еще не просохшей.., больные валялись рядом с умершими.. Когда мы приблизились к зараженному лагерю, кучки мужчин и женщин обступили нас, ведя за руку своих детей и предлагая купить их всякому, кто пожелает… Матери, без сожаления отдающие своих детей в чужие руки (а ведь таких тогда было немало)… сумеем ли мы когда-нибудь понять до конца весь трагизм их положения; ужас той ситуации, в которой они оказались? Эти женщины, сознавая свою обреченность, отдавали малышей, в надежде, что хоть так их дети выживут или хотя бы раз досыта поедят.
«В портовый город Варна привезли 80 тысяч махаджиров, зараженных тифом и малярией, — рассказывал свидетель. — Для борьбы с болезнями не было ни врачей, ни лекарств, ни самых элементарных средств гигиены и санитарии. Был введен карантин, но он уже не имел никакого смысла: болезни охватили всех привезённых. Берег Черного моря заполнился телами умерших. В первое время турки хоронили мертвых, но когда они уже не успевали, на помощь им пригоняли заключенных. Но и это не спасало положения. Тогда трупы стали выбрасывать в море.. После захода солнца аскеры выгоняли черкесов из города, но каждое утро их вновь можно было увидеть на улицах, пытающихся найти в мусоре хоть что-то из им необходимого…
Для окончательного расселения вдоль северных границ Болгарии черкесы направлялись в Софию, Никопол, Рущук, Добродису; в Косово направилось 20 тысяч черкесов.
Дунайские корабли, перевозившие черкесов на Балканы в пункты предварительного расселения, перед взором любого свидетеля представали плавающими кладбищами. Очередное организованное выселение Кавказских народов связано с турецкой войной 1870-1878гг., во время которой в с Чечне, Дагестане и в Абхазии вновь вспыхнули восстания против колониального режима. По окончании войны российская администрация решила избавиться от «ненавистных горцев». Особенно пострадали от новой депортации районы Западной Черкесии и Абхазии. Из более чем 75 000 человек абхазцев вынуждены были покинуть родину 50 000 человек.
В меньших масштабах выселение северокавказских народов продолжалось и в последующие годы вплоть до начала 20-х годов ХХ века.
В 1900-1902гг. из Кабарды выселилось в Турцию 2601 человек кабардинцев и 781 человек балкарцев, а в мае 1905 года кабардинские дворяне Толостан Анзор и Кануко Шерег увезли в Турцию еще 115 кабардинских семей.
По российским официальным статистическим данным в период с 1858 по 1865гг. в османскую империю выселилось 493 194 человек, большую часть которых составляли западные черкесы.
С 1883 года из кубанской области (Западной Черкесии) было выдворено ещё 13 586 черкесов и 11 717 абазин. Общая численность абхазов и абазин, выселившихся в Турцию, достигает 135 000 человек. Из Дагестана в 1872-1873гг. эмигрировало 299 семей. Чеченцев выселилось свыше 23000 человек. Осетин за весь период эмигрировало 10 000 человек. Кабардинцев с территории Кабарды выселилось в Турцию около 17 000 человек, а в общей сложности… около 60 000 человек «значительное число кабардинцев выселилось с территории Западной Черкесии, где они нашли убежище после завоевания Кабарды Россией. Карачаевцев эмигрировало в 1887-1894гг. и в 1905-1906гг. 15 756 человек. Прикубанских ногайцев выселилось 30 650 человек.
До настоящего времени у исследователей нет единого мнения относительно общей численности северокавказских эмигрантов. Различные авторы называют цифры от 600 000 до трех миллионов человек.
Текст императорской грамоты Графу Евдокимову Н.И. удостоенному ордена им. Св. Георгия II-I степени за успешные военные действия на Северо- Западном Кавказе) : «Представленное Вами в 1860 году и одобренное Нами предложение о способе действий для скорейшего окончания войны на Западном Кавказе увенчались ныне блистательным успехом, превзошедшим даже ожидания нами, быстрым достижением цели, доказывающим основательность принятых по соображениям ваших мер. В три года времени умиротворенный и совершенно очищенный от враждебного нам туземного населения Западный Кавказ уже в большей части своей занят прочно водворенными русскими поселениями, и долговременная кровопролитная война окончена, избавляя Государство от огромных жертв, в течении полутораста лет его обременявших и доставляя ему обширный и богатый край, который со временем, несомненно, с избытком вознаградит эти прежние пожертвования..»
«После покорения Западного Кавказа в 1864г. большая часть черкесов (470 000) и все убыхи вынуждены были переселиться в Турцию…» (там же)
«Царизм выгнал в Малую Азию и Анатолию сотни тысяч черкесов»
«Кровавая война изгнала и уничтожила горцев».
«Царизм, султанская Турция, Англия, протурецкая феодальная верхушка, мусульманское духовенство ответственные за трагедию, и постигшую в XIXвеке адыгов».
«…Меня (генерала- майора царской армии М. Кундухова) встретил и пригласил в гости генерала Коцебу. Беседуя со мной, он сказал: «Каковы наши достижения на Кавказе? Мы не сумели завоевать доверие Кавказских народов и теперь отдаем их туркам. Россия не нуждается в пустующих землях. Охотников селиться на таковых в наших областях не находится. Свои ошибки и заблуждения мы осознаем позже…
По пути в Терч — Калу (Владикавказ) я повстречался с переселенцами, не успевших выехать в прошлом году. Станционный смотритель, заметивший, с какой болью я взираю на это жестокое зрелище, прошел ко мне и со слезами на глазах сказал: «Ваше превосходительство, видя такую страшную картину, какое сердце выдержит это, не разорвавшись?.. Зачем мы гневили Бога? Ведь эта земля — их земля. Какое право мы имеем их выселять, если никто — ни мы, ни они- не знает, куда им идти, где конец их пути…»
Николай Раевский с возмущением и осуждением писал: «Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия первоначального завоевания Америки испанцами».
***
Я вспомнила, как однажды в детстве проснулась от ночного кошмара, и бабушка прочитала надо мной молитву. Вскоре она продолжила её горячо и почти беззвучно, и все-таки я смогла явственно различить странные слова, — они посвящались ни детям, ни семье, а народу: «Оставшуюся горстку народа моего, Аллах Великий, укрой и сохрани!» Я удивилась, но тотчас забыла её и ни разу не вспомнила до этой минуты. Детский ночной кошмар стал реальностью. Удивления не было. Теперь только стало ясно, что я жила ожиданием этой правды, — чудовищной, но освобождающей от странного ощущения собственной незавершенности. Я была к ней готова ночными молитвами бабушки, обрывками недоговоренных фраз, песнями о махаджирах, от которых плакали старики, и невосполнимой пустотой в сердце,- как бы не переполнялось оно, в нем оставалась зияющая пустота, которая жадно всасывала в себя впечатления окружающего мира, и все-таки не исчезала, как больной булимией, которого никогда не оставляет чувство голода. «Ля-илляха-иллялях», — шептала я, но кошмар не проходил. Я чувствовала гулкие удары и слушала, как в мое полое сердце медленно заползает боль, и когда она стала нестерпимой, потемнело в глазах, и я задохнулась. И тут из темных глубин моей памяти неожиданно всплыла молитва, которой бабушка втайне от всех обучала меня. Старые и новые слова её выстраивались сами собой и казались солеными от слез. Никогда, кажется, я не говорила так долго на своем родном полузабытом языке: «Аллах Великий! Упокой души их, — тех, о ком я ничего не знала, ни одного звука имени их – родственников моих — погибших, и родственников этих родственников — погибших, друзей их – погибших, тысячи тысяч детей, стариков, женщин и мужчин безымянной плоти и крови моей, много раз истлевшей и возрожденной в новом обличии – моем, и тех, кто ныне на этой земле. Упокой их, заживо сожженных, нетленный дух которых вырвался из горящих ям и домов; заживо погребенных, за телами которых не стало видно морского дна, которые так и не увидели вожделенный чужой и проклятый берег. Оставшуюся горстку народа моего, — вспоминала я услышанные слова, — на земле своей укрой и сохрани. Миллионы и тысячи народа моего, рассеянного по всему пространству земли, укрой и сохрани! Дай ему память, силу и стремление воссоединиться на земле отцов. Не дай забыть бога своего, и народ свой, и язык свой, не дай сгинуть бесследно, растворившись в других народах, не дай остаться лишь в гортанном звуке, угасающем в веках, не дай кому- то сказать на детей твоих: «Они были, и теперь их нет», не дай предать память о тысячах тысяч колен своих, которые отстояли себя в схватке со временем и вылетели из расколовшегося яйца тысячелетий с неповторимым ликом и великой душой! Сохрани крылья народу, умеющему летать!» Я еще долго шептала в темноте, и когда уже не было слов и слез, боль прошла. Дыра в сердце тоже исчезла. Я поняла, что засыпаю, но уже твердо знала, что проснусь другой.
ТЕУН (продолжение записей)
На следующие утро, едва проснувшись, я продолжила чтение записей Теун, которые следовали сразу за копией документов:
«От моих лихорадочных чувств и мыслей звенят оконные стекла: кто-то же должен стоять за этим! Кто-то же должен ответить за гибель моего отца, за истребление моего народа, которое столько лет скрывалось и продолжает скрываться от людей! Я жадно вглядываюсь в лица прохожих, — на них лишь повседневная житейская озабоченность. Будто ничего не было. Что же все-таки иллюзия — прошлое? Настоящее? Или то и другое вместе? И все — таки на редких лицах – таинственный отсвет былого.
***
Мои больные ночные бдения, мои упорные дневные мысли, как потерянные птицы, кружащиеся над разоренным гнездом, образовали, наконец, на дне моего сознания что – то похожее на кристалл. Во все времена – один безумный сценарий: вина негодяев — правителей и горстки алчных политиков каждый раз переносится на народ, безмолвно принимается и искупается им. Порочная кровавая политика единиц правящей верхушки разделяется невежественной толпой и из конъюнктурных соображений – образованными подлецами. Война – это только роковые ошибки и преступления правящих политиков и властей.
Но вина, вина за страшную политику неизменно принимается народом. Им же приносится жертва – самые чистые большие жизни. Бесчисленное повторение распятия Христа, когда всякий раз распинается тело народа.
***
Человечество делится на гонителей и гонимых. История человечества – бесконечные превращения, когда одни и другие меняются ролями.
***
Я только начинаю прозревать. Никогда не могла понять, кто мы такие. Изучая историю всемирную, государства Российского, меня всегда мучил вопрос: где же история моего, кабардинского народа? Я так и не задала этот вопрос учителю, все думала, может, я чего — то не понимаю? Но потом решила про себя, что это просто слишком маленький народ, история которого не так значительна, чтобы попасть в учебники. Прочтя «Герой нашего времени», я очаровалась Бэлой. Как я хотела походить на нее! Каково же было мое изумление, когда позже я узнала, что нынешние адыгейцы, кабардинцы и черкесы – это единый народ, это и есть черкесы с самоназванием адыги, что кабардинцы – это восточное племя одного из 12 черкесских племен. Я почувствовала себя гадким утенком, превратившимся в лебедя.
Еще вчера я не знала, что всех нас с головой погрузили в вакуум, и мы стали людьми без прошлого и будущего, какой-то неопределенной маленькой нацией, у которой остался лишь уклад, но не культура, так как культура предполагает преемственность истории. Но у нас отнято и это: горстку уцелевших лишили исторической памяти. Нас лишили своих мыслей и чувств, мы что-то за кем-то повторяем, и вот таких-то послушных «любят» и тиражируют. Того, кто не вписывается в эти рамки, уничтожают или создают условия для самоуничтожения. Как я могла так долго чувствовать себя – нет, не счастливой, конечно, — относительно благополучной, не прозревая этой страшной правды! Как могли и как могут скрывать её, если завтра все может повториться! Ведь она, правда, все-таки зияет из всех дыр и прорех этого старого грязного покрывала, называемого политикой и официальной историей, которое накидывают на кровоточащее голое тело фактов.
***
Как я была еще вчера глупа, думая, что сегодня война закончилась. Она продолжается. Война, как оборотень, и сейчас являет свои бесчисленные лики: злоба, насилие, ложь, алчность, равнодушие, зависть, — так мы убиваем друг друга, добиваем сами себя. Война мимикрирует, её воплощения бесчисленны, но все они служат лишь одному, — смерти.
Однако война может лишь уничтожить, но не покорить. Покорить можно только сердце, и только — любовью.
***
На чем же замешана наша интернациональная политика? Во время учебы в школе и МГУ я убедилась в её подлинном существовании. Моими лучшими подругами в Москве были болгарка, русская и чувашка.
Когда я пришла в себя после приступа лихорадки в комнате общежития, первыми я увидела голубые заплаканные глаза Нади.
Мы ревели белугами после выпускного, разъезжаясь по домам, и поклялись сохранить наши отношения до конца, потому что таких других больше не будет…Этот интернационализм – истинный.
Но есть другой, с лозунгов, тот, что упорно муссируется и каждый раз поднимается на щит для всеобщего обозрения. Зачем? Может быть, затем, чтобы нивелировать политику старой как мир колонизации? Во все времена нас объявляют «дикарями», которых следует цивилизовать, «националистами», которых надо усмирить, «бандитами и головорезами», которых остается только истребить, чтобы оправдать элементарную примитивную колонизацию. Для овладения землями, морями, торговыми мировыми магистралями, нефтью, лесом, золотом и другими ископаемыми. Затем, уничтожив народ, «забывают» вписать этот факт в историю, а после нарождения нескольких новых беспамятных поколений, объявляют «интернационализм». И это сошло! По крайней мере, сходит!
***
Это всегда было моим внутренним ощущением. Еще точнее — ощущением в цепочке интимной самоидентификации, которая родилась, кажется, с первым вопросом «кто я?»; она продолжается и теперь. После некоторых первоначальных рефлексивных экскурсов я прочно утвердилась в особой ценности любой индивидуальности. Меня всегда раздражали отсылки на достойные образцы для подражания, так как я всегда отказывалась подражать кому бы то ни было. Я ни на кого не хотела походить. В брачном возрасте не желала, чтобы кто-то из возможных детей был моей копией. Я никогда не приходила в восторг от сходства близнецов и никогда не любила любого прямого сходства. Теперь я понимаю, что для меня началом и концом в любой шкале ценностей была индивидуальность – чужая и собственная. Только она вызывала во мне заветную полноту чувств и будила неясную тоску, похожую на влюбленность. Когда я невольно начинала отслеживать истоки этого чуда, называемого довольно банально «яркая личность», для меня просто оживал и становился насущным интерес к семье, роду, национальности. Последняя представляла для меня интерес исключительно художественный: некая природная лаборатория, где при столкновении и взаимодействии таинственных неведомых сил к жизни пробуждаются уникальные феномены человеческого филогенеза. Национальности – это отдельные кладовые, – гетевские праматери, которые ведут тайную непрерывную работу по своим собственным законам, являя свету неповторимые образцы людей и культур.
***
Я вспоминаю то первое, что подсказывает мой скромный образовательный опыт: римские завоевания, покорение Америки и истребление индейских племен, геноцид евреев на протяжении двух тысячелетий, татаро-монгольские нашествия, четырехсотлетнее афроамериканское рабство, победные шествия армии Наполеона, персы и армяне, позже – турки и армяне, Англия и Индия, Франция и Алжир, Турция и Болгария, Англия и Ирландия, нацизм Германии и Италии, российский коммунизм и сталинизм. И это — лишь знакомые фрагменты в вечном обреченном безумии человечества. Неужели из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие ничего не меняется, страшный опыт ничему не учит, и неумолчный гул мирового осуждения и протеста развеивается ветрами, тает облаками, слизывается глухой волной нового времени, и начинается все сначала, и продолжает раскручиваться нескончаемый дьявольский вселенский клубок смерти, кроваво рдеющий на солнце.
***
С некоторых пор меня не оставляет мысль, что все происходящее с нами совсем не случайно, оно приближает нас к какому – то важному открытию или истине… Без этого все события кажутся нелепым нагромождением фактов, наподобие уродливой пирамиды, части которой не спаяны и не подогнаны друг к другу, которая рискует вот-вот развалиться. Любое событие жизни я не воспринимаю как случайное, — это неожиданно попавшееся в руки звено какого-то неведомого целого, которое необходимо постичь. Иногда эти события настолько разные и взаимоисключающие, что кажется, будто они взорвут любую стройную систему. Но их нужно примирить и построить сначала внутри себя.
Вчера слушала патетическую сонату Бетховена: теряющийся полудетский голос, ясный, прозрачный. Он вырывается из мрачных стихий, вопрошает и светиться, и на время подчиняет их.
***
В Австрии, недалеко от озера Нойзильдерзей каждый год вырастают дикие гиацинты и лилии. Нигде в мире и даже Европе их больше нет. А здесь им дает жизнь этот особый, уникальный состав почвы, климат и атмосфера. В искусственных условиях они не выживают, поэтому их тщательно охраняют, а нарушителей штрафуют за каждый цветок. Почему не возведут в закон такое же отношение к каждому народу и к каждому из народа? Как видно, в нашу эпоху растения важнее.
***
Я заперта в своем страшном знании. Самые близкие подруги остались в Москве, те, что оставались дома, стали за пять лет другими. Да и вряд ли я смогу членораздельно им что-то объяснить. Насчет сестры и братьев я связана настоящим обетом молчания. Мне остаются только мои мысли и записи. И еще стихи, которые дают мне необходимую призрачную свободу. Во мне что-то набирается и растет, невесть откуда это берется, будто я концентрирую в себе всю солнечную энергию, и начинает неумолчно звучать тоненькая нота, как предчувствие симфонии. Она бьется незримыми образами, словами, разноцветным хаосом нерожденного нового смысла. А я себя сдерживаю: нет, это только молодое вино, еще не время. Оно во мне томится и бродит. Потом приходит мой час – я всегда узнаю его по короткой вспышке света, когда предметы не меняются, но становятся прозрачными и соединяются тонкими светящимися нитями особого смысла. Во мне разливается упоительная тяжесть, похожая на живое бремя беременности, и тогда я выкладываюсь, рассыпаюсь – в пыль. Не знаю, прочитаешь ли ты когда — нибудь эти строки, сможешь ли ты меня когда-то понять, моя Дина, дано ли будет и тебе испытать это мучительное счастье творчества. Но мне кажется, что мы обязательно встретимся – это и будет мигом нашей настоящей встречи и полного узнавания на росистых золотых лугах свободы.
***
Меня снова охватило появившееся состояние закодированности, движения по невидимой очерченной оси, где каждый шаг заранее предрешен и неслучаен, и приближает к какому-то тайному смыслу, который мне предстоит постичь, увязав все звенья этого гигантского разомкнутого круга. Чем отчетливее я сознаю это, тем больше овладевает мной ощущение собственной цельности.
***
Вот оно, мое «путешествие к центру земли», — я не скольжу, а стремительно проношусь по жутким концентрическим кругам дьявольской воронки, все ниже и ниже. Думаю, это и есть круги ада.
***
Почти все, с кем я общаюсь, нормальны, трафаретно нормальны, (будто с них выводили статистическую норму, которой реально нет), но они пахнут мертвечиной. Один из немногих живых, может быть, самый, — С. М. Только ему и смогла поведать о своем состоянии.
Это была последняя запись Теун. В конец тетради были вложены неотправленные письма и несколько стихов. Судя по датам, те и другие были написаны ею незадолго до обнаружения документов.
«Мне сказали, что я идеалистка. Мне сказали, что три года на расстоянии – нереально. Возможно, я очень наивна, и у меня такое чувство, что я вышла сражаться безоружной против вооруженной толпы. Но что-то в глубине остается незыблемым. Я говорю с тобой каждый день, каждый час, каждый миг. Но рядом тебя нет, и тогда я пишу эти письма, которые тебе не отсылаю. Порой бывает одиноко до слез, и мои слова тонут где-то неуслышанными. Есть твои письма, которые я перечитываю и перечитываю. Но это только строчки, а ты — мираж, нет твоих живых слов, и теряется надежда, что это когда –то будет. В такие минуты мне кажется, что рушится единственная ось, которая меня держала в равновесии, что я соскальзываю с нее и лечу куда- то в пропасть и не за что зацепиться.
Бывают моменты, когда я вздрагиваю, как от удара, когда я сознаю эту нерасторжимую связь. Она укоренилась, отстоялась, проросла в меня до самых заветных глубин, до последней клетки. Иногда это просто теряет остроту, но главное, как томительная, живая, тяжелая плоть, остается во мне и уже никуда не может деться.
Я увидела, что ты светишься сквозь тонкую кожу. Я увидела хрупкость и гордую силу, которая еще не знает своего приложения, и муки роста… Ты не знаешь мою тревожную радость, когда, сам того не подозревая, придаешь острый смысл всему происходящему вне и внутри меня, не знаешь, что в самом отвлеченном предмете, самой далекой мысли живет твое незримое присутствие. В некоторых лицах я вижу твои черты, мне нравятся смех и движения, которые напоминают твои. Я не боюсь уже показаться слабой и потерянной, запутавшейся во всем и самом главном, потому что знаю, что могу быть другой, любой, раз ты во мне и даешь мне силы. Иногда, после работы, я возвращаюсь домой через парк. Он весь –разноголосый хор любви. Я подслушала его. Парк окутан такой тонкой, сиротливой печалью, что кажется, дотронься до её светлого прозрачного тела – и она рассыплется с хрустальным звоном. И все-таки, в сквозных, полуоблетевших кронах теплеет твоя улыбка, и мне кажется: сейчас ты шагнешь мне навстречу из-за ствола того большого дерева. Тобой все звучит, тобой дышат громадные поры леса, ты растворился во всем, в целой Вселенной, поэтому она так трепетно и самозабвенно заключает меня в свои объятия.
***
Ты во мне растешь и ширишься, и мне становится страшно от этого неудержимого роста. Я чувствую себя сильной, огромной, — я ни во что не вмещаюсь. Я теперь вижу, живу, чувствую, мыслю не только за тебя и себя, а за десятерых. И боль, и радость я переживаю так, будто я дошла до возможного предела. Я так явственно и полно слышу, как не слышала никогда. Я слышу шепот из далекого окна. Я вижу затылком. Я так жадно живу, впитываю, вглядываюсь, будто я беззвучный неутомимый насос, и ночью не могу заснуть от непосильного груза дневных впечатлений.
Как огромный локатор, я фокусирую на себе так много граней жизни, так ярко и сильно они отражаются во мне, что меня порой физически не хватает. От меня ничего не отторгается, я понимаю или чувствую первопричину явлений и считаю себя причастной к ней. Мир мне кажется огромным многоцветным ковром, где каждая жизнь, каждое явление составляет штрих, без которого нарушилась бы общая гармония. Я впервые живу на том пределе, который дарит великолепную полноту жизни. Это не экстаз, не момент, это скачок на новый неведомый уровень моих возможностей, которые,- страшно сказать, — оказываются безграничными.
Я поздним майским вечером на балконе. После дождя звенят чисто омытые деревья, последние лучи отражаются на их влажных глянцевых листьях; верхушки искрятся, трепещут. Контуры окружающих предметов обозначились четко, любой стебель, ствол, лист обрел свое лицо. Аромат цветущих деревьев становится резче, томит, волнует. И мне кажется, что жизненная энергия, заключенная в ограниченные формы бурно разросшейся растительности вот-вот прорвет их своим гигантским напором, брызнет веселой мощной струей, стирая реальные границы, потопляя все на своем пути.
Я чувствую, как во мне растет давно знакомое ощущение тоскливого, властного, древнего призыва, который поднимается из самых глубин, что определил, кажется, мое рождение. Если его только можно определить словами, то это жажда сопричастности всему живому. У меня острая зависть к ватаге пробегающих орущих мальчишек, — я хочу быть на их месте. Меня неудержимо тянет к грязной, бездомной болонке, доверчивой и задорной, я с жадным интересом вглядываюсь в черты четырехлетнего черноглазого малыша, слежу за его движениями, — это мой ребенок.
Я вижу закат и его бесчисленные гаммы цветов, медленно сменяющие друг друга, и вот уже на густом сиреневом западе видна узкая розовая полоска, как радостное воспоминание в сознании обреченного. Я – частица заката, затерявшаяся в одном из бесчисленных домов. Вот, кажется, сейчас окунулась бы в это багровое и синее буйство…Зажегся желтый фонарь, он высвечивает тополь у дома, и изумрудную зелень, а наверху колотится по ветру в черном пространстве белый стяг простыни. Я — частица весенней ночи, вездесущая: пробиваю взглядом ночную тьму, наблюдаю рост бактерий земли. Я – лунный луч, скользящий по воде. Я — пульсирующий стебель ночного поля. Мои пальцы – ветви деревьев, ноздри мои – кратеры гор, и мое дыхание согревает стынущие леса, раскиданные за горизонтом. Мне мало границ своего тела. Я – это только миллионная часть меня, я – везде, во всем, во всех стихиях, и все стихии – во мне. Я — вечное движение и обновление, — растекаюсь по земле, внедряюсь в каждую щель, в каждый изгиб.
Прислушиваюсь к неумолчному вечному гулу, — это гудят подземные питающие соки; в них растворилась моя кровь. Я слушаю многоголосый великий хорал – и узнаю в нем песню рождения и песню смерти, песню любви и песню мужества; слышу затихающие аккорды обреченности и неумолчно звенящую струну тоски. Я различаю шелест слез и крик боли, и дремотный шепот трав, капли времени, падающие на корни раненного дерева; слышу, как продолжается огненная пляска солнца, которая еще днем отразилась в воде, и текучий шорох падающих звезд. Я – чуткое ухо земли.
ЧУДО
Была в разгаре радостном весна.
Прохожие смотрели на газоны:
Там зелень пышнотелая цвела
На жирном, свежевзрытом черноземе.
И, распустив клубами свой наряд,
Цветочным ароматом исходила.
И видела то восхищенный взгляд,
То слышала: «Смотри, какая сила!»
А на асфальте, чудом уцелев,
Росток пробился, маленький и бледный.
Он грыз бетон и с болью рвался вверх,
И силы не было на крик победный.
Он выносил мученья от шагов,
И маленькое тело так болело.
Искали люди восхищенных слов,
А под ноги они и не смотрели.
ЛЕРМОНТОВУ.
Впервые на горе за много лет
Увидела твой белый силуэт:
У глаз твоих устало тень легла,
И ветер волосы откидывал со лба,
То рвался ввысь, то уносился вдаль
И нес ту просветленную печаль,
Что на тебе легла. А я …
Я все никак осмыслить не могла,
Как ты прозрен и как проникнут всем,
Живя на свете только двадцать семь.
О, мальчик! О, мудрец! Как худ и бледен ты!
Сойди с той одинокой высоты!
Ты так устал, и грудь твоя пуста,
И эта голая, холодная скала…
Я поняла: он не уйдет из скал,
Он, словно Данко, сердце оторвал
От плоти, и в последний час
Вложил рукою трепетной в Кавказ.
Щекой пылающей припала я к скале,
И чудо дивное вдруг приоткрылось мне:
Два сердца там пульсировали разом, —
То сердце мальчика и моего Кавказа.
***
Скоро свет по земле разольется
И затопит заря,
Утро в сонные окна ворвется
Жду тебя.
Солнце жмурит глаза и смеется,
И дневная жара,
Дождь ли вдруг оголтело польется –
Жду тебя.
Стынет пар, от земли поднимаясь, —
Жду тебя.
И смеясь, и тоскуя, и каясь,
Жду тебя.
И повеет вечернею свежестью, —
Жду тебя,
Со своей нерастраченной нежностью, —
Жду тебя.
Ветер листья на лужи бросает –
Жду тебя.
Плакать мне иль смеяться –не знаю, —
Жду тебя.
Закружусь и забудусь в суетах, —
Жду тебя.
Повторяю два слова эти:
«Жду тебя».
НОЯБРЬ.
Голый остов земли, бесстыдный, нескрашенный,
И остовы листьев, гонимых, безжизненных,
И остовы душ, холодных и ищущих
В последней надежде тепло,
Что является трудно, как новая истина,
В виде слова, костра, человека.
ДРУГ НАШЕЙ СЕМЬИ.
По дороге я вспомнила свой первый визит к нему, тогда я еле переводила дыхание: у него была тетрадь с моими стихами. Для компетентного литературного вердикта отец рекомендовал какого-то профессора, но, едва заметив его на почтительном отдалении, я тотчас же передумала к нему обращаться, сейчас же представив, как он будет вымучивать общие фразы типа: «Это так свежо и интересно, вот только ту фразу отпилить здесь, а эту прикрепить туда…» Тут я вспомнила его, Мусарби Срукова, у которого пару раз оказалась на лекциях (вольнослушателем); одну из них он начал с прелестных никому неизвестных стихов, которые увидел в газете и выучил по дороге. Мое впечатление дополнили рассказы студентов о том, что он мог пролонгировать это занятие на два академических часа с переменой в придачу, и делал это так, что аудитория забывала, зачем пришла. Он экспромтом заменял любых преподавателей, начиная с лингвистов, кончая «зарубежниками».
Поднимаясь по бесконечной лестнице, я называла себя несчастной графоманкой и неудачницей, а оказавшись перед высокой входной дверью, совершила над собой героическое усилие, чтобы не развернуться назад. Я пожалела, что пришла, — он был почти пьян. «Заходи,- и пристально взглянул на меня, но внезапно его красные глаза заблестели слезами.- Подумать только, одно лицо! Если бы у Теун была дочь, вряд ли большее сходство было возможно». Он пристально и оценивающе разглядывал меня. Кажется, я покраснела. «Впрочем, не совсем Теун: в тебе нет её хрупкости… Теун, которая лет пять интенсивно занималась плаванием … или бегом. Это так?» Я кивнула: надо же, прямо в яблочко. Он казался очень гордым от собственной проницательности. «Мы ведь учились с ней на одном курсе в МГУ и были друзьями». В просторной, по-холостяцки неряшливой комнате он усадил меня за стол, сам сел напротив и молчал довольно долго. Пауза стала тяготить, и я приготовилась припомнить какое-то забытое дело, как он спросил: «Чаю хочешь?» Я согласилась. Вскоре он принес два остывших стакана. Мы молча выпили. Мне все казалось, что он вот-вот уснет. Тут он вспомнил о рукописи и принес её. «Тебе нравится заниматься этим?» — спросил он меня, глядя прямо в глаза, и, не дожидаясь, сам же ответил: «Нравится».
– Откуда вы знаете?
— Я увидел это здесь.- Он полистал страницы и куда-то ткнул пальцем.
-Не здесь, и не здесь. Но здесь – возможно
. Он неопределенно покрутил рукой: «Что ж, жаль».
— Жаль чего?
— Жаль, что тебе это нравится…
Он увидел мое лицо: «Не обижайся, ты же видишь… Я порой не в форме. Ты извини».
Я сказала, что пойду, но он запротестовал и заявил, что хочет со мной поближе познакомиться. Не спрашивая, он закурил, и вскоре мы оказались в эпицентре едкого дыма дешевых сигарет. Он пустился в воспоминания, и я вскоре поняла причину его успеха: он был прекрасным импровизатором (плюс к этому феноменальная память и хорошее литературное чутье- это как минимум). Правда, он периодически воспарялся в патетических порывах, — была в нем такая старорежимная черта. Но она его не портила. Его монолог касался забавных случаев университетской жизни. Мы плыли в сизом дыму, и я позволила оторвать себя от конкретного пространства и времени, очутившись в головокружительном каскаде уморительных историй, в которых процент истины в строгом смысле слова вряд ли дотягивал до 10. «Неплохое чувство юмора для «папика», — подумала я про себя, ощущая абсолютную непринужденность. Он прекрасно видел, что я не верю его россказням, но это ни на миг не поколебало артистического запала. Порой я, не сдерживаясь, хохотала до слез.
Внезапно он посерьезнел и без паузы продолжил, — уже по моему поводу: «А теперь слушай: отговаривать тебя я не буду. Это сделают за меня обстоятельства. Может быть маленький сюрприз в виде… ну, скажем, «великой» любви, которая обернется однажды мыльным пузырем. Это могут быть друзья,- похитители творческого времени, или любимый муж, или болезнь ребенка. А адыгский быт? Его одного хватит, чтобы утонуть с головой и не вспоминать о поэзии даже во сне. Но если ты выдюжишь, и успешно, и вступишь в серьезную игру, — станет интересно и даже хорошо… до некоторых пор…Тебя постепенно начнет сводить с ума наша …интеллигенция.
Я помню, когда впервые вступил в национальный храм наук. Я был уверен, что здесь собраны те, что воплощают «разумное, доброе, вечное»и думают только о народной науке и культуре. Знаешь, я ведь действительно встретил таких, правда, единицы, и те стали впоследствии моими друзьями. Они всегда были наивны и трогательны. Но большинство … маляры. Они активно, но незаметно окрашивают репутацию своих коллег в серый цвет. Это необходимо, чтобы на этом фоне стала очевидной собственная несомненная значимость. Этот медленно накапливаемый яд. Любимым развлечением таких вот ученых было обсуждение творческих промахов и неудач своих коллег, в том числе женщин. Войдя в виток доверительного откровения, они начинали оговаривать кроме профессиональных, личные качества женщин, незаметно переходя на интимные, — весело так, беззлобно. Иногда какая — то из «тем» весьма некстати оказывалась рядом, в сизом от табачного дыма лестничном пролете, и тогда мужчины легко меняли ее, перемигиваясь за спиной. Коллега, безмятежно улыбаясь, проходила мимо, оставаясь в счастливом неведении относительно того, что минутой раньше была объявлена очередной Манон Леско.
Меня по — настоящему впечатляли героические интриги и усилия в борьбе за директорское кресло в научных и околонаучных учреждениях, когда порой проигравшая оппозиция подвергалась административным и психологическим репрессиям, вплоть до увольнения. Другие питаются чужими невоплощенными идеями и мыслями, прочитывая неопубликованные рукописи своих коллег, чтобы «рецензировать» их, а потом уверенно выдают за свои. (Питательный бульон для растущей колонии бактерий). Их активная доброжелательность к «донору» может вызвать слезы благодарности. Она совершенно сбивает с толку, так что последнему кажется, что подобный казус с таким золотым человеком не более как совпадение. И он остается в этой томительной уверенности до следующей своей новой идеи.
Но есть еще одни… Эти люди никогда не будут твоими врагами – только друзьями. Они тебя даже будут очень любить – по-разному, весьма разнообразно, скажу я тебе! И только самые умные из них сделают так, что ты потихоньку, незаметно начнешь терять веру в себя. И начнется это с того дня, когда ты спросишь себя: «А действительно ли я тот, за кого себя принимал?»
Он покрутил головой и залпом допил холодный чай. «Они начнут разбирать тебя по кирпичикам, пока не дойдут до основания. А потом однажды глянешь на себя в зеркало – нет тебя! Они будут пытаться найти твою иголку в яйце, а яйцо – в шкатулке, словом, то, что за семью печатями. С каким мучительным сладострастием исследуют они природу настоящего творчества! Но куда им! Пойди, догони ветер, или поймай руками шаровую молнию – убьет! Кончается тем, что они исследуют саму природу носителя таланта. Они проникают в него, узнают его силу, а главное – слабость, разрастаются медленно в теле раковой опухолью, разъедают его с неуклонным неслышным упорством ржавчины, съедают изнутри, как съели муравьи последнего из рода Буэндиа. Они все знают о своем хозяине, могут лучше него самого прогнозировать поведение, быстрее назовут привычки и странности. А то вдруг, на миг забыв бдительность, воспроизведут с пугающей очевидностью одному тебе ведомую забытую подробность». Он встал и принялся напряженно ходить по комнате.
«В обычное время их не замечаешь: в общем они не интересны, и, не задумываясь над их сутью, чувствуешь только мелкое дно и особую силу –центростремительную, направленную всегда только вниз. Да, они муравьи, работяги. Но расхожий мотив их труда – долг! Они тащат его на себе, будь он даже втрое тяжелее их собственного веса. Это – рабы труда без вдохновения. А если оно есть – то только тень живой плоти. Труд со страдальческими бровями Пьеро. Бедняги! Отдаться творчеству, как порыву страсти…- они не знают этого. Они мне кажутся воплощением самого «духа тяжести».
Внезапно он прервался, сел напротив меня и долго изучал мое лицо. Но я знала, что скорее вызываю в нем какие-то ассоциации, и не смутилась. «Игра для них – долг, — продолжил он, — полутона, безмерность палитры жизни – тяжеловесная определенность «черно – белого», порыв чувств – легкомыслие. Их любимый жанр – моралите. Ибо они, да, именно они создают «моральную» твердыню мира с её застывшей, раз навсегда данной постной маской. Они по — своему талантливы, ибо умудряются создать тюрьмы, суды и инквизицию в единственном царстве абсолютной свободы – в мире творчества. Они всерьез расписывают творческие «нормы», принимают, утверждают и способствуют выполнению социальных и политических тем и заказов. Те, кто не вписывается в эти бредовые рамки, объявляется «профессионально и научно несостоятельным», изгоняется из институтов и других заведений. Примерно так ушел я, и не только я. Так самых живых и талантливых убирают их «истинные друзья», доверительно и проникновенно говоря им, что это делается ради «настоящей чистой науки» или «искусства».
Я бы давно заскучала от его затянувшегося, не до конца ясного монолога, если бы не особая сила проникновения его фраз, благодаря которой я запомнила их почти все до одной: «Они очень любят великих мертвецов, в особенности поэтов. Они неистовее всех их превозносят и служат светлой памяти. И они же быстрее всех убивают все живое: у них повышенное чутье на все, что стремительно растет и развивается, — они тихо подкрадываются и незаметно душат, так как служат только памятникам. Ибо их единственная тайная страсть – некрофилия. Места их обитания напоминают кладбища… Знаешь, самая страшная жестокость – жестокость слабых, они вымещают в ней всю ярость своего застаревшего бессилия, начиная с детства, в течении которого их, как правило, все обижали. Но такие слишком хитры, осмотрительны и трусливы, чтобы играть против правил, — их никогда не уличишь. Именно они пришли к реальной власти в 37 году, и, востребованные, с тех пор размножились и утвердились. Это они убили твоего деда. Это они и через них были уничтожены самые талантливые…»
Неожиданно он провел рукой по моим волосам и тут же продолжил: «Их гораздо больше, чем кажется, такая вот… «интеллигенция». Это даже не завистники, которых много. Таких видно, как на ладони. Я же говорю о другом, скорее о тайной касте… духовных убийц… Изощренный дьявольский класс. Чем больше они хотят власти, тем больше в них показного самоуничижения, и они всерьез заявляют, что на них висит тяжелый и ответственный долг. Самые умные из них рядятся в новые живые одежды последних течений и направлений, но даже здесь их отличает солидная тяжелая поступь вселенских роботов — киллеров».
Я все поняла и, дотронувшись его руки, почти крикнула: «Еще не поздно! Для вас – не поздно! Зная все, о чем вы сказали, — вы еще все сможете!» Он тряхнул массивной головой и снова провел мягкой рукой по моим волосам: «А ты не бойся! Не дай себя запугать! А теперь иди. А то ты сейчас расплачешься… У меня ведь еще одна маленькая слабость: не выношу женских слез». Я направилась к выходу, но он меня остановил: «Не дай себя запугать, девочка! Я ведь тоже старый завистник: завидую, — у тебя все впереди. Всякое, но впереди!»
***
Я позвонила. Высокая дверь загремела и отворилась, в проеме я увидела знакомую фигуру. Спустя десять лет, в нем обозначился отчетливый контраст между белой теперь, мелко вьющейся копной волос и смуглым лицом, казавшимся еще темнее. Поздоровавшись с неприличной поспешностью, я сразу спросила: «Вы все знали?» Он смотрел на меня темными, все понимающими глазами и совсем не торопился с ответом, затем спокойно распорядился: « Ну-ка, зайди для начала».
Мы вышли с ним на балкон, отделанный по старому образцу портиками, которые вызывали светлую ностальгическую тоску по претенциозным добротным фасадам 50-60 годов; их наивная помпезность внушала незыблемое чувство спокойной надежности и легкого торжества. Портики были выкрашены в грязно – белый, с изъеденными временем боками. Воздух играл, будто отражался в омытом кристалле, и свежесть солнечного утреннего часа оставляла во мне ощущение новизны. Движение на дорогах было уже активным, улица искрилась яркой зеленью и солнечными бликами, еще не тронутая серой дымкой, которая к полудню замедляла и утяжеляла движение, наливая предметы ртутной тяжестью; дома, деревья, воздух утрачивали радужную искристость, будто невидимый серый язык незаметно слизывал с города краски и запахи, и он стремительно менялся, — старел.
Я отметила пастозность и нездоровую желтизну его лица. Но что-то в смелом очерки полных выразительных губ, глянцевом блеске азиатских глаз было созвучно бесшабашной непринужденности этого утра. Он грузно опирался на широкие перила балкона, повернув голову в сторону гор; их силуэт все еще резко и отчетливо проступал на горизонте широкого проспекта. «Выходит, ты уже все знаешь?» — как бы невзначай спросил он. Я кивнула, не глядя на него. «Не сомневался, что это случится». Я знала, что после бессонной ночи выгляжу не лучшим образом, и со страхом ожидала разговора, в котором мои расшатанные нервы могли дать течь. «Ты знаешь, я – фаталист. Я думаю, что старая Черкесия была воплощенной утопией, которая не выдержала испытание временем, так как была слишком хороша. Если взять другой, почти философский аспект, — то выходит примерно то же, – она прошла свое высшее необходимое воплощение и закономерно сошла с исторической сцены. Помнишь высказывание Гегеля о том, что в череде последовательных ступеней развития, высшая форма бога — духа воплощается в истории некоторых народов. Одним из них был назван черкесский. По Гегелю получается, что мы выполнили свою божественную миссию. Ты никогда не задумывалась над символикой главной вершины?» — «О нет, только не это. Боюсь, уже не осталось места для определений», — поспешно проговорила я, не боясь быть уличенной в отсутствии патриотизма. Он рассмеялся: «Я же не предлагаю тебе пополнить поднадоевшие литературные клише. Кстати, отсюда она и не видна…Но представь себе ее». Он очертил подобие горного силуэта в воздухе и ткнул пальцем в предполагаемую середину: «Смотри! — сказал он с азартом, — Мы где-то на середине спуска с первой вершины». Он заметил мой взгляд и, похоже, сразу оценил всю дозу его скепсиса. «Тебе не нравятся мои аллегории?» — и тотчас же продолжил, не обращая на меня ни малейшего внимания (он явно принадлежал к уважаемой мной категории людей, которым достаточно собственного интереса): «Очень скоро мы окажемся между двумя главами».
— И будет подъем на вторую?- спросила я из вежливости.
— Разумеется, но сначала будет пролог ко второй главе.
— И будет покорение второй вершины?
— И снова будет спуск.- Спокойно продолжил он, — Но кто сказал, что Ошхамахо — единственная вершина? Она просто главная. Будут другие подъемы, вершины и спуски, — и так всегда». Он зашел в комнату и вскоре вернулся со стареньким биноклем. Он долго настраивал его, напряженно всматриваясь вдаль. «Вот она, смотри!- воскликнул он взволнованно, — Её можно увидеть только в такое утро». Он передал мне бинокль. Я уставилась в мутное стекло, пытаясь поймать фокус, и принялась настраивать с пресбиопического плюса на свой миопический минус, и тут вздрогнула от неожиданности: над южной вершиной выступала тонкая белая струйка дыма. Странная и неподвижная, она казалась приклеенной к небу. Внизу тонкая и вытянутая, очень прямая, она затем утолщалась и вверху резко обрывалась, образуя плоский, цвета сажи венчик, вяло шевелящийся в воздухе и незаметно вращаемый ветром. Этот дым напоминал скорее одну из тех слабеющих струек, что поднимаются очень высоко тихим вечером над затухающим костром; и в то же время в нем угадывалась какая-то исключительная живость; форма его – зонтик, раскрытый над опрокинутым, разлохмаченным конусом, как у некоторых ядовитых грибов, — производил тягостное впечатление. Я оторвалась от бинокля, перевела взгляд на М.С. и удивилась его выражению лица: оно медленно расцветало спокойным, откровенным ликованием. Мне стало не по себе, на миг я подумала, что он безумен. Мои тревожные бессмысленные вопросы утонули в таинственном омуте его торжественного молчания. Вскоре этот водевильный душок начал меня раздражать, и я уже созрела, чтобы ретироваться, как он потащил меня на кухню, где под истерический аккомпанемент капающего крана заставил съесть кусок холодной баранины с овощами.
«Я был учеником твоего деда»,- сказал он внезапно. Я уже привыкла к резким сменам тем для нашей беседы, кроме того, в настоящий момент была туго адаптирована и выглядела, кажется, неприлично безучастной. «В этот период, — спокойно продолжил Мусарби Сруков, — Калмыков формировал первые спортивные команды. Мой отец служил при нем, и рассказывал, как он увидел одну девчушку, которая помчалась за теленком. Он поразился её скорости, с которой она его догоняла, и заехал к родителям: надо, мол, девочку записать в спортивный клуб. Родители толком не поняли, что за клуб такой, но отказать не посмели. Именно в этот период в Союзе писателей было объявлено конкурсное стихотворение, посвященное Беталу Калмыкову. По прошествии времени председатель обкома вызвал к себе твоего деда и спросил: «Товарищ Шаоцуков, почему вы не написали конкурсное стихотворение?» — «Потому что не в состоянии выразить величие нашего вождя». – «Мы хотели вас выдвинуть депутатом, но теперь видим, что народ вам доверять не может. А потому мы невольно задаемся вопросом: можем ли мы держать на таком ответственном посту человека, который не пользуется доверием народа?» — «Думаю, что не можете», — ответил твой дед и вышел.
В 1939 году нам объявили, что состоится собрание, посвященное врагам народа. Ими оказались люди, которых я всегда считал друзьями. Под впечатлением этой метаморфозы, я написал стихи, посвященные «врагам» и отнес их твоему деду. Он быстро прочитал их и мгновенно вспыхнул: «Забери их и сожги»,- отрезал он. Я растерянно молчал. «Ты уверен, что они враги?» — спросил он, но я продолжал молчать. «Ты точно должен знать предмет, о котором пишешь. И не просто знать, а становиться им, и проживать его жизнь». Те, о которых я написал, вскоре были арестованы и расстреляны. Был расстрелян первый председатель республиканского Союза писателей, который только образовался, он же – директор НИИ, талантливый, веселый, молодой, его еще рассмешил важный вид типа из НКВД, одного из тех, кто за ним приехал. Был расстрелян другой директор НИИ, творческий, светлый человек, и поэт, который восторженно и искренно писал о советской партии, всецело веря в нее… Расстреляли почти всех составителей нового кабардинского алфавита на основе русской орфографии. Был репрессирован и расстрелян молодой ученый, который перевел с русского на кабардинский учебник географии и еще двое, что составили сборник кабардинских детских песен, — они уже лежали в типографии, но так и не были изданы. Погибли все работники издательства кабардинской газеты «Социалистическая Кабарда», не пожалели даже 23-летнего мальчишку – фотографа. Были расстреляны все составители «Кабардинского фольклора» вместе с добрейшим человеком и удивительным ученым М. Талпой, который перевел на русский все прозаические кабардинские тексты, написал блестящее предисловие, развернутые вводные статьи ко всем разделам, дал подробнейшие научные комментарии и разработал словарь…Были сосланы и расстреляны почти все прогрессивные литераторы и журналисты. Был уничтожен цвет первой национальной интеллигенции. Из неполных 300 тысяч человек, проживавших в нашей республике, было репрессировано 55 тысяч. Те, что случайно миновали репрессий 37 года, оказались в мясорубке 48 – 49 годов. Так что мало кто уцелел из настоящих… Такая судьба постигла балкарскую интеллигенцию, которая появилась на чужбине, так как весь народ был депортирован, и интеллигенцию всей страны». Он помолчал и добавил: «Они все были аристократами духа,.. да, аристократами духа. Они же закономерно повторили участь аристократов. Сломленные и срубленные под корень древа аристократических родов. Зацементированный тысячелетиями уникальный дух и образ жизни черкесской элиты, беспрецедентный по отваге, мужеству и благородству: черкесская аристократия в любых сражениях шла в авангарде. Теперь она навсегда исчезла… И что же теперь?.. Нет, это даже не абсурд… Сейчас снова формируется так называемая «новая элита», — взамен уничтоженной аристократии. Но только теперь уже без памяти: без вековых традиций, без ничего, только с большими деньгами».
-Мы повторили общую судьбу всей страны, — сказала я.
-Все–таки, эта кровавая сталинская машина поработала по территории страны неоднородно. Кажется, больше всех досталось русской интеллигенции. Я думаю, все решалось степенью сопротивления. Резня в Кабарде была самой жестокой на Кавказе, так как она отчаянно сопротивлялись красному влиянию. Были восстания в Большой и Малой Кабарде, народ выходил без оружия, с вилами и лопатами. Но больше всего повлиял на ситуацию Даутоков – Серебряков с шестью отборными полками».
Внезапно он наклонился ко мне и громко зашептал, дыша в лицо дешевым спиртным перегаром: «Я вот что скажу тебе, детка: все может вернуться. История ничему не учит. Настоящая история скрыта и скрываема. Наивным, доверчивым и глупым известна только лицевая сторона. Другую же знают немногие, такие как мы, пьяницы.., это она нас отравляет, не вино… Ты слышала что – нибудь о спец. лаборатории №12 при КГБ?.. Куда делись сотни советских десидентов после первой «оттепели»? Более половины их умерли от «сердечных приступов». Так же, как до них от таких же «приступов» умерли великий Бехтерев и Бандера. Те, что явно выпадают из адской машины под названием «тоталитарный государственный режим», уничтожаются без суда и следствия. Так было всегда, со времен древного Египта и Вавилона, похоже, так и будет. Все повторяется с обреченной закономерностью дьявольского промысла. И в этом шабаше участвует сам князь тьмы… Народ обезглавили, оставив одно неуправляемое тело. Оно, как гидра, размножается вегетативным путем. Правда, в тридцатых и сороковых нами управляла одна голова, страшная, ядовитая… Зато теперь отрастает множество голов, и скоро мы будем напоминать Бляго. Блэ, которое превратилось в бляго! (Змея, которая превратилась в дракона – М. Х.)» Он хрипло засмеялся, и мне снова стало не по себе.
-Почему же они погибли на самом деле? — тихо спросила я.
-Этого никто тебе не скажет, детка, даже те, кто в свое время этим неплохо зарабатывал. Но…- он настороженно поднял палец, — никогда ни с кем не заговаривай об этом, особенно с со взрослыми солидными дядями, похожими на императоров… Это мой совет». Моя голова напряженно пульсировала.
«Вы хорошо помните Теун?» — спросила я. В его лице что-то изменилось. Он долго молчал, и я чувствовала его внутренние усилия, будто он хотел и не мог придать форму тому, что жило в нем. «Она была застенчивая, обтирала углы в незнакомых домах, пока ее насильно не посадишь. И вместе с тем она могла быть категоричной, даже резкой: в любой ситуации сказать все, что думает, встать и уйти. У нее был необыкновенный смех, детский, до слез. И необыкновенный голос, с глубоким тембром. Иногда она заплетала свои косы так небрежно, второпях, с середины длины, и они не расплетались за счет необыкновенно живой пышности. И ресницы — пушистые, до бровей…»
-Бабушкины, — обронила я.
-Однажды она со своей подругой Аишат решили заказать пласированные юбки в центральном московском ателье. У подруги не набралось нужной суммы. Тогда Теун отказалась от своего заказа, и еще извинилась, что у нее нет денег для двух заказов. Потом мне Аишат рассказала об этом случае. Она так и осталась одинокой таинственной незнакомкой… Было что-то в ней необъяснимое…будто она жила на последнем пределе. Надрыва не было, был именно предел. Это пугало… Видишь ли, в мире реальности каждый находит лишь то, что ему созвучно. Для нее реальным и значимым было только справедливое, все остальное она отвергала. Не то, что это было умозрительной установкой неуравновешенной девушки. Проблема заключалась в том, что это было её органичным состоянием. Она заболевала от самой банальной повседневной лжи, по-настоящему худела и таяла на глазах. Такая лакмусовая бумажка, которая выявляет любую фальшь или двусмысленность. Она впервые заставила меня глубоко задуматься над этим редким, почти исчезнувшим феноменом, — нравственным законом. Каким образом он воплотился в этой худенькой высокой девочке с пышными косами и прекрасными близорукими глазами? Только богу известно. Но в ней напряженно жил дух выстраданного, наработанного веками и тысячелетиями категорического императива, негласного кодекса чести, похожего на исчезнувший ныне старый адыгский уорк — хабза. И если те, в ком он еще оставался, смогли его как-то приспособить к убогой и страшной реальности, то она не смогла. Да и не пыталась…»
Он пошел за сигаретами и, не спрашивая, закурил. «Есть люди, которые являются посвященными особого рода, — редких тип жрецов духа. Их называют «не от мира сего», блаженными, «людьми с содранной кожей». Помнишь Русалочку из сказки Андерсена, которая в обмен на возможность видеть рядом возлюбленного принца потеряла голос и обрела ноги, которые при движении причиняли ей боль, будто она ступала по острым ножам? У посвященных, которые владеют тайной жизни, кровоточат сердца. Я узнаю их по особой отметине, — пустынному одиночеству, которое сквозит во всем облике. Они напоминают цивилизации, дошедшие до своего пика. Месопотамия, Византия, Римская и Греческая античные империи, цивилизации Майи и Инков, и множество других разрушились потому, что оказались совершенны для этого мира первобытного хаоса. Есть некий всесильный закон, который заключен в невидимом балансе между низменной аморфной энергией и высшими формами, которые расцветают на обильном черноземе этого хаоса, как роскошные редкие цветы… Знаешь, ведь она уничтожила все свои стихи».
-В её архиве осталось несколько…
-Очевидно, она о них забыла.
Он снова надолго замолчал. Его полные темные губы складывались, чтобы что – то произнести, но он не решался. Внезапно М. С. громко сказал: «Ты должна это знать: как-то мы оказались втроем, — Лева, Мага и я. Выпили. Вспомнили о Теун. И тут я сболтнул…» Он наклонил голову, а когда поднял, его глаза блестели слезами: «Я сказал им о документах, которые она нашла и из-за которых, возможно, погибла… Никогда не забуду их лица в этот момент… Позже я узнал, что они потребовали их от своей матери…Так что они тоже их прочли, эти проклятые документы, — и Лева, и Магомед. Никогда себе не прощу!» Он встал и вышел из комнаты.
Внезапно на меня накатил очередной приступ дурноты, начинающийся со странного пробирающего холодка на спине, который на легких паучьих лапках перемещался к сердцу и, вызвав перебои, обрывал его, погружая тело в липкий вакуум. Состояние походило на затяжную прострацию. Я на неопределенное время оказывалась в пространстве замедленного немого кино начала века или какого-нибудь постмодернистского романа, или того же коллажа с сюрреалистическим нагромождением незнакомых чуждых предметов, нелепо наваленных на всем обозримом пределе; мое тело обретало необыкновенную легкость полого шара и в сонном оцепенении парило между ними. Все это время я видела побледневшее серое лицо М. С. с беспомощным взглядом. Внезапно в черной пустоте моего соматического космоса, схваченного со всех сторон реберной решеткой, раздался первый удар; мираж начал истончаться и таять, а пространство – наполняться звуками. «Что же ты, детка?»- беззвучно шевелящиеся губы М. снова зазвучали. Я оказалась полусидящей в кресле. «Разве можно так пугать старика?» — «Со мной последнее время такое случается», — прошелестела я непослушным ртом; инородный язык двигался тяжело и неуклюже. Остатки страха еще гнездились в уголках его горячих азиатских глаз и полных губ с темной отчетливой каймой.
«Девочка, — сказал он глухо, почти неслышно, — давай с тобой договоримся: продолжи старую притчу из вашего семейного архива на современный манер. Обращай внимание на то, что оставило в тебе след. Это будет нашим профессиональным контрактом. Идет?»- и он подал мне свою полную смуглую руку. «Идет», — и я пожала её. Разработанный накануне моего визита тонкий дипломатический ход был предметом моей тайной гордости. Теперь я о нем вспомнила и обронила, что знаю о том, что Левины выписки из архивных документов КГБ хранятся у него. На самом деле это были мои предположения, я просто сыграла ва-банк. Перед уходом он неохотно отдал их мне. «В роду твоей матери есть одно уязвимое место, — сказал он и смешно приложил свою пухлую руку к левой стороне груди,- помни об этом и береги себя». Он настаивал меня проводить. Но я подумала о том, что он так и не протрезвел до нужной степени, и отказалась.
***
По дороге я развернула архивные материалы НКВД на моего деда, переписанные рукой Левы, — те, что были добыты мной у Мусарби С., раскрыла и прочитала:
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ШАОЦУКОВА А. А.
…Будучи в 1932 году инспектором Районо, Ш. высказывал антиколхозные настроения. Ш. имел связи с участником ликвидированной в 1937 году контрреволюционной буржуазно-демократической организации – Алоевым Д.
Арест врагов народа в 1937 -38 гг. он рассматривал как уничтожение передовых слоев общества – молодежи. Выражая взгляды буржуазной интеллигенции, Ш. в близком кругу высказывал в 1938 году антисоветские настроения, он заявлял: «Я уверен в том, что… если бы у нас существовала действительная свобода, .. можно было писать то, что хочется сердцу».
…Думают ли руководители Советской власти методом запугивания и беспощадного подавления всякой живой мысли сделать что-либо полезное для России.
Ш. открыто говорил: «Сейчас, после Октябрьской революции, несмотря на законы и конституцию, еще продолжаются притеснения нашего народа».
Другой обвиняемый Б. на допросе 20.6.43.г. показал: «Ш. являлся непосредственным организатором и руководителем нашей организации…» Б. далее показал, что Ш. и А. являются старыми буржуазными националистами бывшей группировки Калмыкова. Ш. не ставил грани между Советским правительством и русским царским самодержавием.
По имеющимся данным в 1941 году, под Киевом с группой бойцов Ш. попал в плен к немцам и, будучи в немецком плену, умер от истощения.
Зам. министра госбезопасности КБССР — подполковник Х.
Я открыла другую страницу Это был пожелтевший лист бумаги. «Тамга рода Шаоцуковых», — было выведено сверху левиным почерком. Внизу по центру стоял родовой знак, напоминающий символ параграфа. Я с изумлением вглядывалась в знакомый узор, простой и сложный одновременно; все школьные и студенческие тетради были испещрены им. Каким-то чудом он выплыл из небытия забвения фрагментом бесконечной цепи: гибкая пластика латинского S, тайна, заключенная в двух разнонаправленных полукружиях, спаянных единством. Звенья обрывались, но странным образом перетекали одно в другое, и вместе с тем, независимые друг от друга, бесконечно повторяли один рисунок, снова и снова отражая переплетения судеб безымянных бессчетных поколений одного из моих родов; они причудливо изгибались, но были едины в заданном направлении. Я не могла себе объяснить, как стало возможным, что, не зная, я угадала свою тамгу. Моя независимо движущаяся рука бездумно чертила на полях легкие знаки, которые, вновь и вновь соединяясь, превращались в некое подобие тайнописи, через которую вселенная безмолвно диктует свой текст, водя рукой посвящаемых.
ВОСПОМИНАНИЯ
Я машинально шла в сторону дома. Моя голова напряженно пульсировала. Ни я сама, никто в моем окружении ни на минуту не мог усомниться в совершенстве советского строя, который я в буквальном смысле с удовольствием воспевала в детском и юношеском хоре. Мы знали все его величие и очевидные преимущества. Мы выросли с сознанием своей особой избранности и полной признательности Советам в нашем благополучии, и моя мама в приливе благодарности любила повторять: «Кем бы я была без советской власти?.. Да никем… Я ей всем обязана…»
Ясный солнечный образ родного отечества в моем сознании стремительно помутнел. Теперь он начинал походить на двуликого Януса, темная сторона которого только сейчас стала обретать смутные контуры. Я вспоминала спокойные сдержанные рассказы бабушки, которые мне казались просто сказками – о – людях, эмоциональные завораживающие картины рассказов Жанос, больше напоминающие фантасмагории, обрывки разговоров многочисленной родни, которые я тоже считала скорее женскими досужими разговорами, результатом расшатанных нервов. Все эти разрозненные воспоминания пребывали, как выяснялось, на самом дне моего сознания в глубокой спячке, а теперь, разбуженные, оживали и, спрессованные временем, плотно закручивались в одну длинную спираль, напоминающую модель молекулы ДНК. Несвязанные фрагменты информации, воспринятой в разное время, складывались теперь сами собой разноцветными кусочками мозаики в определенный рисунок. Только сейчас я начинала понимать свою необъяснимую холодную отстраненность и равнодушие, которые ощущала от восприятия всех парадных проявлений социализма, начиная от школьной «Зарницы», кончая длинными подробными трансляциями съездов партии по всем средствам коммуникаций. Для меня стала различима нескончаемая багровая дорожка, которая тянулась из-за невидимой дальней точки черного горизонта.
Я вспомнила о далеких предках бабушки, которые погибли совсем юными на правобережье Малки; тогда в 1779 году в течение одного сражения Кабарда лишилась почти всех молодых аристократов, что шли в авангарде войска. Теперь в этом месте вырастал высокий рукотворный каменный курган, и многие наши родственники со стороны бабушки ежегодно ездили туда, наряду с другими потомками погибших.
Вспомнила услышанный рассказ от кого – то из своих теток о двух близнецах из отряда Хаджи – Берзега Герандука, которые были убиты в одном бою при разных обстоятельствах, но после смерти приняли одну позу; самого же предводителя воины перед боем привязывали к седлу, — он был без руки и без ноги.
Из моей памяти всплыл рассказ — воспоминание о предке Пшикане, который, возвращаясь из зейко (военный поход, наездничество) встретил по дороге длинную вереницу соотечественников, отправлявшихся в Турцию. Он горячо убеждал их остаться, однако не убедил. Доехав до дома, собрал вооруженный отряд и нагнал беженцев.
-Эй, Даутоко! – крикнул он самому влиятельному из них, который поднял целый аул. – Ты помнишь, как мы отбили твою сестру от похитителя, которого ты для нее не желал?
— Помню, Пшикан.
— Значит, ты помнишь, что я потерял в перестрелке своего человека.
— И это помню, Пшикан.
— Тогда я не потребовал с тебя ничего, сам заплатил семье погибшего.
— Я никогда не забуду этого, брат.
— Этот человек был свободного сословия, да к тому же уорк. А потому это был дорогой выкуп.
— Я знаю это.
— А теперь я требую его с тебя, Даутоко. Отдавай мне шхауасэ (выкуп) за моего человека.
Пшикан с вооруженным отрядом перекрыл дорогу Даутоко. Большой выкуп, который потребовал Пшикан, не под силу был беженцу, оставившему почти все свое имущество. Затевать вооруженный конфликт Даутоко не мог, — с ним были женщины и дети. Проклиная Пшикана, он вынужден был вернуться со своими людьми домой.
Вспомнила рассказы бабушки о том, что какие — то властные люди из красных забирали молодых уорков, и они проезжали на своих белых, вороных и буланых хуаре — конях мимо затемненных всевидящих окон домов, отразившись в них последний раз тонкими и прямыми, как струны, в праздничных черкесках. Больше их никто не видел.
Сельские старики рассказывали отцу в моем присутствии о знаменитом абреке Кертове Исмеле, который с 600 – стами всадниками воевал против коллективизации. Он сумел вернуть с рынка украденное в его отсутствие стадо баранов, принадлежавших ему. А позже догнал машину «черный ворон» и вывел из нее беременную жену, арестованную по приказу Калмыкова. После рождения ребенка Калмыков прислал подарок для новорожденного и его матери. В конце 30-х годов Кертов был расстрелян органами НКВД. Местная газета ограничилась маленькой заметкой о том, что наконец пойман и расстрелян известный бандит. А в Италии был снят фильм о нем, как о герое, возглавившем последнее антиколониальное восстание.
Вспомнила рассказ о близком соседе в ауле бабушки, который сдал все свое имущество и стада в 1917, а к 1937 снова был богат, так как работал со всей своей семьей с утра до ночи, и в этом же году в цветущем колхозном саду был расстрелян его 87-летний отец, а он с двумя братьями сослан в Сибирь, откуда вернулся только средний.
Вспомнила о другом, у которого было 1000 баранов, и когда один околел, он купил недостающего на рынке, — не к лицу было сдавать советской власти 999. Его младший брат, франт, правил собственным фаэтоном, запряженными резвыми гнедыми, в безукоризненно белых по локоть перчатках, с румяным лицом и тремя родинками на левой щеке. Он дарил девушкам веера, расшитые его сестрами изысканным золотым шитьем, нарукавники, футляры для ножниц и для часов. Эта семья приютила мальчика – сироту, который вместе со всеми работал, ел и спал. Но позже мальчика принудили написать, что хозяева использовали его батрацкий труд. Братьев вывезли в товарняке вместе со скотом, и никто из них не вернулся. Вдову старшего с тремя дочерьми раскулачивали пять раз; последний раз снесли крышу и сорвали стеклярусные бусы с шеи пятилетней девочки, и зимой на всех в доме падал снег; и средняя девочка заболела и умирала на единственной оставшейся скамейке. Под скамейкой сидел теленок, которого она гладила. Но за теленком приехали красные в бричке, и мать умоляла: «я сама приведу вам теленка после смерти дочки, это все, что ей осталось», но они все-таки увели и теленка. А две другие девочки целым днями сидели у ручья, который пересекал соседний плодоносящий сад, и просили: «Ялахъ, Ялахъ, зы мыарысэцук къыдэт!» (Аллах! Пришли нам одно яблочко!)
Вспомнила о каком — то дальнем родственнике моего отца, у которого три раза забирали «лишнюю землю», — гектар прекрасного сада; его вырубили и пустили под колхозное поле, и оно вскоре перестало плодоносить.
К нам часто приходила мамина подруга, преподавательница университета, приехавшая из Средней Азии, улыбчивая, застенчивая. Я хорошо помнила ее рассказы о жизни в ссылке. В детстве она была очень худой – не могла адаптироваться к жаркому климату и почти ничего не ела. Летом приходилось бегать по улицам бегом, так как обуви не было, а на пятидесятиградусной жаре горели подошвы. Их подкармливал медом ссыльный пожилой кабардинец, статный, подтянутый красавец, из Абзуановых. Его назначили пасечником, и он должен был отчитываться за каждый грамм меда. Ссыльный князь крупно рисковал, когда после каждой первой выжимки собирал соседских детей из репрессированных, наливал им в огромный плоский таз мед с палец толщиной, и дети черпали его своими деревянными ложками.
Она рассказывала, что испытывала невыразимые мучения, когда ей расчесывали длинные густые волосы, которые сначала мыли прогретой на горячем солнце сывороткой, а потом обильно смазывали керосином, чтобы не завелись насекомые, — мать и бабушка слушать не желали, чтобы отрезать косы. Когда девочка очередной раз плакала, не желая расчесываться, мать пообещала в обмен на болезненную процедуру какой-то сюрприз. Им оказалась книга родного кабардинского поэта, которую мать каким – то чудом раздобыла в местной библиотеке. Автором оказался отец моей матери, А. Шаоцуков. Малышка на следующий же день принесла книгу в класс и сказала, что у кабардинцев тоже есть свои поэты. Вскоре все узбекские дети знала наизусть переведенные на русский кабардинские стихи.
Ее бабушка Лафишева жила одной мечтой – умереть на родине. Однажды, решившись, она нелегально выехала, — отправилась на перекладных на Кавказ. Паспорта репрессированным не выдавали, чтобы они до конца положенного срока находились на спец. поселении. До Кабарды она добралась благополучно, но, уже находясь дома, вынуждена была скрываться от властей, и попеременно жила у своих родственников: в Нальчике, Баксане, Псыхурее. Но кто-то донес в милицию, что живет старушка без документов. Бабушку арестовали и посадили, а через месяц под конвоем отправили с семьей назад в Узбекистан. Там же она вскоре умерла и была похоронена.
Мамина же подруга рассказала мне о своих соседях по ссылке. Мать этого адыгейского семейства была очень слаба, — так и не привыкла к жаре. Когда же она получила извещение о смерти своего брата, и у нее отказали ноги. Стояла 40 градусная жара, женщина все время просила пить, а арык находился в километре от дома, и две старшие дочки, десяти и шести лет, бежали до арыка за водой с единственным ведром. Возле источника скапливалась масса народа, и девочки, пока ждали очередь, изнывали на жаре. Они с трудом вытаскивали из колодца тяжелое ведро, которое поднималось бесконечно долго, так что за это время вода успевала нагреться, и сами выпивали чуть ли не половину, но не напивались. Пока они бежали домой, спеша напоить больную мать, остаток воды расплескивался, и они приносили четверть ведра. Мать отпивала несколько глотков («она уже совсем теплая») и протирала лицо. Так же, как все остальные, дети должны были выполнять дневную норму по сбору хлопка, вставали в шесть и работали весь день на бескрайнем хлопковом поле. Материнскую норму выполняла старшая десятилетняя девочка, которая работала наряду со взрослыми. К ним был приставлен надсмотрщик, который хлестал отстающих и опоздавших. Ничто не учитывалось, — ни болезнь, ни возраст. Однажды он ударил плетью старушку, и тогда муж больной женщины, широкоплечий гигант, замахнулся вилами на надсмотрщика: «Еще раз ударишь, — и я тебя убью», тот ни на шутку испугался, стал поосмотрительнее.
Среди ссыльных самой большой драгоценностью была вода с родины. Ею бредили больные, она снилась во сне. Воду присылали флягами одному ссыльному из самого Зеленчука, ее тайно высылала сестра, передавала со знакомым машинистом железнодорожного состава. К нему выстраивалась длинная очередь соседей. Он угощал казаков, украинцев, всех ссыльных с несметных окраин страны: «Пейте, пейте, дорогие, такой воды больше нет в целом мире!»
Однажды мы с братом отказались от рыбьего жира, и отец рассказал нам историю про своего ленинградского преподавателя – филолога Вайнера, который сидел в Соловках. Он был небольшой, но нехрупкий. Политических подселяли к уголовникам, так же обошлись с Вайнером. Сокамерники каждый день его избивали, били лежачего, ногами. Но он каждый раз вставал на ноги, даже тогда, когда был почти в бессознательном состоянии, держась за стенку. Профессора поместили в лазарет, он с трудом оправился. Его вернули к уголовникам. Но с тех пор он был в авторитете, и его никто не трогал. Жена ему часто присылала посылки, но они никогда не доходили до адресата. Тогда Вайнер попросил присылать ей только рыбий жир, на который никто не посягал. Благодаря ему профессор сохранил здоровье.
Вспомнила рассказ наших знакомых из села, которые когда – то давно вселились в конфискованный дом, по тем временам очень добротный и просторный. Однажды к калитке подошла прилично одетая старушка. Смущаясь, она объяснила, что жила в этом доме до выселения, и теперь он ей все время снится – до сих пор. Она обратилась к хозяевам со странной просьбой: «Мне ничего не надо, только заночевать под старой грушей». Хозяева просили заночевать в доме, но она отказалась. Наутро старушка поблагодарила хозяев, ушла и больше не возвращалась.
Вспомнила рассказ о другом, у которого расстреляли отца, владельца железнодорожной ветки, и конфисковали имущество. Вся его семья погибла, но сам он успел скрыться в горах. На протяжении всей жизни он хвалил вождей в период их правления и ругал, когда они умирали. Он так привык к страху, что продолжал бояться по привычке, даже когда ему уже реально ничего не угрожало.
Бабушка рассказала мне о судьбе некоторых женщин своего и окрестных аулов, которые позже, когда я подросла, были дополнены страшными подробностями кем-то из ее родственниц. Всех женщин княжеских и уоркских родов в какой – то день согнали к одному сараю на самой окраине аула, в котором их насиловали, а потом ставили к краю предварительно вырытой ямы и расстреливали. Из них уцелела одна, которая приглянулась офицеру и позже стала его женой, за что он был разжалован и с позором изгнан из рядов Красной Армии. Его самого сослали в 37, и он не вернулся. Вскоре ей помогли нелегально эмигрировать во Францию, где она стала процветать: открыла доходный салон по пошиву модной одежды. Однако жестокая ностальгия по родине заставила ее порвать с благополучным существованием и вернуться на Северный Кавказ под чужим именем. Вдовствующая княгиня повторно вышла замуж после войны, за потомка рода Гелястановых, который тоже скрывался под вымышленным именем. Но год спустя, в 1948 её второго мужа разоблачили и арестовали, а впоследствии расстреляли. Она умерла на родине, в нищете.
Друзья моих родителей, русские, во время поминок маминого отца, моего деда, тихо сказали: «Этот режим под каток пустил всех без разбора, и русских положил чуть ли не больше, чем во вторую мировую». Они рассказали о своем отце, которого депортировали в Астрахань на корабле. Он все время наблюдал за женой, которая держала на руках умирающую дочку. Женщина все время смотрела на воду, чтобы не повернуться лицом к людям и не обнаружить страдания. Внезапно ее спина стала содрогаться: она беззвучно рыдала над умершей девочкой. Если бы она выдала себя – тело ребенка тотчас выбросили бы за борт. Жена просидела неподвижно до самой ночи, плотно прижимая к себе тело ребенка. В темноте, когда все заснули, отец вытряхнул из большого сундука необходимые вещи, вырвал из рук жены тело дочери, положил его в чемодан, придав ему положение зародыша в утробе, но чемодан не закрывался, тогда он с силой надавил на крышку, так что кости громко хрустнули.
Сестра моей бабушки, сохранившая редкую память, назвала однажды всех братьев одного родственного рода Коновых, которых арестовали и расстреляли с сыновьями в течении нескольких дней: Бачмырза, Тлекеч, Дзадзу, Беслан, Тепсаруко, Хажмуса, Алихан. Двух братьев из рода Муртазовых и их сыновей расстреляли в один день. Несовершеннолетним мальчикам из знатных семей приписывали года, доводя возраст до нужного предела, и отправляли в лагеря. Так, направили одного в Соловки в отсутствие матери, а когда та вернулась, то слегла с горя и больше не встала. Перед смертью сказала: «Если сын когда – то вернется на родину, я хочу, чтобы он у моей могилы станцевал кафу. Я услышу». Ее сын вернулся тридцать лет спустя, но таким больным, что танцевать ему так и не пришлось.
Многих подростков скрывали на чердаках и подвалах соседи, а позже помогали бежать за пределы республики и страны. Дочери княжеских родов, оставшиеся на родине, меняли фамилии и также, как все другие женщины, весь световой день отрабатывали свои трудодни за 37 рублей в месяц. Как другие матери, они рыли для своих маленьких детей глубокие ямы, чтобы те не расползались, застилали их соломой и оставляли малышей и грудных детей в одиночестве, пока сами проходили мили, пропалывая колхозные грядки. Одна мать оставила в яме маленькую дочку, а вечером нашла её, онемевшую от ужаса; прошло время, но девочка так и не заговорила. Так же, как другие женщины, они во время Второй мировой войны распахивали колхозные поля на коровах. Среди коров попадались умные, которые хорошо помнили о своем истинном предназначении и не соглашались с тяжкой навязанной ролью. В семье наших родственников была такая буренка. Когда ее запрягали, она садилась. Ее били, стегали кнутом, — она не шевелилась. Вставала только тогда, когда распрягали.
Во время репрессий было уничтожено большинство княжеских и уоркских родов, почти все их фамилии исчезли. Лишь некоторые потомки были разбросаны в Средней Азии, Закавказье, северной периферии России, и небольшая часть проживала за границей.
Помню, как бабушка однажды сказала в сердцах, когда её кто-то обсчитал: «Раньше, например, считалось за честь вернуть потерянные золотые часы. А теперь за честь их присвоить. После семнадцатого, когда к власти пришли другие, и честь стала другой. Теперь в почете ловкие, те, что
лучше других могут провести, чтобы любыми путями обогатиться. У русских есть хорошая поговорка: «Барин уехал, а ливрейный холоп решил заменить его».
Я вспомнила чей-то рассказ о двух дальних родственниках, что чудом уцелели на родине. Один из них, 17-летний, находился в тюрьме за конокрадство отца, когда были арестованы и расстреляны все члены его семьи. Теперь он доживал свои дни в самом отдаленном районе города. Другой, из рода Тамбиевых, разругался с властями и не получил обещанной квартиры. Он прожил всю жизнь в маленькой комнате молодежного общежития, выстроив непроходимые стены из своего одиночества.
Вспомнила, как всего неделю назад мой молодой родственник при встрече покачал головой и обронил, говоря о своей родне: «Нынче из Хамурзовых почти никого не осталось…»
— Из каких Хамурзовых?- удивилась я.
Он странно посмотрел на меня и спросил: «Выходит, ты ничего не знаешь?» И попытался перевести разговор в другое русло. Но я упорствовала: «Расскажи мне все, я имею права знать…» И он рассказал, что после революционных репрессий и массовых расстрелов уцелевшие представители одного из наших родов поменяли свою настоящую фамилию на «пролетарскую». В тот же день я пошла к своей пожилой родственнице: «Кто тебе сказал?» — осведомилась она и неожиданно расплакалась. «Может ли это быть?» — твердила я. «А как ты думаешь, разве могли отдать за неровню твою прабабушку, урожденную Кунижеву? Раньше такого не допускалось. Весь род сослали в Среднюю Азию, ни один не вернулся». Она продолжала беззвучно плакать. «А Лиуан, твой дядя, – вылитый Тембот. Такой же красавец». Она говорила так, будто все они были живы. Позже я выяснила, что Тембота расстреляли в «чистке».
Его отцу сказали перед высылкой : «Возьми только самое ценное». И старик вывел своего коня. Но коня конфисковали.
Вспомнила своего приятеля, юношу — фольклориста, который поехал собирать сведения и фольклорные записи у бабушки — кабардинки, которая доживала свой век в захудалой деревеньке на Ставрополье. Она оказалась последним отпрысков Наурузовых. Когда он заговорил на кабардинском, старушка заплакала: «Бог услышал мои молитвы и послал тебя, мой мальчик! Я уже не надеялась услышать родную речь!» Она рассказала все, что знала и следующей ночью умерла. Ее единственная дочь оказалась невменяемой – ушла в запой. Юноша кинулся искать муллу, — среди православных такого не оказалось. Тогда он срочно позвонил братьям в Кабарду, те выехали со священником и через несколько часов были на месте. Они сами похоронили старушку по адыгскому обряду, строго соблюдая этикет. Соседи удивлялись: «Мы думали, что она одинокая, а оказалось – столько родственников!» На сороковой день он справил саадака, объехал с жертвенными кулями всех своих друзей и близких.
Восьмого марта 1944 года балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей, без объяснений изгнали и увезли в Среднюю Азию. Людей грузили в вагоны для скота. От родственников и друзей – балкарцев я знала, что во время долгого мучительного следования часто умирали старики, дети, больные, их трупы на ходу выбрасывали из поезда. Во время эпидемий путь вдоль железнодорожного полотна был усеян трупами. Переселенцев селили в бараках, которые кишели клопами. Это были хитрые твари: они исчезали, когда зажигался свет, и мгновенно появлялись, когда его тушили. Однажды применили дешевые ядовитые инсектициды, в результате некоторые люди умерли от отравления, а клопы остались. У одной девушки – балкарки, поселенки, которую поставили сплавлять лес, были прекрасные волосы, которые она заплетала в косы. Однажды бревна разошлись, и она провалилась в ледяную воду. Бревна сомкнулись над ее головой, но защемили волосы, они остались на поверхности. Девушку вытащил за косы старик, которые с ней работал. Другая молодая женщина работала на лесоповале. Она присела за дерево справить нужду, в нее стали стрелять. Она чуть не поплатилась жизнь за свою опасную стыдливость: нужду можно было справлять во время работ только в положении стоя. Женщину спас ствол дерева.
Самые сильные мужчины в ссылке занимались тем, что долбили замерзшую землю для могил. Землю долбили по несколько дней. Могил нужно было очень много, особенно для первой волны поселенцев, — для них была домом голая тайга. Обычным промыслом для женщин и детей (с 10-летнего возраста) был сбор личинок муравьев, а летом – сбор ягод. Сильных молодых женщин определяли на лесоповал.
Вспомнила недавнюю научную конференцию в Абхазии, во время которой я познакомилась с известным ученым из Москвы, — пожилой женщиной — даргинкой. Она единственная пустилась исследовать древние руины резиденции абхазских царей 10 века в Лыхны, с молодой энергией увлекая меня за собой. От тонкого лица с изысканными чертами, тонкой, высокой фигуры, исходила величественная женственность и несломленная сила, которая странным образом сочеталась с хрупкостью. Поднимаясь по широкой парадной лестнице в конференц — зал, я увидела ее впереди себя, неспешно шествующую и прямую, и смогла оценить ее стиль, равнозначный непреходящему, острому еще вкусу к жизни, к женской жизни: черная шелковая юбка в широкую складку с разрезом, в узком проеме которого мелькали стройные ноги, обутые в лакированные, с закрытым носом, черные босоножки на низкой шпильке. В короткой частной беседе я узнала, что род ее отца был уничтожен до последнего человека. В 1937 году был расстрелян отец, видный даргинский ученый, проживающий в Москве. Он выучил племянника, — тот закончил юридический факультет МГУ, превратившись вскоре в преуспевающего молодого специалиста. Вскоре он переехал во Владикавказ, женился, но был арестован и расстрелян. Она сказала об этом скупо, почти сухо, будто все еще иссушала собственную неизбывную боль, давно изгнанную за пределы сознания.
Тогда же я познакомилась с милым, интеллигентным человеком, потомком репрессированных кумыкских князей, мать которого оказалась ссыльной черкешенкой, депортированной в 30-е годы в Дагестан. Он поведал о воспоминаниях своей матери, когда ее, сонную маленькую девочку, спешно волокли ночью по снегу к ожидавшей повозке, на которую погрузили лишь необходимый скарб, и она впервые увидела, как плакал отец, которого тогда же сослали. Из ссылки он не вернулся.
Вспомнила оброненную фразу матери: «Надо же было уничтожить одних, чтобы пришли другие, ненастоящие. Нарождается новый небывалый класс господ, только теперь уже это – не аристократы, в них больше нет былых древних традиций и былой культуры, корень перебит… Именно поэтому они, возможно, и неуничтожимы…Они никому и ничему не принадлежат, только себе… Перекати – поле…» Я запомнила недоумение, почти растерянность на ее лице от этих мыслей вслух.
Вспомнила недавнюю передачу о шести братьях — бесленеевцах, бывших владельцев одного из адыгейских аулов. Их репрессировали и разослали в шесть разных окраин страны. Когда началась Вторая мировая война, все они записались добровольцами на фронт и прошли через всю войну. Одного из них дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но после долгих проволочек заменили звание на орден.
Вспомнила, что моя пожилая родственница, которая уже ничего не видела, продиктовала на память фамилии и имена 28 мужчин нашего рода, что воевали во Второй мировой. Из них не вернулись 13. Из этих тринадцати 11 были неженаты. Теперь она, спотыкаясь от слепоты, безрезультатно обивала пороги всех общественных инстанций, добиваясь для них памятника в своем селе.
Вспомнила о недавно установленном памятнике в черкесском ауле Бесленей, который отразил облики детей блокадного Ленинграда. Тридцать восемь сирот, опухших от голода, приютил по домам этот аул, и они стали родными детьми для каждой из семьи, еле сводящей концы с концами. Там же жили русские люди, нашедшие кров после гражданской войны, они уходили на фронт из этого аула, своего нового дома, и когда они не возвращались, их оплакивали, как родных детей. О них слагали песни: «…Их глаза походили на чистое небо весны…»
Мне рассказали об одной многодетной вдове из рода Карабугаевых. Ее мужа расстреляли по доносу, вместе со многими другими. Она знала только, что фашисты накануне выкопали яму, а после расстрела свалили в нее все тела. Вскоре услыхала от людей: вроде на пустыре, на окраине соседнего села. Вдова взяла сани, лопату и пошла со старшей племянницей наугад, нашла захоронение по рыхлой земле, еще чернеющей на белом снегу. Женщинам приходилось ходить несколько дней подряд, копать стылую землю и перемещать неподъемные закоченевшие трупы, пока они не нашли тело. Они откопали и убитого соседа, погрузили мертвых на сани, привезли домой, обмыли и захоронили по всем правилам на родовом кладбище.
Я вспомнила брата моего деда, который так походил на его фотографии, сухопарого, с яркими голубыми глазами и неизменной белозубой улыбкой. После немецкого концлагеря, из которого он бежал, его выслали в Сибирь на 25 лет. Он вернулся в срок и привез жену — сибирячку, которая спасла его от голодной смерти.
Я почти ничего не знала о своем деде – коммунисте, возглавлявшего СЕЛЬПО, который три раза записывался на фронт, несмотря на бронь, и погиб во Вторую Мировую. Он оставил жену и семеро детей, из которых старшим был мой отец, — его назвали в честь русского друга дедушки. По ночам отец, который был подростком, с другими соседскими мальчишками воровал кукурузу и арбузы на колхозных полях. Это была смертельная охота, — сторожа стреляли на поражение, так отец потерял двух своих друзей, но благодаря ему семья выжила в послевоенный голод. Отец, немногословный и сдержанный, лишь однажды рассказал нам, увидев, что мы с братом оставляем недоеденный хлеб, как он студентом каждый день терял сознание от голода и едва не умер в послевоенном Ленинграде, когда у него украли карточки на хлеб. Ежедневно он переправлялся через замерзшую Неву в парусиновых тапочках и заимел первый в своей жизни костюм перед выпускными экзаменами, когда его премировали за отличную учебу. Мать и младшие сестры отца по пол — дня собирали камыши, стоя по бедра в воде местного болотца, к их ногам присасывались голодные пиявки, которые отпадали только после того, как округлялись и увеличивались втрое. Камыш сушили, разминали и плели корзины, которые за бесценок продавала на рынке бабушка, черноволосая, смуглая, иронских голубых кровей, с изящными руками, красоту которых не испортили долгие страшные годы послевоенного вдовства. Половину вырученных денег она отсылала папе в Ленинград, выполняя последнюю волю погибшего мужа: выучить старшего сына, чего бы ей этого не стоило.
И другая бабушка: длинная шея, прозрачная белая кожа, серые глаза с пушистыми ресницами до высоких бровей, (я понимала, почему из-за нее стрелялись на дуэли два кабардинца-белогвардейца), но такая же прямая и высокая, как и папина мать, будто до конца жизни они так и не сняли жесткого девического корсета; раннее вдовство с четырьмя маленькими детьми в голодном послевоенном городе, где ее лишили талонов как вдову военнопленного, и где не было и сантиметра земли для маленького приусадебного хозяйства, за счет которого выживал народ.
Вспомнила свою недавнюю поездку на море в Лазаревское. Мы поселились в одном из маленьких домиков. Отец в один из вечеров, глядя на вечернее море, неожиданно произнес, взглянув на меня: «Где-то здесь жили мои предки, абадзехи». Я спросила, почему же он не знает никого из них. «Они теперь в Турции, наша фамилия образовала там целое хабле. Только один мой прадед бежал в Кабарду. Поэтому нас так мало». Мои дальнейшие горячие расспросы ни к чему не привели. Похоже, отец и сам толком ничего не знал. Тем же вечером наша хозяйка, с которой я подружилась, веселая и разбитная, жаловалась мне на «бесчинства местных дикарей», которые вот уже пятый раз сносят памятник генералу Лазареву, герою кавказской войны, в честь которого исконное адыгское название местности было заменено на Лазаревское. «И ведь надо же, делают это по ночам, как воры!», — добавила она возмущенно. Старик-сосед, неразговорчивый и угрюмый, который зашел по делу, сказал: «Этот «герой» уничтожил 13 шапсугских аулов. Я бы сделал не так: я снес бы памятник днем, чтобы все видели, особенно власти». И сразу же ушел, не сказав о своем деле.
И тут я вспомнила улицу имени Ермолова в Пятигорске, который не так давно был центром «пятигорских черкас» — кабардинцев. Я еще застала времена, когда Ермоловым пугали адыгских детей. А еще где – то, возле селения Головинка, собирались ставить пятиметровый памятник Головину, которая выросла на месте абадзехского аула, одного из тех, что были уничтожены этим же генералом. Вспомнила размеренную речь экскурсовода, которая рассказывала о «южной жемчужине – Анапе». При этом она сказала, что Анапа и Новороссийск, бывший Цемез – адыгские названия, и перевела их. Она повествовала о 12 военных укреплениях доблестной армии, которые были построены от Анапы до Новороссийска. Теперь большинство топонимов носят имена этих отличившихся дивизий. А в Армавире был поставлен памятник генералу Зассу, превзошедшему по жестокости самого Ермолова. «Неужели, — подумала я, — никому из властей не приходит в голову, что могут испытывать в душе оставшиеся адыги! То, что невозможно озвучить и при этом ничем нельзя выжечь из себя! Мы – фантомы. Нас будто бы и нет вовсе».
***
Решившись следовать соглашению, заключенному с М. Сруковым, я постаралась стряхнуть с себя тяжелые мысли и осмотреть вокруг. Это было впервые за то время, которое я для себя обозначила «другая жизнь», — жизнь без матери. Признаться, я увидела немалые перемены. День ото дня они меня затягивали все больше. Я узнавала и не узнавала свой город, свою республику. Я понимала, что предложение Срукова не было импульсивным, наверняка он его продумал: изменения в нашей жизни могли бы воодушевить даже автора остросюжетного боевика. Итак, я попыталась изложить свои наблюдения на бумаге.
Стилизация «новой притчи» (которую я позволила себе как некоторое современное дополнение к семейному архиву по рекомендации М.С.)
Настало новое время. Решили адыги, те немногие, что остались: «Если мы прошли через кавказскую войну, две мировые и гражданскую, пережили ленинизм, сталинизм и социализм, то мы бессмертны». Во все времена божественные правители в человеческом обличие были несовершенны, и тогда пришел новый бог. Он оказался с ликом старым, как сама земля, но ускользающим, неуловимым. Он менял свои личины, но никогда не показывал истинного лица. Да и было ли оно? Как ни пытались апостолы новой веры выразить его сущность видимым символом, не нашли ничего другого, как запечатлеть самый простой и надежный образ – долларовую купюру. Она-то и стала видимым и невидимым знаменем нововерцев.
В то время, пока Черкесия истекала кровью, Новый бог успел завоевать весь мир. Он уже почувствовал на себе завораживающий взгляд Горгоны и окаменел. Бог начал с постройки гигантского рынка, где покупалось и продавалось решительно все, поговаривали даже, что оружие, новое страшное зелье, и даже, как в старину, – люди. На привычно скромных улочках городов, а потом и аулов выросли вывески небывалой пестроты и откровения. Если раньше они были красного цвета в тон старого бога, и к ним как-то привыкли, то теперь от яркости и пестроты рябило в глазах. Доллар принес чужие лица на щиты и вывески с диковинными призывами и словами: «Кока-кола! Лучший напиток в мире! Пейте охлажденным!» Порой народ путал названия товаров с такими же иностранными названиями магазинов. На броское и короткое «Спрайт» они заходили в промышленный магазин, но оказывалось, что здесь торгуют напитками. Вместо скудного, но добротного старого товара с постоянной ценой теперь лежал новый; он отличался красотой необыкновенной и количеством чудовищным, но на первых порах беда заключалась в том, что мало кто до конца понимал его предназначение. Однако ситуация с прежних времен почти не изменилась: если раньше товар невозможно было пробрести по причине дефицита, то теперь – по причине цен, ибо последние напоминали необъезженных жеребцов, — так же скакали и лягались. Старики только качали головами, ибо для такого они слов не знали. Но веками выработанное недоверие к непроверенным новшествам, порядкам и лицам держало их на длинной дистанции от этой мишуры, от которой болели их старые глаза. Однако молодежь, раз почуяв магический запах роскоши и комфорта, отдавалась им с одержимостью фанатиков новой веры. Их неудержимо влекли блестящие небывалые формы, и они досаждали старикам ничуть не меньше неуправляемых цен и пустого кошелька.
Чужой бог неуклонно входил в силу: рынок упорно разрастался и запускал свои щупальцы повсеместно; будто грибы после дождя, появлялись беленькие лавочки, ларьки и магазинчики с таким новомодным оформлением, что перед ними робели даже бывалые горожане. Те, что посмелее, ступали на белоснежные полы, как на гладкий лед, с неловким чувством, опасливо озираясь, но ретировались очень скоро, едва завидев цены. Большая часть магазинчиков и ларьков сгорала в пламени зажигательной смеси или взрывалась гранатами, которые подкидывали конкуренты или чаще – рекитеры. Понадобилось долгое время, чтобы народ уяснил себе суть новой профессии: так звали негосударственных сборщиков налогов с негосударственных же объектов, дающих хоть какую-то прибыль. Другие ларьки горели в смысле переносном — в пламени непомерных налогов, собственной нерасторопности или простой жадности, а еще дальше – низкой покупательной способности. Это новое мудреное понятие было, тем не менее, освоено быстрее всего, ибо означало отсутствие денег и бедственное положение народа – то, что было всегда знакомо, неизменно и старо, как мир. То же касалось других незнакомых названий, например, «минимальный прожиточный уровень», который стойко удерживался ниже допустимого предела и умудрялся сползать еще ниже. Если обычные денежные курсы остального мира двигались по синусоиде, то кривая рубля обрела теперь одно направление – вниз, причем отличалась удивительной устойчивостью: она давно спустилась ниже горизонтальной оси координат, называемой «допустимой чертой бедности», но также целенаправленно и упорно продолжало свое центростремительное падение, обретя направление вертикальной оси координат. Но народ, привыкший и не к такому, как-то жил.
Рынок тем временем распухал и уже напоминал больного при отеке Квинке: первые этажи жилых многоэтажных зданий, торцы и пристройки одноэтажных сельских домов превратились в сплошной торговый ряд, а те, что еще не успели «перестроиться», — торговали из окон собственных квартир. Если раньше адыги знали только продажу излишков собственного товара, то теперь торговля из занятия презренного стало массовым и даже почетным. Если раньше женщины весь световой день бесплатно отрабатывали на колхозных полях свои трудодни, то теперь проводили на рынке, торгуя чем придется, оставляя детей одних или на попечение стариков. Ничего другого не оставалось, ибо отлаженная семью десятками лет бесперебойная производственная машина-гигант умерла в одночасье, и была раскручена и разворована до винтиков со скоростью производительности труда передовиков первых советских пятилеток.
Завозимые чужестранные товары требовалось сбывать любой ценой, — и в жизнь адыгов вошла реклама: пестрые вывески первых рыночных лет. С тех пор вывесок стало намного больше, а вид их – намного смелее: то там, то сям выставлялись голые и полуголые женщины с длинными ногами, в позах, которые не могли привидеться в самых смелых юношеских снах. Наряду со своим телом они демонстрировали сбываемый товар. Старики поспешно отводили глаза и с чувством сплевывали, парни же дурели на глазах и пускались искать таких же. Правда, жен продолжали выбирать в основном по-старинке. Они легко и азартно усваивали жаргон и русский мат, с известным удовольствием платя дань презрения этой жизни, которую без презрения могли воспринимать лишь слабоумные, козлы, одним словом. Девушки спускали последние сбережения родителей, лишь бы обрести заветную вещь и хоть немного приблизиться к чудесному идеалу. Надо сказать, именно им быстрее всего удалось достичь сходства с новыми образцами западного бога. Очень скоро существенная внешняя разница была почти стерта: умелый грим, стильная прическа, изысканный дорогой туалет (вечерний и преимущественно черный почти на все случаи), самая смелая длина юбок, которая кончалась там, где начинались стройные молодые ноги и, главное, европейская раскованность и неизменная улыбка. Вот только вечно недовольным старикам все казалось, что маскарад этот – с дешевых рекламных щитов, роликов и фильмов, что транслируют по телевидению изо дня в день, с утра до утра. (Относительно западных фильмов вердикт стариков был один: американцы показали все, что можно и нельзя было показать и рассказали на разный манер обо всем, о чем можно было рассказать, а теперь, когда уже нечего показывать и рассказывать, они сочиняют то, чего не может быть, и только морочат людей). Западный наряд, говорили старики, такой ценой и такими усилиями уже не наряд, а образ жизни, насажденный шайтаном, смелость туалета такая вызывающая, что ей ну никак не сойти за «смелость», а раскованность так демонстративна, что раскованностью уже не назовешь, а как назвать, — для такого у стариков не было слов, ибо такое никогда не случалось, и они лишь горестно качали седыми головами. За чужой одеждой, манерами и рекламными улыбками они ясно видели адыгскую неулыбчивую душу, которую бросало потерянным суденышком в мишурном хаосе новых времен, где не было ни малейшего проблеска, чтобы увидеть спасительную кромку берега.
Новый бог привел с собой своих демонов – сильных, неуничтожимых. Первым было новое зелье. К нему не пришлось долго привыкать, ибо оно было вездесущим. И снова стали погибать отцы, сыновья, внуки. Погибали и женщины. Бывало, из одного городского дома или одного сельского хабле за год выносили три-четыре тела. «Уж лучше бы продолжалась война, — плакал седой старик, потерявший сына- алкоголика и внука – наркомана, — лучше бы они погибли, как мой дед и отец, в честном бою! Я бы утешался, что они ушли как мужчины. А здесь вместе со смертью я получил позор. Чем же мы так прогневили Бога?» Но наркотик превращался в грабителя, насильника, убийцу, опустошал дома, разваливал семьи и рода, ибо под его действием любая жизнь рассыпалась, как карточный домик. И если чума, холера и оспа отступили, то появилась другая, более страшная угроза. На нее не было противоядия, оружия или молитвы, — она была всесильна, — и начался новый мор.
Проявления других демонов были не так очевидны, но не менее разрушительны, ибо незаметно проникали и прорастали в сознании людей, неузнаваемо меняя их. Они продолжали говорить о чести и постепенно теряли веру в это понятие, на котором стояла вся прежняя жизнь. Продолжая говорить о старой чести, они думали о новой, ибо новая означала лишь одно – деньги, а старая постепенно превращалась в пустой звук. Они все еще продолжали петь песни о мужестве, но уже не вслушивались в слова, ибо мужество без денег выглядело теперь так же нелепо, как средневековый воин без доспехов.
Девушки не переставали мечтать о любви, но теперь это была любовь к богатому возлюбленному, а если встречался богатый, то все чаще закрывали глаза на отсутствие другого эпитета – «любимый». Если во все времена в невесте ценили старые добродетели, то теперь первым выяснялся вопрос, богата ли она. Целомудрие из понятия духовного и самого широкого сузилось до судебно-медицинского. Все еще говорили о нем, как о несомненном женском достоинстве, но при этом без слов понимали, что за нужную сумму можно вернуть и его, по крайней мере, анатомическое подтверждение.
Маячившая 70 лет на горизонте обещанная идея коммунизма, на приближение которой положили всю свою честную жизнь и тяжкий труд поколения советских людей, однажды растаяла и обратилась в горькую дымку воспоминаний, — реальностью стала одна пенсия, которой не хватало на лекарства. Появились дома со странными названиями «Дом ребенка», куда сдавали брошенных или ничьих детей, или тех, кого не могли прокормить нищие родители; или «Стар. Дома», — сюда отдавали никому не нужных беспомощных стариков. Таких домов не было у адыгов испокон веков, как не было лишних людей; одиноких детей и стариков досматривал род, — такому никогда не было названия, и старики только молча и горестно качали седыми головами.
Если раньше любой мужчина втайне мечтал о власти собственной силы и благородства, а женщина, — о власти красоты и добродетели, то теперь все мечтали лишь о деньгах, ибо они покупали любую власть. Кроме безгранично разнообразных форм видимой материи суши, воды и воздуха, оказалось, что за деньги можно было приобрести союзников, друзей, покровителей, помощников, учителей, учеников, адвокатов, поваров, слуг и массажистов, музыкантов, певцов, гувернанток, садовников, телохранителей, любовников, мужей, жен, детей и родителей. Покупали и продавали голоса избирателей – (доллар за одну штуку, или тридцать серебренников), так что теперь обсуждались не личные качества избирателей и их программы, которые просто печатались на листках бумаги, но не читались, а количество денег, которым обладал избираемый в правительство.
Покупали «суррогатных» матерей, которые вынашивали чужих детей и продавали своих. Покупали и продавали органы взрослых и детей. Покупали и продавали живых людей. Те, что еще из последних сил сопротивлялись долларовому богу, пытаясь оставаться на честном государственном окладе, вскоре превратились в глазах общественного мнения в простое посмешище, так как бюджетная зарплата, за которую невозможно было полноценно отовариться один раз на рынке, являлась откровенной насмешкой. И честным гражданам ничего другого не оставалось, как вливаться в необъятный поток мелких коррупционеров. Так все повернулось вспять и вернулось на круги своя, и народ вновь пришел к рабству, но теперь к тотальному. Уже не люди правили деньгами и товаром, а деньги и товар – людьми. Нетленными оказались строчки одного джегуако, из Кабарды, что сложил песню почти сто лет назад:
Серебром кошель набит,
Бьет он бедных, не жалея.
Чем он толще, тяжелее,
Тем худей, слабей бедняк.
Всех, кошель, ты свел с ума,
Но когда проклятье минет,
С кошелем, наверно, сгинет
И убогая сума.
(А. Хавпачев. «Кошель», перевод С.Северцева)
Невидимая сила денег состояла еще и в том, что они могли покупать блага невидимые: здоровье, величие, честь, уважение, учебные места, отметки, дипломы, власть, влияние, заботу. Покупались рабочие места и возможность их сохранения, особенно прибыльных. Для этого часть дохода относилась вышестоящему начальнику, от него – более вышестоящему, и так по цепочке, пока мутный, растущий поток, (имеющий необычное свойство не стекать вниз, как водится, а забираться наверх), тщательно скрываемый от непосвященных глаз не оказывался наверху … «финансовой пирамиды». Вся жизнь определялась теперь деньгами, точнее, их количеством. Когда говорили, что «человек живет хорошо» — это означало – богато. И наоборот. Правда, еще находились чудаки, которые утверждали, что не все можно купить, особенно любовь. Но эти выглядели бедно и странно, и вызывали жалость и подлинное удивление, которое само по себе было давно забыто.
Если раньше для адыгов бесценным даром была любовь, то теперь она продавалась ни за грош. Вместо боевых турниров стали популярны соревнования, которые вскоре превратились в любимый вид спорта, который оживленно обсуждался в массах. На них обсуждали… женщин. Девушки с тревогой всматривались в лицо каждого поклонника: кто это? Тот, кто хочет полюбить или использовать и предать? И снова, как прежде, женщины стали заковывать в невидимые железные коншиба (корсеты) свои души, сердца и тела, и продолжали ломаться женские жизни и судьбы. «Настоящие львы остались на полях сражений, — говорили старики. – Остались сплошь трусливые шакалы. Им нужны жертвы, чтобы убедить себя и других в том, что они – львы. Не дай Аллах попасться в их стаю человеку с подлинным величием – растерзают в клочья. Но теперь, когда настоящих мужчин почти не осталось, они губят женщин. Когда жизнь женщин не в их власти, тогда они уничтожают то, что уничтожить легче всего – женскую честь». И они сокрушенно качали седыми головами: такого не было испокон веков, каждый адыг во все времена мог пожертвовать собой ради женщины, потому что в каждой была заключена священная тайна будущей жизни.
Все поменялось местами: теперь истинно любящая женщина могла быть объявлена презренной, а та, что выходила замуж за богатство и власть – уважаемой. Доброта, великодушие, благородство потеряли былой ореол славы, их обрели власть и деньги.
За это время был построен новый величественный дворец «Морального Закона», напоминающий гигантскую тюрьму. Его Жернова равнодушно, бесперебойно перемалывали судьбы тех, кто оказался вне Закона, чтобы неповадно было другим, тоскующим по свободе и любви, нарушать незыблемые границы, которые воздвигли сами же люди.
Появилась новая, продажная любовь. В сумраках ночных рынков, площадей и закоулков останавливалась какая — нибудь тихая иномарка, отливая мягким тысячедолларовым сиянием, из окна высовывалась волосатая рука с голубыми купюрами, и к ней со всех сторон, трепеща прозрачными ночными крыльями, стекались стайки новых юных жриц.
Запретная любовь и Продажная любовь захлестнули все пространство, но, скрытые целомудренным мраком от глаз непосвященных, стали теперь ночными, невидимыми.
Из – под многотонной социалистической литературы, сложившей великую сагу о советском социализме, выпросталось обнаженное, удивительно уродливое детище, названное «Гласность», за которую были отняты жизни десятков талантливых журналистов. Но вскоре гласность превратилась в любимую народную игру, которая была одинаково популярна во всех слоях населения: у бедноты она все еще будила надежду, богатым приятно щекотало нервы, походя на бесплатный массаж, но больше всего удовлетворяла власть имущих, так как при соблюдении принципа полной демократии гласность эта ничего не меняла, но зато позволяла «выпускать пар» особо недовольных. Поэтому верхушка… «финансовой пирамиды» прониклась удивительной и даже редкой лояльностью к Гласности, если только в ее вольных текстах не фигурировали конкретные фамилии, преступность которых публично доказывалась. Авторы таких текстов, совершенно утратившие чувство меры, очень часто навсегда исчезали.
Итак, все меньше и меньше оставалось островков суши, которые не затопила бы могущественная стихия доллара.
Началась война нового демона – преступности. Если кривая жизненного уровня давно свалилась в пропасть нищеты и умудрялась падать еще ниже, то кривая преступности превзошла все мыслимые верхние пределы. Квартирные кражи стали столь часты, что вскоре все окна первых этажей ощерились стальными и железными прутьями и решетками. Однако вскоре этот вид преступлений уже сходил за невинное баловство, ибо участились убийства и насилия. Их характер был столь изощренный и жестокий, что озноб пробивал даже видавших виды «стариков» из МВД. По всем каналам TV почти круглосуточно транслировали хронику чудовищных «разборок» преступных группировок. Они уничтожали друг друга, деля сферы влияния «новых» боссов, которые отказывались платить, — это были известные и объяснимые версии. Но гораздо больше было преступлений необъяснимых и нераскрытых.
Если за 70 лет советской власти выросло семь крупных индустриальных заводов, в двух из которых работало по десять тысяч человек, и шесть больших фабрик, то и теперь вырастали роскошные заводы водочных и безалкогольных напитков. Множились бензозаправки и игорные дома, являя собой высшее достижение местной архитектуры. Все эти новые объекты были оснащены по последнему слову западной техники и почти не требовали рабочих рук. Наряду с ними множилась огромная толпа безработных: она утопала в пьянстве, лишалась крова и перетекала на улицы. Если во времена войны народ насильственно изгоняли с родных мест, то теперь почти все добровольно уезжали в поисках работы, ибо рабочих мест больше не было.
Такого числа бездомных не бывало даже во времена Второй мировой войны. Они слонялись по площадям, рынкам и вокзалам, спали на скамейках парков; в самых оживленных местах просили подаяние в невероятных позах инвалидов, и старые адыги, не глядя, отдавали им последние гроши, покрываясь краской возмущения и стыда, но при этом молчали, — названия этому они не знали, да и не могли знать, ибо такого не было испокон веков. Однако никаких оснований для беспокойство подобное положение не должно было вызывать: по всем республиканским средствам коммуникации «Последние новости» внушали необыкновенное умиротворение, — ведь согласно им, последним новостям, в республике продолжался неуклонный подъем экономики, повышался уровень зар. платы, была решена проблема ее своевременных выплат и каждый колхоз «был готов к севу», даже если он уже давно развалился. Но при этом почему – то народ продолжал нищать. Экономисты про себя ужасались: дефицит республиканского бюджета составлял 75%. На этот факт ужасалось федеральное правительство, которое выдавало 85 процентов дотаций из центра, однако во время очередных и внеочередных проверок на бумагах дебит строго соответствовал кредиту. Одновременно с этим тихие, доселе скромные улочки центра будто очнулись от сонной хляби семидесятилетнего советского прозябания: их кварталы, расчищенные энергичными бульдозерами от былых ветхих построек, стали прорастать огромными домами с высоченными заборами, которые не в силах были утаить бьющей в глаза роскоши. Большая часть таких домов принадлежала крупным чиновникам. Впрочем, скоро и для этих слуг народа наступили тяжелые времена. Например, в один страшный день был ограблен один уважаемый член правительственной верхушки, и по сводкам скрупулезных блюстителей порядка, размер похищенного составил один миллион рублей и 356 тысяч долларов, а также золотые украшения в половину этой суммы. У другого пострадавшего начальника Гос. Инспекции сумма похищенного составила два миллиона долларов. Из дома (одного из трех зарегистрированных) бывшего директора бывшего крупного завода был украден один миллион долларов; 220 тысяч долларов — у скромного преподавателя ВУЗа и 550 тысяч – у менее скромного. При этом пострадавшие деликатно избегали огласки, особенно в СМИ, не желали справедливого возмездия грабителям (по крайней мере вслух), словом, вели себя достойно и даже интеллигентно, — впрочем, как всегда. Новоявленные Робингуды, однако, несколько отличались от своего легендарного предшественника, — все награбленное они не раздавали бедным, как английский чудак, а оставляли себе; таким образом их богатство было результатом двойного ограбления, народного и частного. В народе стали раздаваться странные реплики: «наше добро теперь делят два сорта бандитов — легальные и нелегальные. Это неравная война, — ведь легальные представляют власть». Однако подобная ересь глохла в народе и ее никто не слушал, так как все народные оппозиции были раздавлены и заменены на правительственные, но с народными названиями, и при торжественно провозглашенном статусе Демократии установилась невиданная для адыгов всех времен абсолютная монархия доллара.
Между тем частные особняки росли так же быстро, как нищета, представляя эклектику нового времени. Они напоминали роскошные дворцы, которые возводились на руинах любой цивилизации, знаменуя собой глубокое агональное дыхание умирающей Советской империи. Иногда новые маленькие империи раскидывались на пол — квартала, подавляя своим величием бедных соседей и служа действенным стимулом для богатых, которые в своем «новом» азарте стремились превзойти дерзкого выскочку. Пожалуй, ни одно время не знало совмещения стольких стилей. Излюбленные классические колонны, подпирая потолок архитектурных шедевров, венчались обильной лепкой стиля барокко. Барочный стиль был, пожалуй, доминирующим в интерьере комнат, которых насчитывалось на традиционных трех этажах этак …-надцать, не считая обязательной сауны, бильярдной, зимнего сада и бассейна. Потерянные гости разом отражались в многочисленных зеркалах в обрамлении нежной лепки, встроенных в стены. Ноги тонули в персидских коврах. Импортная мебель разных комнат тоже была сочетанием необозримого стилевого диапазона: от кокетливого изящного рококо до свободных абстрактных форм авангарда, некоторые детали которого первоначально вызывали недоумение самих хозяев относительно назначения. Узнай кто из них, что в иной комнате стиль ампир тесно соседствует с сюрреализмом, — искренне удивился бы. Пустоты, образовавшиеся между мебелью, были отданы громадным напольным вазам местного производства с перламутровым благородным окрасом. В них рдели охапки искусственных роз, потрясавших воображение самой взыскательной публики. Впрочем, искусственные цветы частенько свисали с балюстрад, изредка оплетали колонны вне и внутри дома, проходы и двери. У мирно дремавших фонтанов близ фасадов, при появлении любопытствующих начиналась цвето-световая, водная и даже музыкальная истерика; зазевавшийся гость вздрагивал, а хозяева добродушно смеялись. Но тайной гордостью обитателей особняков был водопад в бассейне, с цветной подсветкой.
Среди них находились настоящие любители старины. Они помещали мраморные нагие фигурки в свои дома, а некоторые для особого эффекта покрывали позолотой. Один из истинных знатоков античности заказал копию Венеры Милосской из Москвы, а после получения груза предъявил иск железнодорожной кампании за то, что товар доставили с отбитыми руками.
В счастливом положении «новых» избранников судьбы, (составлявшем не более трех процентов всех граждан), оказались преимущественно те, что вовремя распознали и применили игривый характер нового законодательства, обладавшего двумя сторонами: одной, -справедливой и строгой, (с этой стороны закон декларировался по всем средствам коммуникаций с самыми неприступными серьезными интонациями, таким же он печатался в солидных государственных талмудах, учебниках и прессе); и другой, которая позволяла тот же закон купить за деньги, а если он оказывался неподкупен, — то за большие деньги.
Так вместо обещанного коммунизма, в теплом чреве анархического капитализма, (по иронии судьбы повторенного на свой манер 100 лет спустя после американского и 150 – после европейского), нарождался новый, доселе неведомый адыгам класс, который родился в срок и застенчиво спрятал свое скромное новорожденное чело за пластиковыми окнами новомодных коттеджей или, чаще, огромных домов, далеких от архитектурных канонов.
Но федеральное правительство закрывало глаза на эти невинные региональные «слабости», которые только дублировали в миниатюре модель жизни в центре. В свою очередь, модель новой жизни Центра при всем величии новой роскоши была лишь скромной миниатюрой по сравнению с мировой. Правда, о последней лишь можно было догадываться, так как она была за семью печатями, то есть не просто теневой, а вообще невидимой. Ходили темные слухи о том, что известные мировые купцы, которые значились всего лишь скромными миллионерами, что даже не дотягивали до миллиардной планки, на самом деле владели триллионами и были богаче самых богатых стран, что на самом деле они – тайные вершители человечьих судеб. Но почти никто не сомневался, что это были лишь досужие домыслы.
Итак, невинные региональные «слабости» казались такими еще и в сравнении с фактом значительно более серьезным, ибо Северный Кавказ снова пылал в огне, будто не было ста тридцати лет призрачного мира. Населявшие Кавказ коренные народы теперь никак не могли поделить между собой исконные земли, розданные щедрой рукой нескольких советских правителей, (например, огромные пустующие пространства земли многих депортированных народов, которые после возвращения обнаружили заселенными). После крушения советской конституции, остова рухнувшей Советской империи, былые советские земли оказались как бы ничьи. Силясь восстановить историческую справедливость, народы Кавказа оказались в вакууме постсоветского законодательства, совершенно парализованного московским путчем, которое так и не оправилось от его сокрушительного удара. И тогда полилась кровь «межнациональной розни».
Другие хотели выйти из состава нового Федерального Союза. Но этому препятствовал Центр, и так как ему оказывали упорное длительное сопротивление, решили, как встарь, не мудрствуя лукаво, уничтожить несговорчивую часть народа, которая составила по досадному недоразумению большинство. Взрывы возмущенной мировой общественности гасли под весомыми аргументами мудрого правительства, которое не желало терять нефтяную республику, щедро кровоточащую самой ценной «зеленой» нефтью. Оно откровенно ссылалось на закон, принятый очередной Международной Конвенцией, который, в отличие от былого советского «права любого народа на самоопределение» лишал автономные республики этой незаслуженной возможности. В результате был разбужен древний и слепой Кавказский Дьявол, — кровная месть. На этот раз он был страшен как никогда, питаясь исторической памятью прежней Кавказской войны и назревшего религиозного экстремизма. И мир содрогнулся от небывало – мощной волны терроризма. Почти ежедневно взрывались жилые дома и больницы, рынки и школы, вокзалы и машины, поезда и самолеты, унося тысячи невинных жизней. Однако и тогда никто особенно не распутывал и не вникал в этот ослепляющий клубок кровавых причин и следствий.
Само понятие «кровной мести» наполнилось неведомым новым содержанием. Если исстари проливали кровь за кровь, то теперь кровь проливалась за деньги, даже за ничтожные.
В воздухе витали странные разговоры, что Кавказ – вечный полигон для новых войн, что новая кавказская война «удобна» теперь для отмывания чьих – то баснословных грязных денег. «Чьих денег?», — силился понять народ, но не находил ответа, да и были эти разговоры только досужей болтовней дураков.
После 70 лет великой ежедневных уверений красных лозунгов и всех советских средств коммуникаций о советском интернационализме, равенстве и дружбе всех народов, ожил и воссиял миф о кровожадных кавказцах, особенно поражавший непритязательное воображение простаков. Никто серьезно не препятствовал процветанию возрожденного мифа, — он был удобен, так как легко объяснял то многое, что никак не могло быть оглашено и принято ребяческим сознанием народа. Популярная молва о свирепых головорезах породил хорошо отлаженный класс молодых неонацистов, которые до смерти забивали простых прохожих только потому, что те были «черными». Убивали стариков. Убивали детей.
Впрочем, эти и подобные им проблемы не могли всерьез привлечь внимание «новых», — их заворожило золотое сияние российского Кольца всевластия. Еще бы, ведь иные из них в своем золотом азарте в рекордный срок превзошли по миллиардному долларовому состоянию монархические династии, существующие сотни лет, взять хоть ту же королеву Англии. Те, что нажили свой капитал, выбравшись из бездны нищеты и голода, поклонялись золотому кольцу особенно страстно, ибо он с беспросветного дна вынес их на сияющую вершину достатка и могущества. Но дети их, выросшие на отцовском добре, чаще всего проникались презрением ко всему на свете, так как за родительские деньги покупалось всё и все, и они оценили продажность мира и призрачность денег. Деньги не утоляли жажды духа и не отвечали на вопросы ищущих. Они проникались презрением к отцам за их слепое идолопоклонство, утверждавшим, что только деньги – власть, могущество и счастье. Так они стали свидетелями, как тысячный раз был отлит Золотой Телец, вслед за первым, у горы Синай. Но эти, дети новых оказались перед бездной куда более страшной, чем их отцы в свое время.
Увидели адыги, что жизнь приобрела странные свойства: обрывались дружеские и кровные связи, радость теперь больно била в глаза, как яркая вспышка, и так же мгновенно исчезала. Мораль напоминала ту, что обычно применялась на зоне для выживания: никому не верить, никому не жаловаться, никого ни о чем не просить. Восторг больше походил на пароксизмы, будто в момент появления уже содержал в себе агонию конца. Построенные народные театры опустели, артисты и музыканты играли для самих себя, чтобы не забыть о собственном призвании. Благоухающие первоцветы, что расцветали по весне, оказывались необыкновенно ярких кричащих оттенков, как бывает у ядовитых экзотических цветов, но, выплеснув все краски, они тотчас увядали. Из пустых подвалов самых старых больших домов раздавались порой крики и стоны, которые становились все отчетливее и яснее. Поговаривали, что здесь под громкую музыку когда – то расстреливали «врагов народа», в результате чего исчез почти весь народ. Теперь опустевшие города и села заселялись невидимыми привидениями, да и немногие живые мало чем отличались от них. Какая – то сонная одурь стелилась по земле, парализуя волю и желания. Мужчины перестали исполнять супружеский долг, женщины – продолжать род, а брак превратился в мертвый склеп. Никто не мог объяснить эти странные явления, кроме стариков. «Разве может появиться что – то живое на земле, в недрах которой покоятся безымянные кости мертвых, которых уже всемеро больше, чем живых? Они появлялись во все времена и продолжают появляться сейчас. Они дошли уже до седьмого дна земли. Проклята бывает земля, переполненная такими костями. Они не освящены обмыванием, молитвой и обрядом, – сурово твердили старики. – Поэтому этим мертвецам нет покоя, поэтому их мертвенный холод забирается наверх, проникает в жилища живых, лишает живых любви и жизни, убивает тепло и радость». Но никто не верил им, считая, что старики выжили из ума.
Однажды обнищавший усталый народ так изнемог, что закрыл глаза и уснул. Тем временем сменялись правители, выбранные как будто бы его безвольными сонными руками. Входили в силу адепты новой религии. Они разобрали его ветхую лачугу, самого поместили на плотик и пустили по волнам. Но те, что оказались рядом с ним наплаву, становились день ото дня все ненасытнее: они раздели его, не оставив на теле исподнего, забрали из-под него утлый плотик и пустили по волнам на съедение рыбам. Но, идя ко дну и задыхаясь, он очнулся, собрал всю силу и вынырнул на поверхность. И нагое, величественное тело преодолело морские мили одним гребком, и соленые волны были для него первородными водами, а берег, которого он достиг, — крепкими руками повитухи. Так народ родился вновь и увидел смутные очертания новой грандиозной вершины, на которой восседала птица Симург. Один глаз её был устремлен на восток, другой — на запад, хвост повернут северу, а клюв – югу. Она упиралась цепкими лапами на сияющую вершину, а над древней головой её реял свободный дух великого Тха. Перед ней струилась неиссякаемая река, которая несла свои воды из прошлого в будущее, а позади горы неслись струи из будущего в прошлое. И те, что различили сияющий свет вершины, узнали, куда идти.
***
Машинальное соглашение вести личные записи с тем, чтобы впоследствии предоставить их для литературной оценки Мусарби Срукову, обрели для меня особую значимость уже в Москве.
В юности стремительное незамутненное течение моей жизни оказалось в предсказуемом общественном потоке нашего города. Рельеф русла этой метафорической реки был доподлинно известен моей матери, — она знала все подводные течения, пороги и стремнины, и с неистощимой энергией руководила нашим управляемым движением, ловко лавируя и обходя потенциальные опасности. Теперь я казалась себе выброшенной в безбрежный океан. Мне требовалось самой пролагать свой курс и выработать собственный устойчивый «непотопляемый» стиль.
Как – то, в одинокие минуты моей созерцательности, необходимой, как воздух, когда эфирное существо внутри меня очередной раз отлетало на достаточное расстояние, чтобы обозревать контуры моей жизни, я встрепенулась от внезапного открытия: мой зеленый пунктирный вектор повторял голубой вектор жизни Теун, (почти совпадая с траекторией ее движения), а тот в свою очередь налагался на густой вектор движения целого народа. Он следовал сплошной красной струей с кавказских гор и растекался по рекам, морям и океанам, которые окрашивали разноцветную сферу глобуса цветом индиго. Наверное, только ангелы до сих пор взирали еще на один великий народный исход; глазами, полными неизъяснимого чувства, они наблюдали, как мощный поток распадался на реки, а те, в свою очередь, на ручейки, которые бесчисленными невидимыми струйками все еще растекались по всей округлости земли. Похоже, теперь я вовлекалась в этот заколдованный круг, опоясавший ее по всем возможным направлениям; мне предстояло повторить его по-своему.
Первое время мое утлое московское суденышко опрокидывал шквал новых впечатлений. Чтобы как – то справиться с ними, я возобновила детскую привычку, — «переваливать» их на бумагу. Я проделывала это регулярно в течении всего первого года пребывания в Москве. Теперь в памяти всплывали разрозненные мысли и наблюдения, которые были записаны преимущественно ночами в разное время разными почерками и рассованы по всевозможным папкам, книгам и углам. Иногда они неожиданно откуда-то выпадали, и, совершенно забытые, перечитывались мной с новым чувством, чаще с раздражением, и я не ленилась «высушивать» их от избыточной юношеской чувствительности. Это было моим спасением, которое давало возможность хотя бы на время отвлечься от опустошающей неизбывной боли. Вспыхнув и опалив меня, она ушла на неведомые глубины и постепенно всплыла плотной белесой сферой с пугающей бесцветностью существа, которое зародилось и выросло в кромешной тьме. Оно незаметно и тихо подтачивало меня. Так медленно заболачивается местность, ее незаметная постепенная смерть не обжигает взгляд острым трагизмом, а умертвляет незаметно.
Правки и дополнения моих старых небрежных записей с описанием эпизодов последнего года жизни в столице занимали почти все свободное время. Теперь я их «реанимировала» со страстной увлеченностью, прочитывая и проживая заново, — только они и позволяли с головой погружаться в последний год моей «прошлой» жизни, в которой я теперь спасалась от последних событий — смерти моей матери и выплывшего из небытия семейного архива.
Так появилась первая глава моего повествования.
Я последний раз пробежала рукопись глазами. Внезапно моя шариковая ручка застыла в воздухе, — только сейчас, чуть ли не пол — года спустя, я неожиданно оценила тактический ход Мусарби Срукова: наш литературный «профессиональный контракт» был той единственной зацепкой, что могла еще реально отвлечь меня на это время, чтобы не соскользнуть в невидимую страшную воронку, которая засосала всех членов моей семьи.
Я созвонилась со Сруковым и отнесла их в назначенное время. «Спасибо», — сказала я тихо и прямо взглянула в его темные горячие глаза. «У тебя все будет хорошо», — сказал он, и его глаза увлажнились.
На следующий день я взяла билет и отбыла в Москву.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МУСА
КЛИНИКА
Из ординаторской выкатилась Любовь Савельевна, посмотрела сквозь меня, бросила «пойдем» и покатилась дальше, наклонив вперед круглое короткое туловище. Впереди мерно колебался огромный бюст, плотно обтянутый белым шелковым халатом и увенчанный салатным бантом шелковой блузы. Короткие крохотные ножки быстро-быстро семенили за её массивным наклоненным телом, не поспевая за ним, боясь не донести хозяйку до назначенного места. Она бесстрастно кивала направо — налево своим коллегам, неслась дальше по длинному отделению, увлекая за собой на обход попадающихся ординаторов. Я шла рядом, ожидая, что она вот-вот упадет; её малахитовые серьги гневно колебались в такт движениям.
Мы зашли в палату за Любовью Савельевной. Больные, чуть завидев её, радостно приветствовали нас и замолкали на своих койках. Она безмолвно опадала на стул, который ей услужливо подставлял кто-то из ординаторов, и застывала в неподвижности. Минуту Любовь Савельевна сидела в оцепенении, никто не осмеливался нарушить всеобщего молчания; затем она взбивала пышную прическу пепельного цвета крошечной ручкой с растопыренными пальцами и принималась дотошно выспрашивать больного голосом, лишенным всяких интонаций. Она вытряхивала всю возможную информацию из клинического ординатора до тех пор, пока он не начинал беспомощно озираться по сторонам. «Там искать не надо, — говорила она бесцветно, — надо искать здесь», — и тыкала крохотным указательным пальцем в грудь больного. «Что такое улучшать здоровье?» — задавала она свой единственный риторический вопрос уже без больных. И сама же отвечала: «Это повышать качество жизни, а не оттягивать конец. Поэтому будьте добры: не только грамотное медикаментозное лечение, но и комплексные профилактические мероприятия и рекомендации, начиная с психо — профилактики, кончая индивидуальным примерным режимом дня, труда и отдыха».
После обхода она четко излагала свои мысли, периодически у меня что-то уточняя, и я с прилежанием примерной ученицы записывала под её диктовку. Я очень смущалась неподвижного немигающего взгляда круглых карих глаз, направленного куда-то поверх моей головы и вместе с тем всевидящего.
-Так, моя милая, — сказала она на одной ноте и быстро-быстро застучала зубами, поправляя таким образом вставные челюсти, — а теперь о тебе. Что с тобой происходит? — последовала зловещая бесстрастная пауза. Я почувствовала, как кровь приливает к лицу. — Дело с тобой обстоит очень серьезно. Позавчера ты забыла предупредить дежурного о тяжелом больном. Вчера забыла записать половину назначений больным из 7 палаты…. Половину! А сегодня прибежала в ужасе Г. С.: «Дина перепутала дозировку сердечных гликозидов!» Ты все путаешь! И это после хорошей работы прошлого года!».
Я ничего не ответила. Я не могла ответить. Я беззвучно плакала. Она, не произнося ни слова, ни дрогнув, ждала, пока я закончу, и протянула свой носовой платок. И тут я ей все рассказала. Все. В путаных фразах.
Любовь Савельевна сидела в той же неподвижной позе, и по её застывшему лицу из немигающих круглых глаз катились слезы, будто стеклянные горошины по кукольной маске.
-Знаешь, — сказала она глухо, — и все-таки я бы все свое давнее спокойствие отдала бы за твой один больной день.
Вечером я снова пошла в историческую библиотеку. Я записалась туда сразу же по приезду. У меня болели глаза, но я с каким-то странным азартом штудировала толстые тома по истории моего государства. На этот раз меня привлекла какой –то исторический журнал. Я рассеянно открыла его где-то в середине: «Исполняется 290 лет от начала военного освоения Россией страны туркмен (Туркменистана), а через это и всей Центральной Азии (1716-2006).
У истоков этой эпохи стояли: туркмен Ходжа Непес, русский царь Петр, Первый кабардинский князь Бекович-Черкасский Александр…
И сегодня, если события заставят Россию вновь покорить Центральную Азию в конкуренции с США и Западом за этот лакомый кусок, Россия, вероятнее всего, вновь будет действовать через Каспийское море и Западный Туркменистан». (Подлинник)
История не менялась. Даже сейчас, после перестройки. Во все времена – один и тот же сценарий, на удивление примитивный: возведение крепостей на чужих территориях, «дружеские» связи, которые заканчивались предательством и истреблением местных народов под предлогом их «дикости» или «отсталости». Насаждение наместников и чужих порядков. Объявление «покоренной» территории своей собственностью. Властный и административный террор мятежников для окончательного усмирения. Объявление националистами и террористами борцов за независимость. Постепенная ассимилиция.
Наша история, в свою очередь, почти ничем не отличалась от истории других имперских держав. Несколько гигантских пауков, которые ткут своею паутину по переделу мира.
***
Мы сидели в самой дальней беседке большого больничного сквера. Несмотря на тепло, это было уже сентябрьское, осеннее солнце, не яростное, а устало-умиротворенное, — и в желтых пятнах крон, и в призрачно мерцающих паутинах, плавающих вокруг, и в самом мягком, теплом воздухе сквозил тонкий пронзительный дух обреченности, который предшествует концу. Она молчала и казалась бездумной, потом порылась в сумке, которую принесла с собой, медленно извлекла маленькую бутылку коньяка, две низкие рюмочки с толстыми стенками, целлофановый пакет с фруктами, конфеты и положила на круглый столик в центре беседки. «Пожалуйста, не надо меня ругать, — улыбнулась она, — Во-первых, в таких дозах – даже полезно, во-вторых, за это время нас никто не увидит, и в-третьих, у меня сегодня дата: роковое число 33, — она смотрела на меня уже без улыбки, и где-то в глубине глаз на миг мелькнуло отчаяние. «Неужели она знает?» — невольно содрогнулась я. Ведь только вчера в конце рабочего дня был подтвержден диагноз острого лейкоза, и об этом стало известно только городскому ординатору, который тоже вел её. Нет-нет, исключено, решила я и заставила себя улыбнуться. За две недели лечения она заметно ожила, и я уже стала надеяться, что её можно привести к стойкой ремиссии. Мы несколько раз беседовали с ней в короткие промежутки моей повседневной клинической текучки, и при этом не успели сказать друг другу ничего существенного. Не могу сказать, в чем заключалась её особенность, если не сослаться на редкостное обаяние, которое чувствовали почти все. Что тут было причиной — та скользящая грация, с которой она почти парила над старым линолеумом длинного коридора, или странное сочетание живости со скромными, почти робкими манерами, или особое выражение лица: оно оставляло чувство незавершенности и потому заставляло пристальнее вглядываться в него, — лицо было необыкновенно подвижно, переменчиво. В нем отражалась напряженная игра света и тени, когда её прозрачная кожа, будто подернутая серой дымкой, вспыхивала, глаза светлели, будто внутри то гас, то загорался яркий источник. Она налила немного в обе рюмки и подала мне одну: «Будем на ты?.. Это — за тебя», — сказала она, по- залихватски забавно выпила и налила еще. Я тоже выпила. «Но мы не будем увлекаться, верно?»- спросила я. Она промолчала. Мне стало неловко: она как бы выжидала, пока с меня сползут все налеты, приличествующие нештатной ситуации, и обнажится моя настоящая сущность, которая, похоже, только и была ей нужна. Лицо её было наполовину освещено, волосы искрились в золотистой зыби светлым воздушным облаком. Я смотрела в её глаза, ставшие совсем прозрачными, на полные бледные губы, крепкий подбородок, исхудавшие шею, грудь. Сейчас она находилась на грани света и тени, на самой тонкой, рвущейся грани бытия и небытия, и меня неожиданно осенило, что в эти сентябрьские дни она на самом деле бесшумно и жадно неслась через годы, которые ей не суждено было прожить. Она знала и чувствовала все, больше тех, кто еще обманывал себя надеждами; это было глубокое, тайное знание, свидетелем которого становилась теперь я. Она сцепила руки на коленях и очень внимательно посмотрела на меня: «Позавчера я вдруг явственно спросила себя: зачем была моя жизнь? Мне стало страшно, потому что я не нашла ответа. Я так ничего и не поняла, кажется, ничего». Она встала, подставила лицо бессильным лучам и выдохнула: «Как я теперь особенно, как страшно люблю все это…» Она осветилась вся, и её потянувшаяся к свету фигурка, вся она, казалось, медленно растворяется в этом дрожащем мареве осеннего света. Она обернулась и сказала с улыбкой: «Моя мать была какая-то непркаянная. Красивая, даже для меня – загадочная. Кончилось тем, что она эмигрировала в Израиль. Устроилась, хотела уже вызвать нас с отцом, но погибла: сбил пьяный водитель. Ее объявили диссиденткой. Ее мать, моя бабушка, работала в секретных архивах. Они размещались в башнях Кремля: Троицкой, Архангельской и еще какой-то. Их тщательно охраняли, переписывали, обновляли. После Советской власти архивы передали в НКВД. Но во время сталинских репрессий их стали куда-то увозить на подводах. Много – много груженых подвод. В нашей семье часто говорили, что это были уникальные документы. Их вывозили за город и сжигали. Сжигали нашу историю. Было сожжено около 800 тысяч документов… Потом бабушку отправили в Соловки, там она встретила своего мужа, тоже политического. Там же родилась моя мать. Позже ее подселили к уголовницам. Так она их развлекала чтением русской классики: читала наизусть Лермонтова, Пушкина. В одну из ночей ее сокамерницы перерезали ей горло. Кому-то что-то не понравилось. А может быть, это был заказ…. У меня стойкое ощущение, что я отрабатываю чей-то чужой грех. И этому виной сгоревшая история, которой теперь не восстановить… Теперь можно врать что угодно, лишь бы это соответствовало бытующей идеологии. Вот уже какое поколение, мы расплачиваемся за чьи-то грехи…Давай выпьем!» Мы снова молча выпили.
«Я много вспоминаю, как взрослела, — продолжила она. — Очень тяжело. Трудно расставалась с детством. Но однажды я остро ощутила свою женскую природу. Это нечто, медленно и властно пробуждающееся, оно началось с потрясающей тоски. Казалось, уютный привычный полудетский мирок расползается клочьями, как треснувшее по всем швам платье. Мир становился пугающе-необъятным, и однажды весной, под вечер, я разразилась злым, освобождающим плачем. Я стыдилась этих слез: ведь к ним не было никакой причины – одна тоска и томление, которое теперь уже никогда совсем не исчезало. Оно истончало все чувства, и в унисон этому огромному вечеру вибрировала каждая клеточка моего тела, которое я чувствовала целиком, как крутой волшебный настой: от пружинящих, резиновых стоп до твердеющих в прохладе, уже хорошо обозначенных грудей. Я чувствовала, как оно наполняется терпким и хмельным соком женственности, он делал меня похожей на весеннюю почву: всеобъемлющей, жадной, щедрой. Волны моих настроений набегали одна на другую, перехлестывались. Я постигала сферы, которые становятся видны только через призму женской чувственности: они были расцвечены в яркие тона, насыщены волнующими запахами, резкими контрастами… Я помню блеснувшую на ходу полногубую молодую улыбку, и пряный горький запах жасмина в весеннем саду, и волнующую глубину молчаливой встречи, и дрожащий в солнечном свете летний луг, и столько острой тоски, неясного, тихого зова, и ощущения, что так уже было и будет еще…
Она осеклась: «Не знаю, зачем все это тебе говорю. Чушь какая-то. Мы ведь почти не знакомы. Ты не обязана выслушивать». Но, взглянув, на мое лицо, продолжила:
-Меня начинали обжигать взгляды, брошенные вскользь: острые, долгие, пронзительные, — целое море немого восторга, в котором искрилась и плескалась моя набирающая мощь женственность. Потом я подолгу рассматривала себя в зеркале, сосредоточенно, удивленно, и чувствовала жаркий прилив тайной радости от сознания этой неуклонно вызревающей во мне женской силы.
Я влюблялась как-то вдруг, остро, до смертной тоски. Это была странная влюбленность. Мне нужен был предмет любви, как предлог, позволяющий излиться всему этому пенному морю любви, которое густело и теснилось во мне. Я не могла сдерживать этот поток чувств, этой самой странной смеси. Моя влюбленность не носила определенного направленного характера. Она обрушивалась на все видимое и невидимое пространство, и возлюбленный мой оказывался лишь крошечной частицей вселенной, затопленной моей щедрой любовной стихией. Это не было собственно любовью, — то был сплав самых разнообразных чувств и мыслей, которые создавали вместе какой-то теплый пенистый субстрат, похожий на молодое вино, которое я хотела разлить по всему миру. Самые уродливые фрагменты жизни перемалывались той самой солнечной любовной энергией, которая циркулировала во мне». Она хмыкнула и сцепила тонкие кисти на коленях.
«Вскоре я заметила странную реакцию людей, которых я дарила своей любовью: им не надо было так много. Они захлебывались, пугались. Под тяжестью чужих чувств у них начинали подгибаться колени, и весь вид их говорил: я могу дать тебе взамен вот столько и столько, но ни в коем случае не больше. И ты мне столько же, — ни больше, ни меньше. Я почувствовала, что моя энергия любви отторгается не только от людей, которых я любила, но и от других людей, и от предметов окружающего мира. Она скатывалась с них, как вода с промасленной поверхности. Они оставались сами по себе, я — сама по себе. Не было того взаимопроникновения, которого я так отчаянно желала. Постепенно и болезненно во мне начался переворот: я понимала, что люблю мир, не зная его, слепо, люблю не то, что есть». Она прервалась. Глаза потемнели, будто отразили черное дно колодца, и светлые волны, которые только что исходили от нее, рассеялись в уходящем тепле бабьего лета. «Порой во мне пробуждалось ясное и беспросветное осознание реальности. В такие минуты я ужасалась, так как в ней значимость моего собственного существования была нелепа и бессмысленна. Это были минуты отчаяния. После них я погружалась в пустоту. Пыталась ли я сопротивляться этому? Нет. Я не могу этого объяснить. Наверное, был страх перед реальностью. Иногда становилось холодно и одиноко, я цепенела перед полной бессмыслицей. Тогда особенно хотелось любви и участия. Они и случались, крошечные островки тепла, которые мне дарили другие. Это было похоже на чудо, когда среди всеобщего мрака непонимания, недоверия, отчаяния и хаоса вдруг вспыхивали яркие огни. Вспыхивали и исчезали». Она снова замолчала. «Я в детстве хотела быть актрисой и не стала…Знаешь, почему? Меня ужасала мысль, что мне будет отведена ничтожная роль в плохой пьесе». В ней появилась отрешенность. Может, и говорила она все это сама себе, а я тут случайный зритель? «Я пойду», — сказала я неуверенно. «Посиди со мной еще, — сказала она, — Я чувствую, что ты меня понимаешь». Она казалась уставшей, и я настояла, чтобы мы вернулись.
Через неделю ей резко стало хуже, а еще через три дня она умерла. Ночью. Меня торопили, предстояло вскрытие, на котором я обязана была присутствовать с городским ординатором.
Я уже который раз переписывала посмертный эпикриз, так как грубо ошибалась. В голове была пустота. Вскоре нас отвезли к старому зданию. В узком коридоре пахло формалином, у стены стояли две каталки. На обеих лежал по два трупа, один на другом. У трупа мужчины, лежащего наверху в нелепой позе, свесилась нога. Она выглядела чудовищно реально и бессмысленно. К входу в прозекторскую подкатили третью каталку, на которой лежало тело молодой женщины. На бело — мраморном бедре синими чернилами было что-то криво выведено. Я прочла фамилию. Это была она. Я её не узнала: теперь это было чужое мертвое тело с синей чернильной фамилией на бедре. Во время вскрытия мне не стало дурно, я лишь испытывала странную пустоту. Внезапно в сознании вспыхнул образ молодой женщины, сидящей на границе света и тени, прозрачный взгляд, тонкий профиль в сияющем ореоле темных волос, по которому скользили теплые блики осеннего солнца.
Потом я снова видела перед собой белое бедро с синей фамилией, и будничную деловитость прозектора, технично исполняющего свое дело, до странности знакомое, красивое, бесконечно далекое лицо, и вскрытое мраморное тело… Меня ужаснула догадка. Я извинилась и вышла.
В КАФЕ
Было уютно, как дома, когда зимним вечером за наш столик в литературном кафе подсел современный прозаик, «настоящий классик», по определению Наташи. Он одновременно представлял классический типаж «народника»: невысокий, с небольшими голубыми глазами, очень натуральный, каким может выглядеть лишь истинный представитель demos. Наш непринужденный разговор коснулся российской истории, а затем как — то неуправляемо соскользнул с некой хрупкой грани и рухнул в топкую пучину истории кавказской войны. Я чувствовала, что продолжаю срываться, но не прекращала говорить. Я говорила, освобождая слоистые пласты боли, до сих пор немые и не вполне сознаваемые мной самой, открывая путь для хлынувшего «потока», вопреки обстоятельствам и здравому смыслу. Я сознательно и вместе с тем неуправляемо нарушала негласное табу, возможно, просто потому, что вышел его срок. Я впервые говорила после того, что прояснилось наконец для меня долгими бессонными ночами, — о том, что судьба не дается, нет, она неустанно рождается за обманчиво безмятежным течением будней в лоне непроницаемого мрака бессонных ночей; я видела, как она сплетается тонкой паутиной, которая оказывалась на самом деле пульсирующей пуповиной между мной и народом; и невидимые вездесущие пауки сплетали тонкую, но удивительно прочную нить моей единственной судьбы, которая начинала светиться над бездной тонким одиноким лучом, обозначая путь от жизни к смерти, с которого я не могу никуда свернуть. Я говорила, что именно нам, нынешней интеллигенции, выпала участь набраться мужества, чтобы впервые взглянуть на страшное лицо прошлого, как бы от него не скрывались, как бы его не замалчивали, оно безмолвно требует от нас, чтобы мы признали его таким, каким оно есть и дали ему настоящее имя. Наше прошлое – это наша тень, или бельмо на глазу, — оно всегда с нами. Наше прошлое – это настоящее, ведь время – это замкнутый зеркальный лабиринт, в котором только каждый раз все снова и снова повторяется, многократно отраженное кривыми зеркалами. Наша сожженная история назойливо маячит перед нами, и требует полного, честного разрешения, ведь она получало только разные клички, кому –то нужные, и никогда — настоящего честного имени. Я говорила, понимая всю нелепость происходящего, несмотря на то, что ненавидела собственный спонтанный душевный стриптиз. В моих угловатых фразах, приглушенных, почти афоничных от противного волнения, проскользнуло слово «геноцид». «Какой же геноцид, голубушка? – впервые доброжелательно спросил прозаик сквозь заросли густой светлой бороды, — геноцид – это когда уничтожается мирное население. А таких фактов не было». Я попыталась возражать, но поняла, что бесполезно: даже если бы я показала ему эти страшные документы, над которыми я ревела, забыв о стеснении, обо всем на свете, он мог бы заявить, что они – подделка. «Да царизм в то время спас Кавказ! И не только Кавказ», — продолжил он довольно уверенно и спокойно. Я молчала, не в силах выдавить из себя ни слова. «Если бы не царская Россия, вас бы сожрала Турция или Англия. Словом, кто — нибудь бы да съел. Я вас понимаю прекрасно, но ваш подход идеалистичен. Есть лишь суровая реальность, все остальное – лишь прекраснодушные разговоры». Меня заволакивала какая – то знакомая липкая муть, — ощущение, появившееся не так давно: странная помесь бессилия, усталости и безнадежности. Я внезапно поняла, что прозаик говорит голосом большинства. «Все – таки, зря вы затеяли этот разговор», — почти с досадой сказал писатель, сослался на неотложные дела, поцеловал мне руку, щеку моей подруги и исчез.
«Я расскажу тебе одну сказку, — сказала Наташа, когда мы остались одни. – На одной планете жили муравьи и богомолы. Они жили очень дружно. Их символом были две взаимно перпендикулярные линии, сходящиеся в одной точке, попросту говоря – крест. Но однажды они не сошлись в объяснении значения этого символа. Богомолы верили, что главной линией является вертикальная, которая была направлена вверх, а муравьи утверждали, что главная линия – горизонтальная. Богомолы стали усерднее молиться богу, а муравьи – размножаться. Вскоре размножившиеся муравьи заговорили о мировом господстве, а также о том, что им не хватает пространства, и пошли войной на богомолов».
-И что?
-И одержали верх, ведь богомолов было мало.
Я ухмыльнулась.
«Знаешь, аристократия и народ – из одного корня», — неожиданно продолжила Наташа, коснувшись прежней темы. Я встрепенулась: эта мысль билась последнее время где – то рядом со мной. «Да, на самом деле это просто разные проявления народного духа, — продолжила Наташа. — Кому – то нужно было сыграть на «непримиримом противоречии между народом и аристократией». На самом деле противоречия есть между всеми, непримиримые противоречия есть даже внутри каждого нормального человека, по крайней мере, на каких – то определенных этапах его жизни. Но настоящее противоречие – между духовным и бездуховным. Реальное противоречие – только в этом.
— Кажется, я поняла. Кто – то ведь инициирует или умело поддерживает заблуждения масс! Стрелки переводятся в первую очередь на противоречия между нациями, классами и конфессиями – всегда, во все времена, повсеместно, чтобы отвлечь от самого главного – мирового передела земель, ресурсов, богатств и огромных денежных потоков! Но кто за этим стоит?
— Этого мы никогда не узнаем. Хотя догадаться можно: уж и не помню, кто сказал, что в развязывании войны нужны только три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Кажется, весь мир – это только сцена, за которой стоит несколько кукловодов. Они – авторы всех сценариев, в том числе, мировых войн.
Кажется, в моем взгляде отразилось недоумение:
— Как, и ты из тех, кто верит в мировой заговор? Но это же смешно!
— Даже не сомневайся. Хотя все гораздо проще, чем «заговор». Просто план, за последствия которого никто не отвечает.
Я тяжело соображала.
— И никаких вариантов нет, чтобы узнать, кто за этим стоит?
— Думаю, никаких. Эта – золотая игла, что лежит в сундуке, который висит на суку дуба, что растет на необитаемом острове, о котором никто не знает… и так дальше… Змей Горыныч скрыт не так как в сказке, — получше.
— Знаешь, сейчас весь мир снова превратился в Вавилон,– продолжила Наташа, неспешно закурив. – Уже относительно давно. Давно все перемешалось, стало неопределимым. Народ – это те немногие, в ком независимо живет некий напряженный дух с неповторимым лицом. Он – то и определяет единство любой этнической общности. А есть еще эти самые… назовем их «бухгалтеры».
— Почему бухгалтеры?
— Потому что для них важна прибыль. И только. В любых формах, любыми средствами. Разговоры о гуманизме, морали – очередной трюк, чтобы увести в сторону от бесперебойной добычи прибыли.
В какой-то момент мне показалось, как перед нами вздрогнул и медленно покачнулся невидимый плотный занавес. «Средства для уничтожения изобретают лидеры этих «бухгалтеров». Они планируют и осуществляют передел мира. Это они придумывают или поддерживают противоречия по сословному, конфессиональному или национальному признаку. Они умело играют на коллективном бессознательном. Их нельзя недооценивать, — они очень сильны, изобретательны. По сути – это реальные руководители мира».
В моей памяти неожиданно всплыл разговор о женской дискредитации, затеянный Мышкой. Я повторила ее версию, а затем неожиданно для себя продолжила то, над чем мучительно размышляла долгими бессонными ночами, прежде чем для меня все это стало очевидным.
Наташа заинтересованно слушала. «Я так понимаю, что женская дискредитация – самая невинная статья в существующем теневом, мировом институте дискредитации, — добавила я. – Вероятно, он давно действует на всех уровнях – политическом, общественном, личном. Какие-то крупные политики дискредитируют страну, которую хочет колонизировать могущественная империя, чтобы будущая колонизация была оправдана. Какие–то закулисные силы дискредитируют неугодную властям общественную организацию или структуру. Могущественная властная система дискредитирует влиятельную личность, над которой она потеряла политический или идеологический контроль. В свое время великое советское государство миллионами штамповало «врагов народа». Дезинформации верили другие миллионы, которые пока еще не являлись врагами! Абсурд, но в это верили даже умные люди! Дискредитировали диссидентов. Этим занимались определенные люди, которые сидели в солидных государственных учреждениях, обслуживающих государственную идеологию и политику. Оклеветанные личности, партии, государства, народы… Дезинформация, которая запускается с молчаливой инициативы некоторых представителей властей. Я думаю – это сложная грязная система защиты, которая существует затем, чтобы всеми способами противодействовать тем, кто может поколебать разные формы власти над массами.
Но весь ужас состоит не в этом устойчивом многоликом феномене дискредитации и дезинформации, а в том, что он работает без проигрыша. Эти штампы, иногда до смешного примитивные… они действуют на подсознание, от них не освободиться. Гигантская мировая паутина лжи. Она руководит миром».
У меня было странное ощущение, что такая же ситуация уже была со мной, настоящее dega – vu: вот так же мы уже где – то сидели и примерно то же говорили. И тут я подумала: Теун и ее подруга — Наташа. Мистификации в духе Воланда.
ОДИНОЧЕСТВО
Ветер таинственно и зазывно перебирал кроны деревьев за окном, мерно раздувал кисею занавеси, и она плыла на месте прозрачной гигантской птицей, рассекая крыльями мрак ночной комнаты и призрачно серебрилась в неверном свете уличного фонаря. Мрак не давил, он бродил по предметам, жил, дышал. Ближе к окну бесшумно метались тени, отраженные в свете листья деревьев, чудовищные обманчивые блики. Я лежала, широко открыв глаза, чутко вслушиваясь в ночь. Сюда, к Л., меня пригнала тоска, которая стала теперь моим неотлучным спутником. С ней ничего не надо было объяснять и даже говорить, мне казалось, она все понимала без слов. Лежа в кроватях, мы долго болтали о каких-то пустяках. Потом замолчали.
-Посмотри, — сказала я , — вокруг все бьет через край, и ночь, и лето, и небо, и зелень через край, щедро, как на празднике… Кажется, природа дразнит: вот как умею я, вот, как надо. А вы так умеете? Я мы так не умеем, не умеем – так полно, так самозабвенно, так щедро. Нас не хватает. Мне иногда кажется, что мы только тени тех, кем должны были быть… У меня такая тоска по настоящему! Мы привыкли подменять, так привыкли, что подлинное вызывает саркастический смех… Мы подменяем ненасытную жажду познания жизни долгом, естественную потребность в движении, труде, мысли называем трудовым подвигом. Вместо жизнерадостности – терпение, вместо опьянения жизнью – житейский расчет. Вместо настоящей любви – какая-то пошлая возня, слова, слова. Разноцветные дни бытия превратились в однообразные нудные будни, как капли воды из — под крана. Мы ограничиваем пространства табличками с разными надписями, воздвигаем себе высокие клетки и, задыхаясь, разбиваемся о них…
Я так устала. Устала от пустоты дней, которые текут, не задевая меня, не оставляя во мне следа, сочатся между пальцами, и я не чувствую ни радости, ни страха, ни сожаления. Одна усталость. Я отстегиваю эти будни, похожие, как близнецы, с их часовым беспощадным ритмом, я отстегиваю их один за другим у своей жизни. Во мне что – то набирается, зреет, отстаивается, отмирает. Зачем? В их бестолковой мелкой суете мне надо двигаться, что-то делать, говорить, словом, играть отведенную запрограммированную роль в силу какой-то дьявольской инерции.
Но порой меня захлестывает безотчетная тоска, почти отчаяние, от которого я вздрагиваю и просыпаюсь, которое нападает, захлестнув, как жгучее воспоминание, — тоска по настоящему, по большой жизни, по большой любви. Я чувствую, я знаю, что создана для него, для настоящего, во мне все болит и томится по нему, уже давно.
И вот в такие ночи, как сегодня, я слышу, как вселенная хохочет над нами, сотрясаясь гигантским звездным остовом, дразнит нас, посылая нам в окна звуки и ароматы неведомой для нас настоящей жизни, а мы пробуждаемся и томимся по ней, встревоженные, объятые смутным желанием…»
Я пресеклась и внезапно услышала ровное мерное дыхание. Л. заснула сразу, я говорила сама с собой. Я раскинула руки, защищаясь от ночного мрака, пытаясь его разорвать, раздвинуть, освободиться. Подступили рыдания, неудержимые, яростные, и я зарылась лицом в подушку.
***
От него нет спасения. Оно похоже на уродливое животное, которое может менять свои формы и размеры, чтобы не покидать меня ни днем, ни ночью. С утра оно загоняется глубоко внутрь. Меня отвлекают дела, какие-то заботы, мне некогда остановится, чтобы заглянуть вглубь себя, где маленьким черным комком съежилось одиночество. Когда я ощущаю упругий звенящий воздух весны, который, кажется, запоет, проведи только по нему пальцами, как по струнам, когда призывно, так призывно бьется кисея занавесей, вырвавшихся из окна, я слышу глухую боль моего одиночества. Я слышу, как оно поднимается и растет во мне, когда наползают сумерки, и тихо шумит городской сквер, через который возвращаюсь домой. Одиночество смотрит на меня зелеными глазами кошки, безмолвно пересекающей мне дорогу. Я возвращаюсь домой, и в зеркале на меня моими же глазами смотрит одиночество. Я думаю, может это и есть тупик? Может быть, именно сейчас я подошла к разгадке, она-то и лишает желаний и сил? Идешь к какой-то цели, передо мной встают цветные картины. Они манят, обещают, но подходишь вплотную, — они оказываются картонными декорациями, которые рушатся от прикосновения. Но за ними встают другие, и эти декорации кажутся подлинными. Наконец приходишь к зеркалу, и на меня смотрит одиночество. Декорации не обманывают, и уже ничего не спасает от пустоты. Дома меня встречают вещи, полные одиночества, и я касаюсь их с нежной преданностью. Я слышу стук далекой двери, звук шагов, живых, стремительных. Они ближе, ближе… Еще чуть-чуть и я почувствую теплое прикосновение на своем плече…Отрывисто хлопает соседняя дверь и все смолкает. Я остаюсь наедине с ним, и оно разрастается до колоссальных размеров. Я не знаю, куда деться от него, оно везде настигает, сколько бы я не спасалась домашними хлопотами, телевизором, книгами. Я каждый раз обманываю себя, спасаясь от него, — ведь оно во мне и со всех сторон окружает меня непроницаемой стеной, вакуумом. Оно – я сама. Мой крик гаснет в нем, неуслышанный, я протягиваю руки и натыкаюсь на пустоту. Я заперта со всех сторон своим одиночеством. Иногда мне кажется, что вся жизнь – это бегство от одиночества, бессмысленное бегство по замкнутому кругу.
Я бегу куда глаза глядят. Я вижу его в толпе, тысячерукое, тысячеликое, и из толпы на меня смотрят тысячи глаз одиночества. Светятся одиночеством бессонные окна уснувших домов. Я попадаю к людям, они видят мои отчаянные глаза, но я не в силах ничего объяснить, а они приписывают мое состояние конкретным причинам. Вскоре я вынуждена уйти, и я ухожу, и возвращаюсь к нему. Оно опять, как верный пес, неотлучно рядом со мной.
Я лежу, вглядываясь в ночной мрак, в котором ничего нет, кроме него. Я чувствую, как проникают через кожу его щупальцы, медленно, неуклонно наваливается оно бесформенной массой, как тяжелеет молчаливо, упорно. Я задыхаюсь под ним, и не в силах пошевелиться. Боль и ужас сочатся слезами, и наступает опустошенность.
Сквозь пелену я различаю тонкую фигурку. Гибкие руки запрокинуты за голову, детские губы полураскрыты, готовые улыбнуться или что-то сказать. Где-то я уже видела это доверчивое ожидание… Её плоть осязаема и чувственна, она несет в себе тайну любви, продолжения. Она струится по воздуху, каждая линия тела – это движение навстречу, связь между концом и началом. Я все еще жадно скольжу взглядом по линиям её тела, нескончаемым, волнующим, как по дорогам жизни. Неожиданно её лицо искажается, будто стянутое судорогой, черты меняются до неузнаваемости, на лице и теле появляются трещины, они расползаются и вскоре она вся распадается на разные осколки, как мозаика. Я не хочу, я не могу в это поверить: вместо прекрасного тела – бесформенная груда обломков.
Я просыпаюсь в холодном поту и убеждаю себя: это только сон, только сон.
***
Я шла по гулкому коридору общежития, потому что нужно было двигаться, потому что я кому –то была нужна, пусть на вечер, но нужна. Среди полной пустоты, которая меня окружала, это был единственный коридор, который куда-то вел. Меня бил озноб, я тяжело переводила дыхание, будто за мной гнались, лоб покрылся испариной и, казалось, мои шаги отдавались грохотом в чужих ушах. Я прошла мимо кухни, даже не заглянув в нее, чья — то сковорода отчаянно трещала, остро пахнуло жареным луком, вареным бельем и еще чем-то. Я дошла до каменных серых ступеней лестничной клетки и начала медленно спускаться: я запоминала каждую трещину, каждую царапину, все причудливые печати времени на их терпеливом теле, на холодных стенах, покрытых облупившейся синей масляной краской, на коричневых шершавых перилах с железным громоздким основанием, выкрашенным в свежий голубой; вдыхала сырой, чуть затхлый, такой знакомый запах, который был главным демоном старого дома, впитавшим в себя всю его трудную историю, начатую со времен Распутина.
Мы молча ехали в метро. Я прямо смотрела ему в глаза, в очки, сквозь толщу стекол, и не видела их. Он никогда не снимал очков, — без них у него возникало ощущение, что он голый. Пустые пространства наших отношений он пытался заполнить поставленной речью, хорошей информированностью. Речь всегда была стройной, почти изысканной, с умеренной дозой ненавязчивого юмора. Иногда я начинала убеждать себя в его искренности. Но другая, неподкупная часть меня откровенно смеялась над этими конформистскими потугами. Я пыталась рассуждать отстраненно: он был умен, проницателен, и все это применялось затем только, чтобы не быть собой, будто неумело латал собственные прорехи, очевидные лишь ему самому. За его многочисленными маскарадными одеждами порой просвечивало хрупкое тело одинокого мальчика, нуждающегося в тепле. Я его о чем-то спросила, вглядываясь в лицо с безупречным овалом, безуспешно пытаясь пробиться сквозь надежно застекленный барьер. Он, как обычно, лгал, обнажая крепкие ровные зубы в лживой улыбке. Опять безуспешная попытка заглянуть внутрь: его душа извивалась, ускользала. На минуту я закрыла глаза, и вместо его облика всплыла серо-зеленая тень.
Мы сидели в баре совершенно одни и пили пунш. Он яростно чиркнул спичкой и закурил. Тонкая струйка дыма, медленно растворяясь, поползла по воздуху.
-Ты хоть понимаешь, что в наше время ты смотришься по меньшей мере смешно? – Он глубоко затянулся, выпуская дым через нос. – Будь ты немного объективнее, черт возьми!.. Все хотят уважать себя после любого своего действия, ты, я, все кругом. Но ничего не выходит, ничего! У каждого своя мораль, оправданная, выстраданная. При столкновении двух моралей – конфликт. Остается не иметь твердой морали, чтобы проще было договариваться с людьми.
-Да ты не волнуйся так.
-Хорошо, предположим, у тебя высоконравственные принципы. Но чего ты добилась?
-Хватит!
-Я лишь хочу, чтобы ты знала мое мнение: ты просто боишься жить, и для тебя мораль – это оправдание.
Я медленно качала головой. Мое лицо горело.
-Ты знаешь, что это не так. Ты знаешь, что я просто не могу иначе. И говоришь ты все это только потому, что я, наверное, единственная женщина, которая оказывает тебе длительное сопротивление, и у тебя нет другого выхода, как только обратить меня в свою веру… Но ты бы мог всего не говорить, — я уже такая, как все.
Когда–то я хотела быть для кого-нибудь единственной, а не одной из многих. Я хотела одного настоящего, а не множественных подмен. Но теперь я вижу, что так не бывает. Я уже такая, как ты. Меня не надо переубеждать.
Потом мы пили пунш, пока не исчезли остатки отчужденности, и его лицо не стало близким, пока не растворилась боль в груди.
-Хорошо, что мы сюда пришли.
-Тебе нравится?
-Да.
Он наклонился, и поцеловал меня и целовал так долго, что поплыла вся комната и все окружающее.
-Я не могу с собой ничего поделать: думаю о тебе день и ночь. Ты пойдешь со мной?
Я вырвала свою руку, которую он мягко удерживал. Его лицо казалось растерянным и расслабленным. «Я не могу».
Я выскочила и побежала к метро… Голова была пустая, в груди ныла глухая, привычная боль. Я возвращалась в общежитие. Мутный оранжевый свет фонарей пробивался сквозь туман и ложился размытыми пятнами на мокрую черную дорогу, тротуар. Где — то с тяжелым шорохом опадали невидимые листья. Два желтых луча машины рассеяли мрак, когда я медленно переходила дорогу, фары быстро приближались, но я не ускорила шаг. Я услышала визг тормозов, и в этот момент меня кто-то с силой дернул назад за руку. Это был Муса. Машина с визгом остановилась, Дверца отворилась. «Ах ты…» — послышалась отборная брань.
МУСА
«Дина, пойдем отсюда». Он был заметно взволнован и тащил меня за руку по направлению общежития.
-Ты что, не видела машины?
-Видела.
-Почему ты пошла?
Я промолчала. Но он не смирился с молчанием.
-Почему ты пошла?
-Мне было все равно.
Он завел меня в свою маленькую комнату и заставил выпить бренди. Я выпила одна, он не пил. Потом заставил выпить горячий чай. Он сидел напротив, тревожно смотрел на меня. «Скажи мне все, скажи… Пожалуйста».
Мы были едва знакомы, хоть и работали в клинике. Он оказался наполовину моим соотечественником: его мать была из иорданских темиргоевцев. Но я держалась на дистанции: не изжила, возможно, последнюю предвзятость в отношении иностранцев. На работе он пролетал мимо, небольшой, щуплый, забавно расставляя стопы в стороны, на пример Чаплина, и очень безлично кивал мне. Его черные глаза напоминали плотно запертые створки, — глаза Сфинкса. Одна безупречно вежливая обходительность, больше ничего. Однажды мы возвращались из клиники вместе, он предложил выпить у него кофе, и я зашла. Он был очень мил, забавен и весел, и в конце моего визита сказал с улыбкой, что меня любит. Я рассмеялась и спросила: «Это что, дань восточному гостеприимству?»
Иногда он звал меня в походы по магазинам, чаще всего книжным, — покупал огромные английские монографии, преимущественно на Зубовском. Каждая нозология изучалась им в классической последовательности: гистология, анатомия, пат. анатомия, физиология, этиология, патогенез, клиника, лечение. Являясь хорошим клиницистом, он знал так же хорошо все остальные разделы конкретных нозологий, с которыми сталкивался в клинической практике. На семинарах, которые проводили профессора, к нему обращались только для уточнений. Несколько раз после занятий он говорил мне о том, что предложенная профессором П. схема лечения устарела, и сейчас используют принципиально другую. Я удивлялась: «Почему же ты ничего не сказал?»
-Это было бы обидно. П заслужил уважения.
-Но это же правда!
-Дина, говорить правду еще не значит служить ей, — говорил он с терпеливой улыбкой, и такая откровенная сентенция почему-то не вязла на зубах.
«Дина, я давно жду, что ты мне скажешь главное, — сказал он мне однажды. Я пыталась справиться со смятением: неужели он что-то заметил, ведь я неплохо собой владею. — Тебе надо выговориться». Я смотрела на его руки, заботливые, чуткие, с мягкими длинными пальцами. «Дина, не бойся мне довериться», — от него исходил какой – то солнечный магнетизм, и я невольно заговорила. Я начала неуверенно, смущенно, но его глаза светились терпеливым ожиданием, раскрывали, вели. Я принялась неловко излагать факты и молчаливо обнажать то, что стояло за ними, — тоску и боль, и еще что- то, что существует реально, как предметы вокруг нас, но чему нет и, наверное, никогда не будет названия.
Теперь же в его глазах не было и тени обычной непроницаемой завесы, -они были широко распахнуты и светились изнутри таким ровным неукротимым светом, что не оставалось, кажется, ни одного уголка души, который не был для меня неосвещенным. Я изучала его с молчаливым удивлением: непроницаемые глаза Сфинкса превратились в открытые, почти беззащитные глаза мальчика.
Я сказала, что была в гостях у подруги. Он пристально смотрел на меня, продолжая улыбаться: «Это неправда». Я смутилась и промолчала.
-Я могу сказать, где и с кем ты была.
Я молча изучала его с совершенно новым чувством.
-Ты была с ним. Очевидно, в баре или кафе.
Я была поражена: «Ты меня видел?». Он как-то натянуто рассмеялся:
-Нет, я не видел тебя. Ответь, пожалуйста, на вопрос: ты его любишь?.. Ты вправе не отвечать,- поспешно добавил он, опережая мое возмущение. Что-то, скорее в его интонации, заставило меня повиноваться:
-Нет, я не люблю его.
-Зачем тогда ты встречаешься с ним, зачем?
Внезапно он ударил кулаком по столу и отвернулся. Я не верила своим глазам. Туман в голове рассеялся, и все обнажилось со странной ясностью. Впервые за долгое время я почувствовала прилив жизни, тепла, боли, раскаяния. Я не могла найти нужных слов, путалась и лишь твердила: «Я не поверила тебе… Я сделала это, чтобы забыться… Все так запутано, прости меня». Он снял мои руки, не отпуская их, повернул ко мне отчаянное лицо и проговорил: «Дина, ты – самое большое, самое настоящее, что я нашел за все эти годы. У тебя такой прекрасный образ. Он здесь, — он приложил руку к груди, — Я тебя очень прошу: пожалуйста, не уничтожай его!»
И я сказала ему то, что я теперь думала. Раньше я верила в основы миропорядка, во что- то, что держит мир в равновесии и дает веру. Но ничего
нет. Есть только то, что видишь. Мое только во мне, то, что вовне, — чужое. Все остальное – иллюзии, один бессмысленный хаос. Смысла нет. Смысл мы придумываем и начинаем в него верить. Но в какой-то момент жизнь доказывает ложность всех былых представлений, смеется над ним. Что тогда делать со своей жизнью, которая протекала сообразно ложным представлением? Что делать с хвалеными добродетелями: честностью, целомудрием, добротой, когда над ними тоже посмеялись. Вот тогда начинаешь идти против себя: изменяешь своему прежнему я, доверчивому, детскому, которое во мне еще живо. Начинаешь покрываться ранами, но в глубине ощущаешь холод восторга, освобождения: вот тебе, за твой дурацкий идеализм, получай за никчемную дырявую нежную шкурку, за розовые слюни!
-Нет! – крикнул он, — Дина, нет! Ты должна полюбить себя!
-Я не могу.
-Почему?
Я молчала.
-Дина, почему?
В его тоне я услышала что – то похожее на отчаяние.
-Потому что я себя теперь ненавижу.
Он поднял мой подбородок двумя пальцами и нацелился в зрачки черными обжигающими глазами. Он говорил, яростно выбрасывая каждое слово, как блестящее лезвие, и каждое слово несло столько страсти и яростной убежденности, что невольно подчиняло себе:
— Дина, ты никогда не задумывалась, почему Аллах тебя создал именно такой, какая ты есть? Подумай, сколько тысяч поколений рождались, жили и умирали, чтобы наконец появилась ты. Сколько тайных страстей, мыслей и борьбы, которые предшествовали твоему появлению! Разве можно сказать после этого, что твое появление – нелепая случайность? Ты – это божественный план, и твоя задача – его воплотить. Каждый человек – божественный план, который заключен в нем от рождения, божественная программа, заданная свыше, которую каждый должен услышать. Ты же просто потеряла веру, потому что она не была крепкой. Все, что с тобой произошло, — это отсутствие твердой веры и неблагоприятная игра случайностей. Разве ты так слаба, чтобы уповать на случай и просить у него милостыню? Сама распоряжайся им! Главное – твоя основная большая цель и ничто, никогда не должно поколебать тебя в этом! Ты должна быть сильна в своей вере, потому что ты можешь очень много, почти все.
Пусть их много, этих заблудших, жалких людей, их всегда слишком много. Но если ты изменишь себе и придашь свои идеалы в угоду большинства, то станешь такой же, как они.
Дина, послушай меня еще. Добро, справедливость существуют только тогда, когда в них веришь. И до тех пор, пока в них верят, они будут существовать. Если ты будешь верить и служить им очень сильно, то за тобой обязательно пойдут другие, и тогда, может быть, ты победишь». Все остальные события вспоминаются как один день: мой телефонный разговор с отцом, мое отчаяние, его негодование: «как это – иностранец?», и неожиданный выход, найденный Мусой: «Дина, я –верующий мусульманин. Мне достаточно мусульманского брака». И эта странная церемонии: молодой эфенди в чалме и джинсах, и наш молодежный импровизированный веселый стол, на котором пили все, кроме жениха.
Всю свою жизнь мы уместили в месяц. Наши тысячи дней были спрессованы в дни одного месяца. За сутки мы проживали годы, а минуты растягивались на долгие часы. Я совершенно потеряла чувство времени, мы находились на той грани, где заканчиваются реальные понятия, не работают обычные оценки, и все предметы обретают новый смысл. Я поняла, что почти ничего не знала. Он постепенно и неуклонно вводил меня в свой мир, похожий на прекрасный храм, где все было подчинено ясному, величественному замыслу: ничего лишнего, ни одной черты, нарушающей строгую простую гармонию.
У нас случались странные совпадения. Например, он мне как –то сказал с веселой улыбкой: «Знаешь, я сам пришел к философии стоиков. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что таким же путем двигалась мысль людей, которые жили до нашей эры!» Я только удивленно рассмеялась: я тоже пришла к идеям стоиков прежде чем прочитала о них.
-Ты помнишь основное их положение насчет настоящего?
-Жить прошлым бессмысленно, так как оно прошло, жить будущим тоже бессмысленно, так как оно не наступило; жить тем и другим – значит губить настоящее, которым только и стоит жить.
-Тогда скажи, чем живешь ты? Дина, это не философия, это – предупреждение. Вспомни тех, кто оглядывался назад. Обернулась жена Лота на пылающий город Содом, — и превратилась в соляной столб. Орфей спустился в ад за Эвридикой, и оглянувшись, навсегда потерял её. Дина, прошлое убивает. Ты понимаешь, почему я говорю тебе это?
-Понимаю. Но я не могу не думать об этом, должна же я это как –то уместить в своем сознании. Я смирилась бы с этим знанием, если бы оно было усвоено открыто. Но я его будто подсмотрела в дверную щель. Ужас, который держат за закрытыми дверями.
-Послушай, я помогу тебе осмыслить это. Я сделаю все, чтобы ты восстановилась. Но пообещай, что ты все –таки станешь настоящим стоиком, — он улыбнулся, — и не будешь оглядываться назад. Нельзя идти вперед, повернувшись назад.
-Нельзя идти вперед, если ты не знаешь того, что осталось за спиной. Разве не так?
-Так.
Он рассказал мне о черкесах – наших соотечественниках с Ближнего Востока. Они часто оказывались в странах, разделенных военным конфликтом, вынужденные воевать друг против друга. Однажды при осаде Сирии израильскими войсками, до сирийских черкесов долетели звуки старой адыгской песни, что принес вечерний ветер со стороны израильтян. То пели израильские черкесы. Им в ответ запели черкесы из Сирии, — ту же песню. А наутро те и другие отказались воевать, даже под угрозой расстрела. Когда Голанские высоты были завоеваны, на их территории оставалась одна пожилая сирийка, черкешенка. Она знала цену родине и не хотела снова терять ее, вновь обретенную. Она так и не ушла с завоеванной земли. Ее стали звать Мать — Сирия.
-Ты думаешь, есть ли у нас будущее, ведь так? – спросил он вскоре.
Он вместил в этот вопрос тот двоякий смысл, из которого одно неминуемо влекло за собой другое: будущее нашего народа, а значит, и наше с ним будущее. Он, как всегда, определял главное без слов, и сразу озвучивал его с предельной, почти беспощадной ясностью.
-Я хочу верить, но что –то во мне сопротивляется… А ты веришь?
Муса странно улыбнулся: «Ничего нового не происходит. Распадаются одни связи, возникают другие. Распадаются одни народы, возникают другие. Исчезли вавилоняне, скифы, шумеры, византийцы, хетты и хаты, гунны, сарматы, половцы и другие. Исчезло неисчислимое множество великих народов и великих цивилизаций. Но мертвый латинский язык стал основой для огромного большинства нынешних европейских народов и Римская цивилизация, распавшись, породила нетленные структуры общественного устройства. Потомком непобедимого, но побежденного Рима стала Италия.
-И все – таки мне все это напоминает поминальную песню.
Я слушала его часами, и на моих глазах раздвигались и светлели горизонты. Постепенно растаяла призма боли, через которую я видела мир искаженным; еще совсем недавно размытый нелепый хаос обретал внутреннюю гармонию, все предметы и понятия выделились из неопределенного фона и стали на свои места. Еще вчера мне казалось, что я застыла, что иду вверх по спускающемуся эскалатору, который меняет свою скорость синхронно моей. Теперь же мы вместе неслись вверх, и обзор становился все шире и шире. Мы постигали, любили, жили с отчаянием обреченных с утра до ночи, с ночи до утра. Он практически не ел и не спал. Жизнь, похожая на сомнамбулу. Во всем громадном хаосе, который каждый раз на нас накатывал и в котором необходимо было разобраться, а я порой тонула и отчаивалась в нем что-то понять, он помогал мне увидеть суть происходящего. Он научил меня отметать наносные слои, которые порой ослепляют и кажутся главными, и видеть ядро событий и причину их. Однако самым важным было громогласное «ДА» всему миру, той вере, которую я потеряла: «Ты никогда не должна идти против того лучшего и главного, что есть в тебе. Ты обязана верить в свое лучшее, чистое начало, и всегда, во всем исходить из этой веры. Тогда ты сможешь противостоять любым обстоятельствам, и они никогда не изменят тебя. Обещай мне это!»
-Почему ты требуешь от меня этого?
-Потому что ты – Дин, моя настоящая религия.
Его лицо сияло детской радостью. Маленькая комната превратилась в сияющий оазис среди смутной громады внешнего мира, и этот крошечный островок счастья мне казался вечным.
Мы совершенно забросили учебу. В клинике он по нескольку раз поднимался на мой этаж, каждый раз придумывая для других разные предлоги. Я приходила к нему в отделение без предлогов. Мы считали часы до окончания работы, и после нее встречались как после долгой разлуки.
Раньше он мог работать над собой почти сутками, поглощая несметные потоки научной информации и пропускал её через мощные механизмы своей мысли и памяти. Иногда он доходил до физического изнеможения, так что ординаторы нашего подъезда изумленно восклицали: «Старик, что ты с собой делаешь!» А он лишь сдержанно улыбался. Я тоже его как-то спросила: «Неужели ты не можешь меньше работать?» Он серьезно ответил: «Не могу». Тогда я поняла: в любом своем действии, мысли, во всем, он должен был доходить до предела, иначе для него, очевидно, что-то нарушалось. Теперь он говорил: «Дина, я никогда не позволял себе терять ни одного часа, а ради тебя теряю целые недели! — и удивленно смеялся. — У человека три сердца: одно он открывает всему миру, другое – только семье, а третье держит в себе. Ты открываешь мое третье сердце».
Он говорил простые вещи, простые порой до банальности. Я больше не боялась быть или казаться сентиментальной. Я не боялась быть любой. Простые слова входили в мое сознание, как высшее откровение. Он повторял мне старые истины, но я их слышала и чувствовала впервые, — в его речах они походили на чудесные первоцветы, рожденные весенней землей, и только теперь я ощущала этот первозданный аромат. Их ясный, завершенный смысл обладал свежестью античных первооснов и оказывался отмыт от того грязного глянца затертости, в которое одело его время.
При нем я раскрывалась, как никогда полно, до конца, до последних, еще не осознанных эмоций. Однажды я пересказывала какую-то глупую сплетню о себе, случайно услышанную. Я не могла скрыть досады и обиды. Он внимательно, без улыбки слушал меня и одновременно думал о чем- то своем.
-Дина, — мягко обратился он после завершения моего монолога, — в тоне его мне почудилась неподдельная тревога, — в одном ты очень похожа на всех…- он пресекся на миг, — на всех своих соотечественников.
Кажется, я смотрела вопросительно, поэтому он продолжил:
-Как можно такое внимание уделять людскому мнению? Это пустое. По- настоящему важно другое: научиться слушать себя. Сильно. (Его любимое словечко). Надо непременно научиться этому: чутко слушать себя. И тогда ты услышишь главное: голос бога в тебе.
Я сидела индифферентно. Он улыбнулся, и сказал:
-Я знаю, что тебя больше убедит в этом литература. Гессе, к примеру!
Он засмеялся, увидев мое оживление, вытащил томик среди заваленных книгами книжных полок, полистал книжку, и почти сразу нашел: — Слушай: «Наше субъективное, эмпирическое, индивидуальное «я», когда за ним хоть немного понаблюдаешь, оказывается крайне переменчивым, прихотливым, крайне подверженным всяким внешним влияниям. Но это не та величина, которая поддавалась бы однозначному учету, еще меньше она способна служить мерой и внутренним голосом. Это «я» ничего не скажет нам, кроме того, как это довольно часто говориться в Библии, что мы поистине слабый, строптивый и малодушный род. Но есть еще и другое «я», скрытое в первом, перемешанное с ним, однако путать их ни в коем случае нельзя. Это второе, высокое, святое «я» (Атман индийцев, которого вы равняете с Брахмой) не является личным, оно – наша доля в боге, в жизни, в целом, в безличном и сверхличном. Стоит скорее искать такое «я» и следовать за ним. Только это трудно: вечное «я» тихо и терпеливо, тогда как другое «я» столь нескромно и нетерпеливо».
-Боже мой, я всегда это знала. Но куда же мне деться от привитых с детства догм, что самым объективным критерием является общественное мнение? По-твоему, оно ничего не значит?
Он улыбнулся: «Значит. Но человек слишком слаб, чтобы судить абсолютно верно. Еще больше путаницы, когда о чем-то судят многие. Иногда они правы. Но ровно на столько же неправы. Люди – это зеркала, каждый друг в друге отражается. Ты отражаешься во всех окружающих, среди которых – множество кривых зеркал. В них отражаешься криво. Можно ли обижаться на зеркало, которое отражает тебя криво по причине собственной кривизны? Над этим можно только смеяться, как в комнате смеха.
-Или в королевстве кривых зеркал! Выходит, наш мир — королевство кривых зеркал?
— Кроме зеркала любви.
Я вспомнила черно- белый фронтиспис О. Бердслея к книге стихов «Зеркало любви».
-Переведи дословно адыгское «Сэ уэ фъ1ыуэ узолъагъу».
-Я хорошо тебя вижу.
-Разве я не доказал?
Я вновь ощутила чувство прорыва, когда внезапно опадают преграды и вечный защитный панцирь, и обнажается нежная, хрупкая, пульсирующая сердцевина…Я напряженно вспоминала. Ну конечно же, это- маленькая зеленая чашечка, бабушкина семейная реликвия: «Загляни туда и узнаешь, какой ты будешь в будущем!» Я посмотрела в мутное выпуклое окошечко на дне: «Но здесь ничего не видно!»
-А ты налей немного воды.
Я налила – и внезапно прояснилось мутное дно, отразив прекрасную незнакомку в короне: «Принцесса!»
Кажется, для меня что-то прояснилось: любовь – это влага, проявляющая смутный образ на дне бабушкиной чашечки. Для меня становилось ясным и другое: если любовь открыла в девушке принцессу, то это не потому, что она слепа, и принцесса ей только кажется, а потому, что она единственная, которая видит то, что есть. Она видит золотую сердцевину и помогает ей проявиться.
-Мы все еще делим людей на плохих и хороших, — сказал Мусса, — но скорее следует делить на любимых и нелюбимых. Человека можно сравнить с огромным домом с бесчисленными тайными комнатами, двери которых заперты. В них живут тайные существа. Человек и не подозревает порой, какие они. Поэтому больше верит в тех, что выходят наружу. Если кто-то отпер темную комнату и вывел оттуда спрятанную там принцессу, то все увидели, что девушка и есть принцесса. Любовь открывает комнаты, в которых скрыты прекрасные, возвышенные, добрые и умные существа. Ненависть находит двери, где заперты уродцы и демоны.
-Значит, любовь и ненависть обнаруживают только крайние полюса?
-О, нет! Человек таков, каков его глашатай. Если принцесса выходит всегда, то самая простая девушка утверждается в этом образе и становится настоящей принцессой. Приходит глашатай любви и выводит честность, благородство, справедливость, доброту. Ищет, находит и выводит. И лучшие начала из потаенных становятся явными.
Если верят в злое начало и взывают к нему, и оно обнаруживает себя, откликается и выходит наружу. Поэтому доброта творит добро, а зло порождает зло.
-И не иначе?
-Не иначе.
-Разве нет людей, которые сами с собой справляются и не дают своим демонам хода?
-Такие есть. Но их мало. Это – учителя, те, что справились со своими демонами и могут вызывать в окружающих самое совершенное. Они отражают в других то, что сами излучают.
-Мир – это бесконечная система зеркал.
Иногда мне становилось страшно от его бескомпромиссности. За ней скрывался зародыш наших противоречий. Муса мог до конца понять и оправдать лишь те мотивы, которые были подсказаны железной логикой разума: «Все должно быть ясно». Он требовал ясности в словах, мыслях, понятиях, поступках, во всем.
Для меня существовали полутона, промежутки, переходы, игра воображения, и они порой были также, если не более, весомы, как и чистый диктат разума. Я не могла доказать их существование, потому что они не были очевидным фактом, теоремой, поэтому и не принимались его четко отточенным сознанием. Я не могла ему объяснить, как это бывает, когда разум порой беспомощно барахтается в трясине подсознания, чтобы потом стать чистым, как родниковая вода, что желания иногда разрывают вечную ненавистную лямку, беснуются, — до тех пор, пока вконец не заплутают, и лишь тогда затоскуют по твердой руке хозяина, что порой на голову сваливается счастье, которое не понимаешь и не хочешь понимать, и счастлив оттого, что просто чувствуешь.
Мой мир. До того, как в нем образовалась недавняя зияющая пустота, он вмещал в себя прошлое, настоящее, будущее, и бесчисленные диагонали, соединявшие эти три пространства в единое целое. Его миром было настоящее, которому служили прошлое и будущее и которому он отдавался так же страстно, как принимал его.
В моем эклектическом космосе уживались круги и квадраты, философия Платона и Будды, Бергсона и Ганди, Хайдеггера и Бердяева, Ясперса и Хаяма, Запада и Востока, где я могла скользить по всевозможным граням крайних противоречий и усмирять их, сводя каждое с бесстрастием опытного мага к великолепному единству, круглому и искристому, как рождественский шар. Шаров порой оказывалось множество, и я могла жонглировала ими. Каждый яркий феномен я могла провозгласить богом. А он говорил: истина одна, и поклонялся единому богу с завидной последовательностью, срывая с лиц, предметов и явлений бесчисленные маски.
Для меня же истина являлась порой как вспышка озарения, знаменуя собой результат напряженного процесса, который зрел где-то в недрах сознания, почти независимо от меня, или вспыхивала между строк великих книг, и каждый раз приносила мне великолепное чувство полного обновления. Но так называемые истины в обыденной жизни напоминали сытых жирных голубей, вскормленных на городских свалках, или разрушенные миллионами ног ступени древней лестницы, которые так далеки от своего первозданного облика, что уже не будят воспоминания о нем.
Он всегда доходил до сути явлений, их основная структура складывалась в его умных руках в законченную форму.
Я же видела многие формы одной и той же сути, и превращения одной в другую, и их изнанку. Я не могла ему противопоставить это свое видение мира, если не доказывала его с помощью непогрешимой логики. Оно шло вразрез с его стройной, почти математической системой мировоззрения, которую он мог в любой момент отстоять с ошеломляющей последовательностью. Ясность, глубина и строгость его мысли. В ней сквозила железная воля, она мягко увлекала и вела за собой.
Мы невольно вернулись к прежней теме, спустя несколько дней:
-Мне кажется, — сказал он задумчиво, — что самый большой грех, который совершил наш народ, заключается в том, что он потерял своего бога. (Он говорил «наш» на арабов и адыгов).
-Но бога почти во всем нам заменяло хабзэ: оно было и религией, воинским знаменем, этическим эталоном, бытовой нормой. Оно же регламентировало любые отношения — от семейных до социальных.
Он кивнул: «Я это знаю. Но большинство людей слишком слабы, чтобы соответствовать этической норме только благодаря одним сознательным усилиям. Им нужна глубокая вера. То, что могут трое из ста, не годиться для 97. Но без бога в душе не выстоят и трое». Я промолчала. Он нежно коснулся моей щеки и посмотрел прямо в глаза:
-Дина, ты сама, не зная того, во всем и каждом ищешь бога или след его. И за это я люблю тебя. И за это тоже, — добавил он с веселой улыбкой. – Ты хорошо чувствуешь, но пока еще недостаточно осознаешь свой путь.
Я вопросительно взглянула на него.
— Он – в самоопределении на пути к богу.
Я промолчала, но он видел даже то, что таилось за непроницаемой стеной молчания.
— ОН сам обозначил этот путь: вспомни, например, закон Геккеля и Мюллера: онтогенез повторяет филогенез. Человеческий зародыш на первом этапе – зигота, которая увеличивается сначала как простая амеба – делением клеток. Затем он начинает выглядеть как рыбы, — так же дышит жабрами, потом как пресмыкающееся. Эти стадии эмбрион проходит стремительно, за три месяца, но они существуют. Потом человек рождается, и начисто забывает об этапах своей эволюции. А ведь они – прямая подсказка для эволюции души: следует пройти сложнейший и увлекательнейший путь от амебы до ангела, и приблизиться к своему высшему божественному воплощению… Разве ты не встречала людей, которые по сути воплощают ящериц или змей? Приглядись: нас окружают разрозненные стада лошадей, кабанов, оленей, целые стаи лис, волков, шакалов, собак в образе людей. И даже среди последних можно без труда различить кукольных болонок, прихотливо постриженных пуделей, длинноногих изящных борзых и жизнерадостных добряков – дворняг. Кто – то стремительно преодолевает в себе стадию мыши и увязает на стадии тюленя до конца жизни. Кто – то пробегает все обличия животного и застывает на стадии человека. А кто — то перерастает и ее. Побывать во всех божественных ипостасях, в муке преодолеть их, вырастая из простейшего – в животное, из животного – в человека и, преодолев природу земного человека, превратиться в летающего, чтобы потом взлететь и ощутить божественный промысел полета. Посмотри, Бог везде, во всем: достаточно внимательно приглядеться, чтобы повсюду увидеть его знаки.
-В чем они для тебя?
-В красоте. В совершенстве. Мало кто не видит и не чувствует их, но реагируют по-разному. Кто-то восхититься, проникнется высшей радостью и преклониться. Так реагирует большинство. По-моему, большая часть человечества умеет чтить красоту.
— А мы?
-Перед красотой у нас сжимается сердце, но не гнуться колени и деревенеют шеи. Любое совершенство адыги воспринимают как личный вызов. Поэтому эти добродетели уходят из их жизни. Иногда мне кажется, что наша судьба – наказание за гордыню и за кризис веры.
Я внимательно и испытующе смотрела на него. Он казался спокойным, даже умиротворенным.
-К сожалению, это – родовое пятно нашего времени – дефицит веры. Рационализм, который насаждался последнее столетие, исчерпал себя, оказался несостоятельным.
Он взял с полки какую – то английскую книгу, нашел нужное место, пробежал глазами: «Вот, смотри, я перевожу из одной американской книги: «Западный рационализм, достигший своего высшего развития, начал подрывать самого себя благодаря выводу, что рациональные основания, на которых могли бы основываться универсальные нормы морали, отсутствуют». Только вера когда – то смогла изменить ход истории и времен, — ведь новая эра началась только с приходом Иисуса Христа, как высшего символа веры. Наше новое время овеяно знаменем веры, только мало кто помнит об этом. Человеческая мысль слишком несовершенна, она должна иметь в основе своей веру.
Я еще молча пыталась сопротивляться его несокрушимой магической силе убеждения. Он понимающе улыбнулся, что снова доказывало одно: он всегда видел меня насквозь и умел читать мысли. Я к этому никак не могла привыкнуть.
-Если ты повернешься сейчас ко мне спиной, — продолжал он невозмутимо, -И я позову тебя по имени: «Дина!» Что ты сделаешь?
-Повернусь и спрошу «что?»
-А если я позову тебя чужим именем в чужом месте? Тогда что ты сделаешь?
-Обернусь на звук твоего голоса.
-Обернешься не сразу.
-Да.
-Если в чужом месте, чужим именем, на чужом языке позову тебя?
-Могу не обернуться.
-Скорее всего, не обернешься.
-Да.
-А если в чужом месте позову тебя чужим именем, на чужом языке, среди городской толпы, где каждый кричит свое?
-Я тебя не услышу.
-Так и Господь.
-Но я не Господь.
-Но он «сотворил человека по образу своему, по образу Божию». Иначе бы мы не слышали в себе его голос. Знаешь ли, что имя свое «Аллах» он сам запечатал в нашем сердце? Бог ищет народ свой на земле своей и обращается к нему на языке народа. Если народ потерял свою землю и утратил язык, — он может не услышать своего бога.
СОБРАНИЕ
Однажды на письменном столе я увидела миниатюрную газетную вырезку, написанную еле различимым мелким шрифтом под заголовком «В защиту адыгов». Я прочла ее: «Руководящий комитет Организации Непредставленных Наций и Народов в Гааге заслушал выступление члена Руководящего комитета Т. Казанокова относительно первоочередных проблем, стоящих перед черкесским (адыгским) народом. Одна из них в том, что, несмотря на многочисленные обращения ОНН к руководству Российской Федерации, получение российского гражданства потомками насильственно депортированных черкесов (адыгов) все еще затруднено.
В своей резолюции ОНН снова обращается к российским властям закрепить за черкесским (адыгским) народом статус народа – изгнанника соответствующим законом и облегчить процедуру гражданства черкесами (адыгами), желающими вернуться на историческую родину». (Настоящая заметка из Кабардино — Балкарской правды за январь 1999 года)
— Откуда это? — спросила я Мусу.
— Я давно слежу за этим процессом, — ответил он спокойно, прямо взглянув мне в глаза. Я подавила в себе обиду и промолчала.
Однажды утром после завтрака он сказал: «Я хочу тебя взять с собой на одно собрание. Ты уже в хорошей форме, но обещай, что будешь реагировать спокойной».
-Обещаю, — сказала я. – Реагировать на что?
-Это будет неофициальное собрание представителей черкесской диаспоры в Москве.
-Первое собрание?
-Нет. Мы встречаемся уже несколько лет.
Я опешила. Он изучающее смотрел на меня и улыбался.
-Почему ты мне не сказал?
-Ты была к этому не готова. Кроме того, потребовала бы немедленно взять тебя с собой.
-Разве это было невозможно?
-У тебя был глубокий кризис, да ты и сама знаешь. Я боялся, что подобная информация усугубит его.
Я отдала должное его выдержке. Я никогда не смогла бы скрыть от него такое. Мы отправились в самый конец Москвы. Собрание должно было проходить на базе одной из школ. Здание оказалось пустым, — был воскресный день. Мы вошли в просторный актовый за на первом этаже. Там собралось десятка два людей. К Мусе подошел бледный невысокий молодой человек с короткой черной бородкой и вопросительно посмотрел на меня. «Это Дина», — сказал Муса, и молодой человек с подчеркнутой почтительностью склонил голову. Я до сих пор терялась от непривычных манер иностранцев, которые на фоне наших обычных, советских казались чересчур изысканными. Бледный молодой человек заговорил с Мусой на ломанном русском. Когда он отошел, Муса весело рассмеялся: «Он так мучился, говоря на русском, чтобы ты не поняла. Он решил, что ты – арабка. Ты действительно очень похожа на светлую арабку». К нам подошел другой, высокий, слегка сутулый, с особенным тоном кожи – цвета темного матового янтаря, будто освещенного изнутри. У него было легкое прохладное рукопожатие. Мне показалось, что он дал мне руку по рассеянности, будто перед ним был мужчина. Они говорили с Мусой на арабском.
-Это был потомственный кабардинский князь из Иордании. В нем чувствуется усталость крови, — признак древней расы. Не находишь?
Пока мы здоровались со всеми присутствующими, Муса переходил с арабского на английский и на русский. Он подвел меня к худенькой женщине средних лет в джинсах и светлом просторном свитере.
— Познакомься, это Таня Элерман. Она из Германии и знает немецкий хуже абазинского.
-И шапсугского, — со смехом добавила Таня. Среди присутствующих было несколько англичан, поляков, чехов, граждан США и несколько россиян.
Первый выступающий был из Адыгеи, смуглый, голубоглазый, с короткой стрижкой волос темного пепельного цвета. При всей экспрессивности текста, он был сдержан, но это странным образом усиливало эффект воздействия:
-Цивилизация, созданная человечеством на земле, эфемерна. Она может исчезнуть в любой миг. А для нашего народа не меньшей реальностью является возможность исчезновения в рамках этой эфемерной цивилизации. Чтобы выйти из летаргического сна, затянувшегося на многие века, придется напрячь все силы. Прозреть невозможно без желания прозреть. Мы боимся открыть глаза и увидеть правду. Но если мы все-таки откроем их, то увидим, что мы в большинстве своем безыдейны, бездуховны, безбожны, что в наше «разгерметизированное» сознание льется постоянный, нефильтруемый информационный поток, из-за чего оно сильно деформировано. В нашей среде неуправляемо растет алкоголизм и наркомания. Наш язык поставлен на грань исчезновения. Мы разбросаны по всему свету, а те, которые живут на своей родине, расчленены и разобщены. Но самое главное, мы находимся в заблокированном, вакуумном состоянии. Нас нет для мира. Мы продолжаем спать, и во сне нам кажется все происходящее сном, который проходит. Между тем, человечество в своем развитии ушло далеко вперед.
Теперь у нас нет времени на длительное осознание и исправление положения, — вместе с тем, только шаг за шагом, декодируя все то, что произошло с нами, можно выйти из этого тупика. Решать свои проблемы революционным путем — огромная ошибка, трагизм и ошибочность его были доказаны на наших глазах. Путь этот лежит только через реформирование сознания. При этом весь поток самосознания следует направить в единое русло. ( Некоторые фрагменты текста – обращения основаны на декларации Р. Цримова)
У нас до сих пор нет единой действующей координирующей программы, которая бы предусматривала развитие по всем приоритетным направлениям национальной культуры. Это кажется сейчас маловероятным в отношении политики и экономики, так как адыги оказались разбросанными по всему миру, и являются гражданами разных стран и республик. Но единая культурная программа – это единственная, хотя пока еще гипотетическая реальность.
Мы очень много должны сделать. Например, разработать собственную методологию изучения родного языка, исходящую из законов образования самого языка, с учетом развития современной лингвистической науки; приступить к написанию истории Черкесии безо всяких идеологических шор, отвечающей требованиям современной историографии.
У нас до сих пор нет хороших добротного тома адыгских народных сказок, несмотря на существование государственных издательств, (как нет их, кстати, на балкарском, карачаевском и других языках северокавказского региона), для формирования национального художественного образа мышления, необходимого и действенного более всего в раннем детском возрасте.
В настоящее время мы не готовим специалистов, которые бы приступили к работе в крупных архивах разных стран, которые содержат ценнейшие нетронутые материалы по истории черкесов. Такими, в частности, являются материалы, которые находятся в библиотеках Лондона и Ватикана. Они до сих пор не востребованы нами.
Политики оказались достаточно прозорливыми, создав межпарламентскую ассамблею трех братских республик. Таким образом, они подготовили правовое поле разрешения этих реформ и многих актуальных вопросов, стоящих перед нашим народом. Сегодня мы собрались, чтобы хотя бы отчасти осветить реальное положение, в котором находятся адыги за рубежом.
Но сначала попытаюсь обозначить основными штрихами положение современных адыгов на старой исторической родине. Они проживают на территории нескольких разных республик: Республика Адыгея, Кабардино –Балкария, Карачаево –Черкесия, Моздок на территории Осетии, в котором проживают моздокские кабардинцы, Шапсугия на территории Краснодарского края. Об ассимиляции можно говорить как об перманентном устойчивом процессе в городах, где адыгские семьи живут среди полиэтнического населения. В условиях демократизации межличностных отношений число межэтнических браков возрастает. С другой стороны, продолжает усиливаться урбанизация, так как молодежь стремиться в городские центры, где с большей вероятностью можно найти работу и получить образование. Таким образом, молодые люди покидают свои моноэтнические села и оказываются в городах с многонациональным населением. Этот фактор также усиливает ассимиляцию. Несмотря на то, что адыги на исторической родине проживают в пяти местах, территориально они слишком разобщены, чтобы была возможна естественная эндогамия. При сложившейся тенденции можно говорить о медленной ассимиляции адыгов и на исторической родине.
В настоящее время на всем пространстве Российской Федерации обозначился выраженный демографический кризис. Он особенно болезнен в отношении малочисленных народов. Почти во всех республиках смертность превышает рождаемость, число разводов превышает число браков. Значительная часть молодых людей детородного возраста погибает от наркомании и алкоголизма. Высок процент общей заболеваемости и бесплодия среди мужчин репродуктивного возраста. Следствием является печальный факт, что множество молодых женщин так и не выходит замуж. При этом давно распространенная западная модель жизни женщин, имеющих детей вне брака все еще недопустима для черкесского образа жизни в силу известной этнопсихологии. Высок процент хронических заболеваний среди всех возрастных категорий детей. Небольшое количество молодых людей, добившихся значительных финансовых успехов, причисляется к группе риска, так как подвергается систематическому вымогательству. Среди них высокий процент насильственной смертности. Очень высок уровень безработицы, при этом почти отсутствуют государственные дотации. 80% населения живет за чертой бедности. Огромное число молодых людей трудоспособного цветущего возраста ежегодно покидает республику, чтобы найти работу. Это преимущественно самый потенциальный, интеллектуальный состав молодежи, который не находит профессионального применения, — таким образом происходит неуклонная «утечка мозгов». Все это – на фоне разгула преступности, агонирующего государственного производства и неустойчивого частного предпринимательства; парализованного, почти неработающего законодательства, раздутых фискальных, силовых, таможенных учреждений, тотальной коррупции и взяточничества.
В результате Кавказской войны адыгов осталось по независимым данным от трех до пяти процентов. Прецедентом является не геноцид, (геноцид, увы, стар, как этот мир), а то, что эта правда тщательно скрывалась все 70 лет советской власти и до сих пор скрывается от общественности. Во
всем мире хорошо известен геноцид африканских негров, евреев, американских индейцев, колониальные войны по освоению Америки, Африки и Австралии. Они усвоены мировым сообществом. Они служат уроком. Факт геноцида черкесов до сих пор официально не засвидетельствован правительством этой страны. В странах Востока и Запада, всего прогрессивного человечества об истории черкесов знают гораздо больше, чем на исторической родине. От кавказской войны здесь всегда хотели отмахнуться, как от досадного недоразумения. Именно поэтому мы теперь снова стоим на пороге новой кавказской войны.
Если нынешнее правительство, несогласное с подобной лицемерной политикой замалчивания имперской Россией и советских предшественников, сегодня радикально меняет курс, то факт геноцида северокавказских народов должен быть признан и оглашен, чтобы подобное больше не повторилось. Должны быть организованы фонды поддержки репатриантов на государственном уровне, начиная с центра, кончая властными структурами на местах. Но пока ни одной официальной инициативы нет. Любые инициативы снизу гасят старыми, как мир, традиционными методами, называя, например, их националистическими, прикрывая таким образом собственный примитивный колониальный курс политики и примитивный очевидный шовинизм. Почему это так? Что это, — продолжение пресловутого колониального курса царского российского и советского правительств другими закамуфлированными способами? Или другое: хроническое игнорирование вопроса национальных меньшинств, которое сегодня выросло в проблему не только государственного, но мирового значения?
Или это имеет еще более порочные политические корни, — например, национал – шовинистическая почва, на которой могла произрасти позорная Афганская война, взращенная на лже-патриотизме? Не о таком ли «патриотизме» говорил Оскар Уайльд: «патриотизм – добродетель злодеев»? В результате своими цветущими жизнями расплатились 15 тысяч российских юношей.
Заложником бесконечных проявлений одной и той же преступной политики становятся все народы Российской Империи, в первую очередь, русский. Иначе не может быть: ведь имерская и колониальная политика антинародна и в целом антигуманна. Она такая же, как все другие мировые – ни хуже и не лучше: бессмертный многоглавый дракон, который требует для своей безразмерной утробы все новые и новые жертвы. Это «лицо» самой политики. Но кто же те, что ее «делают»? Кто управляет драконом? Управленцы никогда не снимают шапку – невидимку.
Это – еще один страшный обман, который порождает новые обманы, новые войны и новые беды. Сегодняшняя горячая точка – Северный Кавказ – это результат колониальной лицемерной политики всех предшествующих правителей и правительств. При сегодняшнем небывалом, гигантском переделе имущества рухнувшего Союза, этими политиками раздуваются старые как мир конфликты, которые срабатывали везде и всегда: сословные, межнациональные, межконфессиональные, — с одной единственной целью: отвлечь внимание самих народов от гигантских неконтролируемых финансовых потоков. Те же конфликты не так давно – всего лишь столетие назад – срабатывали для колонизации Кавказа и его народов.
Только мы сами можем сделать из опасно тлеющего Кавказа кавказский меловой круг, очертив вокруг него заветное священное кольцо неуязвимости. Это под силу только нам самим: остановиться, заглянуть глубоко внутрь себя, где таятся неисчислимые разрозненные резервы. Их следует ясно увидеть и собрать воедино. Иначе запертый джин, который давно рвется из бутылки, получит свободу».
Председатель, седой мужчина с моложавым лицом, вышел и стал за кафедру: «Дорогие друзья! Разрешите напомнить для гостей и новых участников нашего Адыгского объединения: в наши дни свыше 3 млн. черкесов проживает вне исторической родины: в ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки, Западной Европы, США, более чем в 40 странах мира. Преобладающая часть их живет в Турции, около 80 000 – в Сирии, около 65 000 – в Иордании. Как в странах Азии, так и Европы, за адыгами утвердился термин черкесы. Черкесская диаспора образовалась в результате массовой депортации адыгов в Османскую империю в 1858-1865 году.
В средние века одной из распространенных форм миграции черкесской молодежи был наем отдельных групп и лиц на военную службу в зарубежные, преимущественно в восточные государства: в Египет, Османскую империю, Крымское ханство, Иран, Россию. В источниках встречаются описания вербовки черкесских юношей из обедневших семей османскими, крымскими и египетскими агентами. Черкесские наемники, удачно устраивавшиеся на новом месте и преуспевающие на службе, способствовали переселению к ним родственников».
И он предоставил слово молодому черкесу из Египта, который выступил на арабском языке. Эти и последующие выступления я слушала с неослабевающим вниманием, так как их основной текст вполголоса успевал переводить Муса. Выступали те двое, что первыми подошли к Мусе, -молодой бледный черкес с черной бородкой и сутулый высокий потомственный князь, и немка Таня Элерман, которая под аплодисменты с середины выступления перешла с английского на абазинский. О положении черкесов в США докладывал веселый светловолосый шапсуг, отдаленно напоминающий портрет президента Кеннеди в молодости. До него выступила миниатюрная девушка из Израиля. Все тексты выступлений я привожу ниже дословно (для заинтересованных), так как всем участникам встречи были розданы аудиокассеты, которые я впоследствии перевела на русский, (в основном с помощью Мусы).
***
Между Мусой и мной установились отношения учителя и ученицы. Он кругом и всюду оказывался прав, я невольно соглашалась с его любой инициативой и оценками. Бездоказательно им ничего не принималось, по крайнем мере, всерьез. Постепенно его тон приобретал привычно — наставительный характер, а я оказывалась в невольном подчинении. Моя воля мало — помалу утрачивала самостоятельность, я чувствовала, как стушевываюсь, растворяюсь. Я различала в себе отдаленный, пока еле слышный гул протеста… Он знал меня такой, какой я была в этот промежуток своей жизни: растерянной, лишенной всяких желаний. Но этот конфликт, только подспудно вызревающий в подсознании, еще не коснулся глубин чувства.
Последнее время он ходил тревожный и озабоченный и постоянно твердил, что беспокоится за мать. Она давно болела. Он почти каждый день звонил домой, но ему говорили, что все хорошо. Однако мать не подходила к телефону, и он потребовал, чтобы ему сказали правду. Его брат подтвердил, что она лежит в больнице, тяжело больная. В тот же день он купил билет. — Дина, я хочу, чтобы ты поехала со мной, -сказал он, — только скажи.
-Ты хочешь продлить депортацию? — спросила я, и он горько улыбнулся.
-Я скоро вернусь, — сказал он. Но, кажется, мы оба знали, что это конец. Он не мог оставить тяжело больную мать, я — отца, мучительно переживающего свое теперешнее одиночество. Он настаивал, чтобы я жила в его комнате и каждый день звонила ему. Но я молча отдала ключи: не могла оставаться в комнате, в которой бы все напоминало о нем.
Эти стихи я ему так и не послала.
У ЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ.
Нет, не могла я не придти, поверь,
Чтоб мне не задохнуться в ночи мглистой,
Открой последний раз немую дверь,
Как прежде, подойду к тебе я близко.
Я только подойду к тебе без слов.
Испуганная девочка в пустыне,
Я затеряюсь в сумраке зрачков,
В неведомом волнении застыну.
Потерянная, чуть полудыша,
Я не посмею даже улыбнуться,
И скрыться от самой себя спеша,
Я скроюсь, чтобы больше не вернуться.
Когда -то, может быть, в других глазах,
Твой облик просияет светом снова,
Ты знай тогда, что это снова я,
Пришедшая к тебе в обличье новом.
Я ухожу и остаюсь везде:
Я в материнской ласке молчаливой,
Я свет дневной в распахнутом окне,
Я – звездный луч, прозрачный и тоскливый.
Я в летний зной – прохладная рука,
Я продолжаю жить в твоем ребенке,
Твоя надежда и мечта твоя,
Свечусь в ночи я паутиной тонкой.
Ты от меня не скроешься нигде,
За сотни миль твой тихий стон услышу,
И в тень твою я превращусь в беде,
И в радости твоей я стану выше.
Я остаюсь во всем и навсегда.
Я – пыль, я вездесуща, невесома.
И тихо светятся мои глаза
Из каждого окна, листа, проема.
В последний час я прилечу к тебе
Невидимо скорбящей птицей белой.
Ты лишь тогда забудешь обо мне,
Когда я отпою немое тело.
И лишь к последней грани подойдя,
Расстанемся без трепета и звука,
Два маяка, сияющих друг другу,
И не соединимых никогда.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
После отъезда Мусы я продолжала жить как жила. Казалось, этой боли внутри не будет конца. Я знала: она была необъятна, так как началась не с меня и кончится не мной, и всю свою невидимую борьбу с собой считала бесполезной. И все – таки я ей упорно сопротивлялась.
Постепенно я приучила себя к строгой дисциплине мыслей, пока лишние их них не осыпались тяжелыми падающими звездами, медленно догорающими у моих ног. Мой острый блестящий скальпель ловко орудовал, скользя по живому без долгой дурманящей анестезии, близ демаркационной линии, за которой начиналась мертвая зона, — рука больше не дрожала, когда я отсекала эти мысли — разрушительные и ослабляющие. Я научилась сохранять только те, что свободно парили и поднимали меня над землей. Сложнее было вытравить чувства. Они проникали хищными растительными паразитами, питались душевными соками, и их приходилось отсекать с моей живой плотью.
Я сосредоточилась на мелочах. Это было замечательным правилом, которое хорошо усвоилось мной в течение последнего времени, — оно всегда непогрешимо действовало, когда земля уходила из-под ног. Я открыла для себя тактильную радость, когда горячая вода, бьющая из змеевидного гибкого шланга, обжигает сотнями тонких стремительных струй и разливается щедрыми водопадами по ожидающей чуткой коже. Плывя в клубящемся облаке теплого пара ванной, я училась проникаться острой первобытной радостью, которую дарила вода. Я овладела ритуалом одинокого ужина: сначала заставляла себя доставать праздничную посуду, расставлять приборы в строгом порядке на одну единственную персону, со стороны потешаясь над собой, но постепенно привыкла к этой странной трапезе — с устойчивым привкусом тайны и горечи. Именно так я приучила себя праздновать свои маленькие победы: выписку тяжелого больного, который уходил, оставив в моих руках огромный букет живых роз, и все время оборачивался, а у самого на глазах стояли слезы; или какое-нибудь неожиданное четверостишие, с которым я мысленно себя поздравляла. Я училась ходить по улицам, не думая, а просто наблюдая, и замечать то многое, что раньше было мне недоступно. Я разорвала бессмысленный клубок времени, высвободив его для священнодействия, в которое постепенно превратила поспешные минуты вечернего переодевания. Теперь оно превратилось в долгое, магическое постижение себя. Я наблюдала в зеркале собственные изменения, когда мое тело облекалось звенящим изумрудом строгого английского костюма или другого, дымчато – серого, или прозрачной бирюзой шифона; или любимой строгой блузкой цвета топленого молока, которая вместе с обликом классной дамы придавала мне странную таинственность; чувственной терракотой сукна и белого свитера, подаренного Мусой, которые разом выявляли контраст темных глаз и светлой кожи; прохладным скользящим шелком весенней блузы, приближающей меня к опасному типу римских гетер, или веселым джазом разноцветного платья, расцвечивающего меня в колер зрелого лета.
В суете полуденной московской толчеи, в парфюмерном отделе супермаркета меня коснулся знакомый запах, слабый, еле ощутимый, от которого сердце выбило перебой: это был запах его туалетной воды. Я купила флакончик, ежедневно проливала каплю и вдыхала свежий аромат, до отказа заполняя легкие.
Я пробегала зимними дорожками Измайловского парка и Сокольников, сверкающими первым декабрьским снегом или дорожкам, скользким от серого и отяжелевшего — мартовского, тщательно стирая в памяти мучительно яркие картины недавнего прошлого. Иногда, казалось, силы изменяли мне, и я останавливалась, но затем говорила себе зло: «ты пробежишь еще два километра». И пробегала. Я научилась пробегать по пять километров в день. Самыми трудными были первый и последний километры. В какой – то день я не поставила внутреннего предела, сказав себе: «Я могу бежать бесконечно». Пробежав в это утро пять километров, я почувствовала, что могу пробежать столько же или даже больше. Я училась жить сегодняшним днем – так, как обещала. Мутным ноябрьским вечером я вытащила флакончик туалетной воды из сумки и поставила его на влажный бетонный выступ какой – то фешенебельной казенной ограды.
Однажды, в начале мая, проходя мимо административного серого здания, которое изучила в деталях, сотни раз следуя этой дорогой по пути к дому, я ощутила небывалую легкость и прилив глубокого счастья. Это не было преходящей весенней эйфорией, как я поняла позже, несколько лет спустя, не было внезапным толчком в спину или неожиданным озарение. Это было совершенно новым небывалым состоянием, в которое я незаметно для себя переместилась. Ощущение безграничной свободы, когда передо мной медленно распахнулось будущее, как плотно сомкнутые до поры чашечки цветка ириса, — теперь я спокойно обозревала его преддверие в приливе свежих сил. Я твердо знала, что отныне стала свободной от «счастливых» или «несчастливых» обстоятельств жизни, от всего внешнего ряда, так как счастье было во мне, — потрясающее чувство обретенной стойкой гармонии, через которую жизнь вокруг ощущалась настоящим чудом.
Мы с братом в детстве придумали одну игру, которая, очевидно, явилась следствием соединения «крестиков и ноликов» и «морского боя». В системе двух координат одного листа в клетку мы располагали запутанные лабиринты. И у меня, и у брата был свой план, составленный в строгой тайне, и мы один за другим вслепую называли букву и цифру, всякий раз предвкушая удачу. Все лабиринты вели в тупик, и только один из них приводил в «домик», единственное место, предназначенное для каждого из нас. Мы не огорчались, когда «мазали» и в веселом азарте заходили в тупик, так как знали, что любой шаг промаха приближает к успеху. Теперь у меня возникло чувство, что я нашла свой «домик». Он оказался не вовне, а внутри меня, и при этом обладал магическим свойством, притягивая к себе все, что необходимо.
И тогда новое летучее существо во мне весело выпросталось из былой тесной личины, стряхнув ее на землю. Легкие могучие струи майского ветра подняли меня над землей, унося выше, выше, пока неподвижная куколка прежней жизни не превратилась в маленькую серую точку.
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Я чувствую, как проношусь сквозь время, как оно само пронизывает меня. Я осязаю его холод и тепло. Оно омывает мое лицо осенним дождем, шелестит сухой травой, проползает тяжелыми туманами. В ушах – свист налетевшего ветра, он манит, обещает, раскрывает горизонты, и я бегу за ним. Но ветер уносится, и во мне остается горькое недоумение обманутого ребенка. Время ослепляет меня весенним солнцем, хотя мои ладони еще влажны от первого снега, который просачивается каплями сквозь тесно сведенные пальцы. Оно ускользает прозрачными невидимыми струйками,
унося с собой неозначенное в трещины асфальта и новых бетонных плит, которыми выстлана поверхность городских площадей и скверов, через капилляры завезенного чернозема городских клумб, на котором густо пестреют оранжерейные цветы, такие яркие для пастельных тонов настоящего леса. Время соскальзывает с отвесных льдистых скал, летит на дно стылых узких ущелий, проваливается в пустоту вещей и тел, и разорванных чувств, неуклонно испаряется через невидимые поры ограниченного рукотворного мирка, оказываясь по ту сторону. Оно просачивается через открывшиеся зазоры привычных смыслов. Иногда время сворачивается, снова становясь чутким зародышем, что дремлет в первородных водах мирового лона на заре мироздания. Однажды оно распахивает разноцветный веер явлений перед моим изумленным детским зрачком. Или мечет бесчисленную колоду карт, не сообщая при этом правил игры.
Я обнаруживаю его конкретное воплощение: растерянность повзрослевшего ребенка, не узнавшего меня после двухлетней разлуки, зеркало, которое отражает неуклонные расцвет и старение, шелестящие страницы забытой на скамье книги, — чьей-то новой повести, желтые листья, которые помнишь зелеными, многоэтажные дома, возведенные на месте вчерашних пустырей.
Время подхватывает меня шквалом звуков, красок, запахов. Они сталкиваются, переплетаются, образуя переменчивую, причудливо играющую гамму, — лик Химеры. Я пытаюсь вникнуть в суть этого бесконечного движения. Хочу его обуздать, дотронуться до потаенных механизмов, остановить несущиеся образы времени и собрать эту многоликую массу видимого с кричащими и немыми противоречиями во что-то целое, гармоничное, подвластное моему сознанию. За ослепляющей, изменчивой формой я должна найти скрытые пружины, объясняющие его течение. Я должна, иначе теряюсь, тону, я – игрушка в невидимых властных руках.
Мои потерянные ключи… Я ищу их в настоящем и прошлом, но нахожу сожженные годы, которые оседают, оседают пеплом в моем сердце. А наутро мой дом снова заливает солнце нового рассвета.
Я повинуюсь главной неумолимой страсти: охоте за неуловимым призраком, который скрывается за короткими затертыми именами. Правда, потерявшаяся во времени. Она сбежала с миллионов страниц, экранов, от алчных рук и липких глаз, от мутных потоков слов, образующих реки и моря словесных нечистот. Осталась нетленным светом в истлевших сердцах безымянных погибших воинов. Она вылетает невидимой птицей из прорех савана «морального закона», в который каждого пытаются облачить «хранители», — те, что ненавидят живое веселое тело и свободный счастливый дух. Правда притаилась за иллюзией видимостей, что напоминают алую, сочную мякоть спелой вишни, в которой скрывается невидимая твердая, светлая суть, неподвластная жадным зубам, — вишневая косточка, без вкуса и без запаха, и есть колыбель тайны, в которой заключено будущее вишневое дерево.
Порой мне кажется, что я на грани постижения. Это обычно бывает в минуты, когда вне и внутри меня все чисто, ясно и тихо, и обнажается та нерушимая связь, невидимая пуповина между мной и природой, которая всю жизнь питает меня. Это как томление перед глубоким признанием или безмолвный взгляд мирового откровения, за которым так и не следует слов.
Как сужается и бледнеет бесконечная палитра времени год за годом, за годы без любви! Тогда время немеет, и я не слышу ни звуков, ни слов, мелькают его кадры, как в немом кино, они не оставляют во мне следа, — я не понимаю ни связи, ни смысла в происходящем, — меня окружает стена всеобщего молчания или собственной глухоты.
А порой я тону в его звуках. Оно доверчиво несется мне навстречу с раскинутыми руками, и меня пронизывает восторг узнавания: я узнаю его по глазам. Облик может меняться, но глаза остаются одни – глаза любящих. Я чувствую, как обвиваются вокруг меня чуткие ласковые руки, слышу шепот, еле слышный, как звук ветра, струящегося между стеблями травы. Слова сливаются в древнюю песню без слов, где слова не нужны… И еще долго мое тело хранит неведомый аромат цветущих земель прошлого, через которые я шла на эту встречу. Холодные границы моего полого мира заполняются теплой влагой любви. Я несу себя, как наполненную до краев чашу, которую должна передать другим.
Я – обычная женщина дня, — он запирает меня в толпе, торопит на свершения сотен мелких дневных дел, стесняет движения тесной одеждой, перекрывает мои неистощимые источники, пока меня не прогреет и не распалит солнце до костей, до холодного дна бездны, и тогда я перерождаюсь в алую и золотую жрицу солнца. Но мой удел — ночь. Я – женщина ночи, что забегает нагой и босой в свободный мрак, весело несется по жесткой траве и во мне расцветает страстный дух древних друидов, ибо я – их дочь. Из этого начала истекает мой тропический разум. Я внедряюсь в свою каменную пещеру, — огромную раковину рака – отшельника, освещаю древние влажные своды слюдяным фонарем, полным светляков, и двигаюсь по ее каменной спирали вглубь, вглубь земли и времен, на нечеловеческую глубину, где пульсирует жизнью царственное сердце вечности. Распугивая мирно дремлющих рыб, рассекаю телом лунную дорожку озер и прудов, взмываю на верхушки деревьев, беспокоя ухающих сов: «Ух, ты!», играю с детенышами лесных зверей на полянах, залитых лунным светом. Белая жрица луны и черная жрица ночи.
Я бесконечно отражаюсь в лицах, которые скользят мне навстречу по зеркальным коридорам. Одни безвозвратно уходят в темноту, мимо, не задевая меня. Другие преломляются образами, остаются в тайниках памяти. Они порой выплывают, пробужденные немолкнущими связями, которые тянутся из прошлого в настоящее и дальше в необозримые пространства, вплетаются в реальный ток времени и живут второй независимой жизнью, и диктуют времени свои законы. Я тысячекратно отражаюсь в людском потоке, распадаюсь на множество НЕ МОИХ портретов. Из моего круглого многоцветия, сверкающего бесчисленными гранями, как новогодний праздничный шар, хотят сделать плоскую схему. Оно таит все краски и оттенки мира, но его пытаются окрасить в черный или белый. С меня снимают мое настоящее платье, похожее на белый подвенечный наряд, бережно скроенный моей матерью, разрывают в клочья, растаскивают по углам и, кажется, съедают. На меня натягивают чужое старое платье, которое больше всего отвечает вкусам оценщиков, поэтому оно похоже на вызывающий наряд одалиски. Меня помещают на жесткое узкое ложе, отсекают все, что обильной волной переливается за его пределы, уверенно помещают в душную клетку, чтобы было проще «увидеть и понять», и поставить на бедре фиксированную цену. Меня ищут среди вещей, таблиц, статистических сводок, среднестатистических норм, графиков, самых разных законов и закономерностей, планов и режимов. Ко мне примиряют смехотворные рамки, убежденные, что они — мои. Мой мир – безбрежный океан, объявляют грязной лужей. Я пробегаю мимо лающих и завывающих цепных псов, мимо запертых дверей, где кто-то невидимый выковывает нержавеющие кандалы и цепи, состоящие из злобных глупых слов. Меня заковывают в них, но я вырываюсь из зубастой пасти общественного мнения, оставляя на теле кровавые отметины, и мою спину обжигает сардонический оскал убийцы. Я вылетаю, ломая крылья, из невидимых капканов, ловушек и силков множества ярлыков, мнений и убеждений. Я бегу из города, расчерченного на геометрические фигуры, похожие на загоны, из городских парков, напоминающие места для травли лесных зверей. Я бегу, не оглядываясь, от медленно утихающего топота преследователей, и слышу за собой: «Ату! Ату!» Я смеюсь над своим определенным именем, которым окликают и зовут меня, над одним лицом, которое видят слепые, потому что я – бесконечное множество имен и лиц. Я просачиваюсь в щели между зеркалами, и оказываюсь дома, в зазеркалье, где живет мое настоящее я: в дремотном шепоте клейкой апрельской листвы, в огненной пляске длинных языков пламени высокого костра, в дрожащей ажурной тени на голубой стене летней беседки, в ровном глубоком дыхании зеленоглазой волчицы, бегущей дикой ночной тропой и поющей на скалистом уступе одинокую песню, в моих неистовых молчаливых танцах с волками. Мое настоящее я — в звуках старинной шичапшины, властно пробуждающих глубинные воды души моей, в бесконечном весеннем кружении рыжих лисиц в девственных горных лесах, лунном сиянии белых костей в ненайденных дольменах, что похожи на женское лоно. Мое я — в звонких звуках сердца – бубна, что несется вскачь по лесам, скалам и долинам моей бескрайней души, — моей родины, и не находит пределов, в сверкающей вершине, осененной крыльями ангела или летящей белой лошади, в тайной жизни древних магиоцитов, — перламутровых черных жемчужин моей крови, которые ведут свою родословную с мерцающих корпускул черных дыр До – Вселенной.
Но однажды я становлюсь песчинкой в дикой круговерти времени, где я не вижу ничего, кроме хаоса. Она вертит меня, ломает, трещат и крошатся основы моего существа. Я теряю былые ориентиры, и уже ничего нет, кроме нечеловеческой боли, и я захлебываюсь собственным криком… Потом я выброшена в безвременье небытия. Где — то вдалеке остались страшные жернова времени, через которые я прошла. Я невесома, и вокруг меня мрак, в котором только слышны удары невидимого маятника, и тонкий, в одну струну, непрерывный звон пустоты. Не знаю, сколько длится это безмолвие: может, миг, а может, столетие… Но когда – то из недр моей памяти поднимаются теплые волны, и несут с собой ожившие образы любви, и всплывает материнский взгляд, полный неистребимой веры в мое бессмертие.
Я чувствую, как теплеет мое тело и восстанавливаются оборванные нити, связывающие меня и жизнью, я снова начинаю жить, хотя имя и плоть мои другие, и несу воскресшую со мной жизнь своей умершей матери.
Рожденная под знаком Кентавра: юная голова возносится на длинной сильной шее к сияющим россыпям созвездий и вскоре оказывается унизана ими, как драгоценными самоцветами. Мои вечно тоскующие по небу глаза отражают упорядоченный хаос огненной спирали новой сингулярности, раскручивающей из себя еще неведомые разноцветные миры. Мощное древнее тело раскинулось по четырем полюсам и омывается водами четырех океанов, а стопы, усыпанные земной пылью, ощущают мерное биение пульса Земли. Голова, тоскующая по небу, и тело, вожделеющее к земле. Кентавр, целящийся в неизведомое: упругая, поющая тетива моего сердца никогда не ослабевает, потому что где – то на горизонте вечно маячит новая цель. Но меня не обманывает веселая призрачность любых побед, наполненных пьянящим свистом стрел; пораженные мишени – только ступени, по которым я медленно восхожу, ощущая силу отростающих крыльев, все ближе к своей заветной цели: однажды прикоснуться к небу.
Я – Первоматерь, первичная материя, обретающая любые формы по произволу космоса. Я — живая ткань, сотканная из бесчисленных судеб моих праотцев и праматерей. Во мне все меняется и растет, и в следующую минуту я уже не та, что была сейчас, я – колыбель новой мысли и новой любви, начало новой реальности. Я рождаю новые миры, но во мне – живая память о былой мысли, чувстве, человеке и мире, которая живет в моем сердце и вплетается в новую жизнь. Я — вечно вожделеющая крылатая душа и вечно обновляющаяся благодатная плоть, изменчивая и зыбкая, – влага небесная и земная, но суть во мне всегда одна: животворящее начало. Каждый день я умираю старой и возрождаюсь юной, и снова искрюсь девственной чистотой.
В моем сердце – скорбь о тысячах тысяч моих потерянных детей и радость о тысячах тысяч еще не рожденных. Я никогда не умру, ибо после смерти прорасту травой и снова увижу солнце, и когда — то обниму босую ногу бегущего ребенка.
Я состою из праха земли и соленых вод моря. Море – мой отец и мой наставник, и я всегда стремлюсь к нему. Это — моя колыбель, мой дом и последнее пристанище. В нем растворилась тайна жизни, горькая соль – его древнее знание, забытое ныне. И я, я – русалочья душа, проплывая сквозь морские глубины с открытыми глазами, — плоть от плоти его, с чешуйчатым гибким телом, играющим в искристых белопенных волнах вод. Я омываюсь плотными прохладными струями, — отцовскими руками, пока кожа моя не начинает сверкать, как морская солнечная гладь. Я скольжу длинным морским угрем по родным безбрежным просторам и раскачиваюсь тонкой водорослью, устремленной к мутному солнечному диску. Но я плыву дальше, в глубь морских вод моей настоящей, вновь обретенной родины, — моего родного дома, и из моих темных неведомых глубин поднимается и всплывает знание, забытое тысячу лет тому назад.
Наконец я вижу его, заветный центр, где сходятся все начала, куда стремятся ветра и струятся реки, и завороженное время оборачивается вспять, — Великий Пуп земли, Великая Мандола, венчающая срединную ось мирового яйца. Здесь теряется человеческий отсчет, сливаются воедино прошлое и будущее, и, очертив гигантский круг, возвращаются к исходной
точке. В мировом океане слившихся семисот струй семидесяти морей я узнаю лица своих праматерей, многократно отраженных в зеркальных водах, и в плеске волн различаю их вечную песню. Но в самом центре океана, на цветущем острове я вижу тебя, мое дитя. Ты самозабвенно играешь перед лицом невидимого, творя своими детскими руками новый мир.
ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕРКЕССКОГО КОНГРЕССА (аудиозапись)
ЧЕРКЕСЫ В ЕГИПТЕ
Появление черкесов (адыгов ) в арабском мире связано с привлечением на службу иноземных войск. Аббасидские халифы содержали наемные войска, формировавшиеся из берберов, хорасанцев и турков.
Усиление черкесских мамлюков связано с периодом правления султана Калауна. Стремясь упрочить свои позиции, султан Калаун сформировал отряд личной гвардии из черкесов и изолировал его от других мамлюкских частей. Так появилась обособленная группировка черкесских или бурджитских мамлюков. ( Название бурджи происходит от арабского слова «бурдж» — башня, так как эта группировка размещалась в башнях Каирской цитадели). При султане Калауне численность черкесских мамлюков возросла до 12 000 человек, а его личная гвардия насчитывала 3 700 солдат. В эту эпоху увеличился приток черкесов в Египет, что было связано прежде всего с политикой султана Калауна и его расширением генуэзской посреднической торговли на Северном Кавказе. Регулярно в генуэзский центр Каффу отправлялись корабли египетских султанов за черкесскими воинами.
Непрекращающаяся борьба между бурджитскими и бахритскими ( тюркскими мамлюками) закончилась победой первых в 1382 году. С этих пор по 1517 год Египтом правили 23 черкесских султана из черкесских мамлюков, начиная с султана Захир Сайф ад –Дин Баркука, кончая султаном Ашрафом Туманбеем.
При черкесских султанах был создан мощный военный флот, который осуществлял плавания по Средиземному, Черному, Эгейскому, красному морям, к побережью Индии. Он обеспечивал военное доминирование Египта и безопасность торговли с отдаленными райнонами. В эпоху правления черкесских султанов в Египте наблюдался подъем культуры и искусства. Султаны приглашали из соседних стран лучших ученых, богословов, поэтов, художников. В Египте жил знаменитый историк и философиз Туниса Ибн Халдун (1332-1406); известные историки-хронисты Ахмед аль – Макризи (1364-1442), Ибн Тагри Бирди ( 1409 – 1470), Ибн Ийас (1448-1524). Особое развитие получила архитектура. Султаны, стремившиеся превзойти своих предшетвенников, строили соборные мечети, мавзолеи, госпитали, крепости, мосты , школы. Среди шедевров зодчества мамлюкско- черкесского периода можно отметить мечети- мавзолеи султанов Барсбея, Муайада, каитбея, кансуха аль- Гурии и другие памятники.
В эпоху черкесских султанов Египет был самой могущественной державой Восточного Средиземноморья. С армией черкесских султанов считались все соседние государства. В !393 – 1394 годах они отразили нашествия армии среднеазиатского правителя Тамерлана. Султан Шейх Муайад нанес поражение одному из туркменских правителей Кара Юсуфу в 1427 году. Султан Сайф ад – Дин Барсбей осуществил завоевание острова Кипр в 1424 – 1426 годах. В 15 веке Египет испытывал кризис Обострились мамлюко – османские отношения. Османская армия совершила поход в Черкесию, во время которого на Черноморском побережье Кавказа были разгромлены генуэзские колонии. Противоборство двух держав переросло в османо – мамлюкскую войну. В результате длительного военного противодействия османы одержали победу благодаря численному превосходству, предательству и расколу внутри самих мамлюков. По данным современников, сам султан туманбей в решающем сражении 22 января 1517 года зарубил около тысячи османских воинов, включая великого визиря Синан Юсеф –пашу. Египетская армия отстурила, оставив на поле боя около 25 тысяч трупов.
Новое усиление позиций мамлюкских беев относится к первой половине 18 века Вся полнота власти в стране была сосредоточена в руках 24-х наиболее могущественных мамлюкских беев- губернаторов провинций. К тому времени несколько изменился и этнический состав мамлюкских отрядов. В17-начале 18 века возросло количество выходцев из Закавказья (мегрелов, абхазов, грузин) и Восточной Европы (южных и восточных славян, венгров и др.). Тем не менее, по установленной традиции мамлюкские отряды продолжали называться «черкесскими».
Конец 18 – начало 19 века стали эпохой заката многовекового правления мамлюков в Египте и , прежде всего, это было связано с вторжением армии Наполеона Бонапарта. В результате многочисленных боевых действий, охвативших Египет на рубеже этих веков,
численность мамлюков сократилась в значительной степени. Во второй половине 18 века она составляла 60 -70 тыс. человек, которые могли выставлять 10-12 тысяч воинов. После войн конца 18-начала 19 века их численность в стране сократилась до 5 000человек.
Иммиграция черкесов в Египет постепенно пошла на спад и прекратилась к концу 19 века. Прежде всего, это было связано с тем, что прекратились многочисленные миграции черкесов как с Кавказа в Османскую империю, так и внутри империи. После установления британского правления в Египте и ослабления власти хедивов была ликвидирована и традиция завоза невольников и наемников, прежде пополнявших офицерский корпус. Черкесы в Египте ассимилировались довольно быстрыми темпами и, главным образом, это было обусловлено тем, что они проживали не компактно, а дисперсно – в городах среди арабского населения. В первую очередь, черкесы утратили свой язык. Несколько дольше они сохраняли свое национальное самосознание, чему в значительной степени способствовало их привилегированное положение в обществе (офицеры, чиновники, землевладельцы).
В 1932 году в Каире было основано «Общество черкесского братства», осуществлявшее благотворительную и культурно – просветительскую деятельность среди черкесского населения.. При обществе действовала школа для детей. По сведениям журнала «Горцы Кавказа», египетские черкесы в начале 30–х годов 20 века поддерживали связи с северокавказскими иммигрантскими организациями в странах Европы и проявляли интерес к своей исторической родине. Это общество просуществовало недолго, после смерти его председателя Абдул –Хамид –Бека Галиба Тхоста в 1936 прекратило свое существование. По данным авторов середины 20 века (Рушди Р., Трахо Р.), численность черкесов в Египте в то время составляла около 5-10 тысяч. В настоящее время в Египте проживают семьи, помнящие о своем черкесском происхождении. Они не владеют черкесским языком и, в целом, утратили черкесскую этнокультурную специфику. Начиная с конца 80 –х годов 20 века, они стали проявлять к своей исторической родине и устанавливать культурные связи с северокавказскими республиками».
ЧЕРКЕСЫ В СУДАНЕ
«Появление черкесов в Судане относится ко второй половине 13 века, времени окончательного покорения его мамлюкскими султанами. В 1275 году султан Бейбарс 1, воспользовавшись происходившей в Донголе борьбой за престол, вторгся туда с большой армией и посадил на трон одного из принцев, который должен был править под контролем правительства султана. Мамлюки повсюду разместили свои гарнизоны, стали вывозить из Судана тысячи рабов, продукты сельского хозяйства, экзотические предметы роскоши. Мамлюкская верхушка продолжала сохранять господствующее положение в Судане вплоть до уничтожения их главных сил в Египте в 1811 году. После событий 1811 года небольшая группа мамлюков нашла убежище в суданском султанате Донгола Обустройство беглых мамлюков в Донголе послужило муххамеду Али поводом для снаряжения военной экспедиции в Судан. Истинные же причины заключались в стремлении захватить эту страну.
В октябре 1820 года пятитысячный экспедиционный египетский корпус под командованием одного из сыновей Мухаммеда Али- Исмаила- паши отправился в Судан. Небольшие государственные образования Судана и объединения племен, не обладавшие серьезной военной силой, практически не оказывали сопротивления египетским войскам. После покорения Судана Мухаммед Али назначил губернатором суданских провинций Сеннара и Кордофана генерала черкеса Усман –бей Джеркаса. В годы его правления (1821-1825) был заложен город Хартум как административный и военный центр Судана. В истории Судана 19 века встречается довольно много имен черкесов – губернаторов, наместников отдельных областей, офицеров египетских войск. В 1838- 1843губернатором Судана был Ахмед- паша Уилдан, находившийся перед этим на посту военного министра Египта. В 1850-1852 году губернатором был Абд аль- Латиф – паша, который провел ряд преобразований в общественной жизни Судана. Он предпринял меры по стабилизации курса денежных единиц (уравнял с курсом в Каире), усилил государственный контроль торговли на Белом Ниле. Он запретил ношение холодного оружия, ввел наказание за нанесение оскорбления и т. д.. Губернаторами –черкесами также были Ахмед – паша Миникли (!843-1845); Рустам –паша Джеркас (1853); Хасан –бей Салама Джеркас (1859-1861); Мусса-паша Хамди (1863-1865); Исмаил –паша Айюб (1873 1877); Мухаммед –паша Рауф (1879-1882); Ала аль- Дин -паша Садик (1883). Еще трое были наместниками отдельных провинций. Сулейман –паша Ниязи в конце 70 – х годов 19 века командовал египетскими войсками, дислоцировавшимися в Судане. В целом, положение черкесов в Судане в 19 веке было таким же как и в Египте, частью которого был Судан. Основную массу черкесов составляли офицеры и чиновники.
Европейские путешественники, встречавшиеся в Судане с черкесами, отмечали, что они владели своим родным языком и держались обособленно. Между черкесской и другими группировками египетских служащих в Судане существовало соперничество и скрытое противоборство. Современники отмечали некоторые черты этнического характера суданских черкесов, типичные в целом для кавказцев: гостеприимство, щедрость, великодушие, а также строгость и даже мстительность. Как правило, черкесские офицеры и чиновники находились в суданских провинциях временно. Их часто переводили на другие должности в Египте. В годы массового выселения черкесов несколько сот черкесских иммигрантов обосновалось в Хартуме. В настоящее время в столице страны г. Хартуме проживает незначительное число семей черкесского происхождения.
ЧЕРКЕСЫ В ТУНИСЕ
В средние века черкесские мамлюки и наемники также попадали в Тунис, правители которого формировали из них гвардии по египетскому образцу. Большую часть мамлюков приобретали в Египте и Стамбуле, а также у средиземноморских корсаров. Особенно возрасла численнолсть мамлюков в Тунисе во второй половине 18 века. Это было обусловлено тем, что в значительной мере ослабла власть Османской империи и местные правители династии Хусейнидов, стремившихся к достижению полной независимости страны, стали увеличивать численность собственных вооруженных сил. К концу 19 века мамлюкский корпус в Тунисе уже представлял собой серьезную военную силу. Он отразил нападения алжирских янычаров на Тунис в 1807 и 1817 годах, а в 1811 году нанес поражение отрядам османским янычаров, поднявших мятеж с целью свержения правящей династии. В политической истории Туниса 19 века известны имена многих черкесских офицеров, дипломатов, государственных и политических деятелей, отличившихся в борьбе за независимость страны. Один из них – Шакир находится на посту премьер – министра в годы правления бея Сиди –Хусейна (1824 -1835). Благодаря предпринятым Шакирам эффективным мерам Тунис, правители которого задолжали европейским странам крупную сумму денег, был спасен от финансового банкротства и закабаления в 1825 году. Он сформировал первые части регулярной армии. Во время кризиса властибыла развернута реформаторская деятельность группы бывших черкесских мамлюков во главе с генералом Хайреддином, получившим назначение на должность министра военно –морского флота в 1857 году. С первых же дней Хайреддин провел полную реорганизацию этого министерства в соответствии с европейской системой. Благодаря его усилиям был восстановлен порт Гулет. Под его председательством начала работу комиссия с участием европейских представителей в 1860 году. В итоге все незаконно приобретенные земли были конфискованы.
Хайреддин также возглавил первую в стране конституционную комиссию, в состав которой включил группу либералов – западников, ставивших целью проведение реформ, направленных на радикальное изменение государственного строя в стране по западноевропейскому образцу. 23 апреля 1861 года в Тунисе была принята первая в истории государства и исламского мира конституция, провозгласившая Тунис конституционной монархией. В стране был создан первый парламент – Высший Совет, состоящий из 60 человек (назначались сроком на 5 лет). Совет являлся одновременно законодательной ассамблеей и верховным судом. Возглавил совет сам Хайреддин. В 1873 году он был назначен на пост премьер –министра.
Другой черкес- генерал Хусейн, был назначен министром народного образования и общественных работ. Прежде он служил в гвардии бея, окончил военно- инженерную школу в Бардо.
Военное министерство возглавил черкес Рустам. Окончив военную школув бардо, он продолжил военную карьеру, получив звание генерала. И был назначен главой гвардии.
Поначалу правительству Хайреддина удалось провести некоторые важные преобразования. Был усовершенствован административный аппарат, проведены земельная, финансовая и судебная реформы. Развернулось строительство портов и железных дорог, стала поощряться национальная торговля. Была открыта первая в стране больница, устроенная по европейской системе. Реформаторы предавали важное значение вопросам образования и культуры. Они организовали строительство первой в Тунисе арабской типографии, открыли первую публичную библиотеку, учредили первую светскую школу Ас-Садикия, в которой наряду с шариатом стали преподавать основы естественных наук, французский, итальянский и турецкий языки. Была реформирована и программа обучения в исламском университете Аз-Зитуна.
Деятельность правительства Хайреддина встретила острое противоборство со стороны значительного числа придворных, сановников, землевладельцев, недовольных расшатыванием основ привычного строя. Оппозицию правительству составили и чиновники, потерявшие должности. Между тем французский капитал захватывал наиболее прочные позиции в экономике. Тунис превращался в французскую полуколонию. В таких условиях патриотическое правительство Хайреддина, оказавшись в немилости бея и его окружения, испытывая давление со стороны оппозиции, было вынуждено подать в отставку 21 июня 1877 года. Вслед за этим последовала французская оккупация Туниса. В конце апреля 1881 года тридцатитысячная французская армия вторглась в страну. 12 мая 1881 года Садок –бей подписал договор о протекторате. После захвата Туниса Францией прекратилась иммиграция черкесов в эту страну».
:
ЧЕРКЕСЫ В ТУРЦИИ
«К 80-м годам 19 века в целом завершился процесс расселения северокавказских эмигрантов на территории обширного Османского государства. Преобладающая часть черкесов образовала многочисленные компактные этнические «островки» (микроанклавы), объединяющие от 1-2 до нескольких десятков сел, вкрапленных в массивы иноэтнического населения в четырех регионах империи: Западной (особенно Северо – Западной) Анатолии, Восточной Анатолии и арабских вилайетов (Сирии, Палестине). В процессе расселения адыгов и других народов Северного Кавказа преобладал принцип этнической и субэтнической принадлежности. Смешанных северокавказских поселений образовалось значительно меньше. В анклавах создавались условия для сохранения исконного традиционного хозяйственного уклада, форм социальных отношений, культуры и языка, что препятствовало развитию ассимиляционных процессов. Однако другим результатом подобного дисперсного расселения в аграрной глубинке отсталой страны явилась еще большая, чем на Кавказе, изоляция северокавказских иммигрантских групп от центров развития мировой цивилизации и как следствие – их социальная и культурная стагнация, что на многие десятилетия затормозило процессы общественной модернизации и национальной консолидации в их среде.
Стремясь извлечь из черкесской иммиграции прежде всего военные выгоды, османское правительство, воспользовавшись тяжелым положением беженцев, стало проводить среди них массовую вербовку в вооруженные силы, игнорируя при этом собственное обещание освободить их от несения службы в регулярной армии сроком на 20 лет. Тысячи иммигрантов таким путем оказались на службе в регулярных, иррегулярных и полицейских частях. Из них же были сформированы три отдельных черкесских кавалерийских полка. Сам султан Абдул –Азиз пополнил личный конвой черкесами из аристократических родов.
Правительство Османской империи и Великобритании возлагали немалые надежды на иммигрантов в надвигавшейся войне с Российской империей. На русско — турецкий фронт планировалось отправить до 80 000 черкесских воинов. По данным османских источников, из черкесских иммигрантов, расселившихся в Анатолии в районах Азизие, сиваса и Джаника, были сформированы три кавалерийские бригады по одной тысячи человек в каждой, которыми командовали генерал Мустафа-паша , генерал Мусса Кундух, в прошлом офицер российской службы и сын Шамиля генерал Гази Мухамед –паша.
Значительной была и численность черкесских воинов, принимавших участие в боевых действиях на Балканском фронте. Поселившиеся в этом регионе черкесы, восприняли эту войну как оборонную, как защиту своих семей и жилищ от наступавших частей российской армии, как выполнение своего долга перед султаном, в связи с чем к османским войскам добровольно примкнула практически вся боеспособная часть черкесского населения. Немалое число черкесов находилось на службе и в отрядах иррегулярной кавалерии «Башибузуки», которые формировались из представителей мусульманских народов империи. По данным российской разведки, к 20 августа 1877 года среди османских войск, дислоцированных в Ловчее, находился черкесский шеститысячный отряд и около 2 500 башибузуков, а в Плевне к 18 июля насчитывалось несколько тысяч черкесских воинов. Общая численность черкесских конных воинов, действовавших в составе османских вооруженных сил на Балканах, составляла 16 000 человек. По свидетельствам русских офицеров, черкесская конница действовала довольно эффективно, применяя свои традиционные тактические правила: стремительные кавалерийские атаки, неожиданные отступления и притворное бегство с целью наведения преследующего противника на артиллерийский и ружейный огонь пехотных цепей, скрытых батарей, засад, и повторные атаки.
В целом, черкесские иммигранты, массово вовлеченные османским командованием в боевые действия, не могли в значительной мере повлиять на общий ход войны. Османская армия, уступавшая российской по численности, организованности и подготовке, потерпела поражение. Черкесские воины, которых бросали в наиболее «горячие» точки фронтов, понесли серьезные потери. Установлено, что значительное количество молодых черкесов, вступивших в османскую армию после иммиграции, не вернулось с фронтов.
Положение черкесов кардинально изменилось после победы младотурецкой революции в 1908 году, в результате которой абсолютная монархия была заменена конституционной. В стране проводились некоторые демократические преобразования. Пришедшие к власти младотурки (неофициальное название партии «Единение и прогресс») провозгласили равноправие всех османских подданных, независимо от национальной и религиозной принадлежности и предоставили меньшинствам определенную свободу в сфере культурной и отчасти политической деятельности.
Благоприятным для черкесской диаспоры стал и внешнеполитический курс младотурок, который основывался на доктрине пантюркизма (туранизма), провозгласившей своей конечной целью освобождение от иностранного господства и объединение под эгидой Стамбула всех тюрских народов на пространстве от Балкан до Алтая. Поскольку такое единство невозможно без включения в него Кавказа (ввиду географической оторванности анатолийских тюрок от поволжских и центрально-азиатских), стимулирование протурецких настроений среди населения этого региона стало одной из важнейших задач внешнеполитической пропаганды младотурецкого правительства. Претендуя на роль покровителя кавказских народов, младотурецкий режим всячески стремился продемонстрировать свою заботу о проживающих в стране представителях северокавказских иммигрантов, что создавало известные гарантии беспрепятственного решения ими проблем своего этнического развития. Оказывая покровительство черкесской элите в Турции, стремившейся к реваншу на исторической родине, младотурецкие власти рассчитывали и на определенный вклад самой черкесской общины в распространение османского влияния на Северном Кавказе.
В 1908 году при организационном и финансовом участии ряда видных государственных и военных деятелей – представителей черкесской диаспоры было создано Черкесское общество единения и взаимопомощи (ЧОЕВ). В общество вошли ведущие представители интеллигенции всех северокавказских диаспор. Среди создателей и активистов этого общества были известные в османском обществе черкесы: маршал Фуад –паша Тхуго, Маршалл Абдуллах –паша; маршал Мехмед Зеки-паша Берзег; писательи драматург Ахмед Мидхат Хагур; генерал Пух Назми –паша; генерал Мет Иззет Чунатуко; генерал Мухаммед Шамиль паша и другие. Председателем ЧОЕВ был избран один из черкесских просветителей Ахмед Джавид-паша Тхерхет, секретарем – представитель интеллигенции Ахмед Нури Цаго.
Идеологи ЧОЕВ считали необходимым решение трех базовых задач: всемерной поддержки и укрепления традиционной культуры, морально –этических и религиозных ценностей; приобщения широких слоев северокавказского населения к современному, по возможности и национальному, просвещению; упрочения позиций диаспоры. В целях решения последнего пункта идеологи ЧОЕВ призывали к каждодневному неустанному труду всех членов общества и –как следствие, к обогащению. Черкесов призывали развивать сельское хозяйство, налаживать ремесленное и малое машинное производство, втягиваться в коммерцию. Рекомендовалось создавать крупные совместные предприятия (конезаводы, напрмер), способные успешно конкурировать на османском рынке.
Ставя перед собой, прежде всего, культурно –исторические и исследовательские задачи, члены общества плодотворно и довольно профессионально занимались историческими, этнографическими, фольклорными и лингвистическими изысканиями, в том числе разрабрткой алфавита для родных языков как на арабской, так и на латинской, и русской основе. Результаты этой деятельности публиковались в печатном органе общества – еженедельной восьмиполосной газете «Гъуазэ», а также в десятках книг, брошюр, бюллетеней и журналов, издававшихся на турецком, арабском и адыгском (на арабской графической основе) языках. В это же время под контролем ЧОЕВ в Стамбуле была открыта черкесская средняя «образцовая» школа, преподавание в которой велось преимущественно на адыгском языке по букварям и учебникам, изданным силами ЧОЕВ. Позднее, по мере подготовки преподавательских кадров, подобные школы начали создаваться и в некоторых районах компактного проживания черкесов.
Осознавая невозможность полноценного этнического развития в условиях существования диаспоры, лидеры ЧОЕВ видели основную цель своей деятельности в сохранении этнокультурной идентичности и поддержании национального самосознания широких масс своих соотечественников до появления возможности их реэмиграции на историческую родину. Обществом были установлены контакты с большинством сколь –либо значительных черкесских групп по всей территории Османской империи, а также с определенными кругами национальной интеллигенции Северного Кавказа, с которыми осуществлялся информационный обмен в научной, культурной и образовательной сферах. С 1910 года для содействия организации национальной системы просвещения из Турции в адыгские районы Северного Кавказа были направлены десятки преподавателей – добровольцев из числа молодых активистов общества, а также учебные материалы и литература на родном языке. Перед первой мировой войной активисты учредили « Комитет независимости Кавказа». Он способствовал оформлению кавказских устремлений младотурецкой дипломатии в программное положение содействия созданию самостоятельного кавказского государства, которое в этот период обычно мыслилась как конфедерация Северного Кавказа и трех закавказских стран. С целью обеспечения международной поддержки этого требования, комитет установил связи с основными иностранными посольствами в Стамбуле, направил «группы лобирования» в европейские государства обеих воюющих группировок.
Достаточно интересным явлением в истории черкесской диаспоры стало создание в 1918 году «Общества взаимопомощи черкесских женщин». Среди основателей общества можно указать: Хунч Хайрие Мелек, Берзег Макбуле, Залыко Эмине РешидЭ Пух Сеза и Улугай Фаика. Наряду с другими кавказскими эмигрантскими организациямиобщество служило делу развития национальной культуры и взаимопомощи черкесов. Выпускало журнал «Дианэ» на турецком и адыгском (на латинской графике) языках.
Деятельность черкесских организаций в Османской империи, направленная на изменение политической судьбы исторической родины, достигла своей кульминации после провозглашения 11 мая 1918 года независимой республики Горцев Северного Кавказа Младотурецкое руководство официально признало эту республику (образование которой полностью отвечало его планам создания буферного государства между Турцией и Россией), и стало оказывать ему военную помощь. На Северный Кавказ был направлен специально сформированный корпус под командыванием генерала Юсуфа Иззета-паши, среди офицеров и солдат которого было значительное число черкесов. Отбив в октябре 1918 года у белоказаков Дербент и Порт – Петровск, османские войска намеревались и дальше продолжать оказывать силовую поддержку Северо- Кавказской Республике, однако после капитуляции Порты в мировой войне получили приказ о возвращении и вынуждены были подчиниться ему.
В целом, десятилетний период пребывания у власти младотурок явился наиболее благоприятным и результативным для черкесской диаспоры. Появившаяся перспектива реэмиграции на Северный Кавказ, а также значительная свобода национально – культурной деятельности, послужили серьезным стимулом для этнополитической и этнокультурной консолидации черкесов, способствовали сохранности их этнической идентичности.
Поле поражения Турции в Первой мировой войне (октябрь 1918) лидеры младотурок бежали из страны, турецкая армия была демобилизована. Страны Антанты оккупировали значительную часть империи и приступила к её расчленению. Вскоре были отторгнуты арабские вилайеты. В мае 1919 года греческие войска оккупировали Измири окрестные территории. Над империей нависла угроза её полного расчленения. В такой ситуации во внутренних районах Анатолии развернулосьдвижение сопротивления против оккупантов и султанского режима, которое возглавил Мустафа Кемаль.В 1919 году состоялись два конгресса , на которых был избран Представительный комитет во главе с Мустафой Кемалем.
Сущность политики кемалистов в национальном вопросе наглядно проявиласьпосле окончательной победы национального движения и провозглашения Турции республикой в 1923 году. Изгнав оккупантов и ликвидировав институт монархии, кемалисты взяли курс на коренное реформирование турецкого общества, на преодоление экономического, социального, политического . культурного и иного отставания от передовых стран Запада. В целях сплочения населения вокруг курсареформ новые власти першли к целенаправленному насаждению в стране жесткого варианта турецкого национализма, фактически возведенного в ранг государственной идеологии. Проводившаяся в этот период политикавозвеличивания всего турецкого, была направлена на пробуждение национального самосознанияэтнических турок, привыкших на протяжении столетий отождествлять себя с полиэтничным и космополитичным османским государством. По отношению к нетурецкому населению страны был взят курс на ассимиляцию. Положение о мононациональном характере государства и и отсутствия в нем иных народов и госудаства отсутствии в нем иных народов и языков, кроме турецкого , были закреплены в принятой в 1924году конституции и прочих актах молодой республики, которые поставили вне закона любые претензии меньшинств на этническую и лингвистическую и лингвистическую «особость», открыв путь для преследования подобных попыток в судебном порядке. Политическое руководство новой Турции установило принцип «одно государство-одна нация-один язык». В стране стала править одна Народно – республиканская партия Турции.
Следует также отметить, что в ходе работы Лозаннской конференции, завершившейся признанием суверенитета турецкого государства, глава английской делегации министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон предложил дать черкесам и другим малым народам Турции статус национального меньшинства. Однако турецкая делегация выступила против предоставления черкесам этого статуса, в связи с тем, что черкесы являлись мусульманами. В результате, по условиям договора Турция официально признала статус национального меньшинства за евреями, армянами, греками, а мусульманские меньшинства отнесла к туркам. Так наступил самый неблагоприятный для черкесской диаспоры период, когда появилась серьезная угроза сохранению этнической культуры, языка и истории черкесов.
Уже в первые годы кемалистского правления был нанесен тяжелый удар по всем завоеваниям черкесской общины в национально – культурной области, достигнутым в предшествующий период. В сентябре 1923 года правительственным распоряжением была запрещена деятельность ЧОЕВ, черкесской школы в Стамбуле и всех их филиалов в провинциях, а уникальный архив и библиотека общества были уничтожены. Во многих районах компактного проживания этнических северокавказцев власти надолго закрыли не только черкесские, но и турецкие школы, опасаясь неофициального проведения в них национально – просветительской работы. Серьезной политической акцией стало насильственное переселение 30 черкесских сел с общим населением 5 800 человекиз западных областей страны в менее развитые районы Восточной Анатолии за мнимую нелояльность существующему режиму. Десятки черкесских активистов, заподозренных в «подрыве единства турецкой нации», стали жертвами судебных и внесудебных расправ. В1934 году вышел закон, предписывавший черкесам и другим меньшинствам замену своих национальных фамилий на произвольно образованные турецкие. Была проведена и кампания по переименованию названий черкесских сел на турецкие. Также был налажен запрет на публичное использование родного языка, ношение национальной одежды игру на национальных инструментах.
Новое время: черкесская диаспора в Турции
Нелегким вопросом остается установление численности черкесского населения, так как в современной Турции официально не признается наличие национальных меньшинств. По действующим в стране законам все граждане Турции считаются турками. По приблизительным статистическим данным черкесских культурных обществ в Турции, численность черкесов в этой стране в наши дни составляет 3 млн. человек. В исследованиях турецких и европейских ученых приводятся данные о черкесах в Турции – от 1,1 до 5 миллионов человек.
В Турции черкесы представлены пятью субэтническими группами:абадзехами, бжедугами, бесленеевцами, кабардинцами и шапсугами. Остальные субэтнические группы относительно малочисленны, а большая часть их была ассимилирована указанными субэтническими группами. В Турции проживает около 300 000 абхазов и абазин, около 50 000 дагестанцев, 40 000 чеченцев, 20 000 осетин, 20 000 карачаевцев и балкарцев.
Менее половины черкесов и других северокавказских народов, в основном представители старшего поколения, владеют родными языками. Дети и молодежь, родившиеся и выросшие в крупных городах, как правило, не владеют родным языком. Жители сельских черкесских анклавов в целом сохраняют родной язык. Однако, в связи с отсутствием в Турции национальных черкесских школ, под угрозой потери родного языка оказались дети школьного и дошкольного возрастов, проживающие в относительно мононациональных черкесских анклавах. Развитие языковой ассимиляции в черкесских анклавах способствовали и такие в целом позитивные явления последних десятилетий, как распространение сети радиовещания и телевидения на всю территорию страны и фактическое введение всеобщего начального образования, функционирующие только на турецком языке. Если в 50-60 гг.20 века незнание или недостаточное знание турецкого языка частью населения было обычным явлением во многих черкесских селах, то в 70 -90 годах турецкий язык уже интенсивно вытеснял северокавказские как из социальной, так и из бытовой сферы.
Значительная часть черкесского населения сохраняют этническую эндогамию, чему способствовало, прежде всего, его территориально обособленное анклавное существование и численность, достаточная для демографического воспроизводства. В наши дни постепенно увеличивается процент смешанных (черкесско — турецких, черкесско — курдских и других) браков.
Социальная структура черкесского населения в целом соответствует общетурецкой. Во второй половине 20 века происходило снижение удельного веса землевладельцев и работников сельского хозяйства, что обусловлено процессом урбанизации. Многие землевладельцы предпочитают жить в городах, сдавая свою землю в аренду. В районах внутренней и Восточной Анатолии преобладающая часть крестьянских хозяйств лишь обеспечивает свое существование в связи с неблагоприятными природно – климатическими условиями. В более выгодном положении находятся черкесские селения, расположенные в районах, прилегающих к побережьям Черного и Мраморного морей. Мягкий субтропический климат способствует выращиванию разнообразных культур (овощи, фрукты, чай, виноград, табак, оливковые деревья). Климатические условия позволяют снимать два урожая в год. В черкесских селениях, расположенных в Черноморском районе, выращивают такжен фундук, которые черкесские эмигранты вывезли в Кавказа. Местное турецкое население не занималось выращиванием фундука. Выращивают фундук в своих садах и черкесы, проживающие в небольших городах
Социально –профессиональная структура городского черкесского населения самая разнообразная. В больших городах проживаеют представители торговой и промышленной буржуазии. Значителен. Удельный вес рабочего класса, пополняющийся за счет обедневших жителей сельских районов. Традиционная популярностью среди черкесов в Турции пользуется служба в вооруженных силах страны. Довольно высоким является процент офицеров армии, полиции, спец. Служб. Значителен среди черкесов также удельный вес служащих гос учреждений, интеллигенции- преподавателей высших и средних учебных заведений, врачей, юристов, банковских служащих, артистов, журналистов и др. В системе социально – экономических отношений Турции в наши дни черкесы, как и другие меньшинства пользуются равными правами с турецким большинством.
Наиболее ощутимые удары почеркесскому и другим этнонациональным движениям были нанесены во время вмешательствармии в политическую жизнь страны в 1971- 1973 и особенно в 1980-1983 годах, когда запрещалась деятельность северокавекзских обществ. Начиная со второй половины 80-х годов в стране наблюдался этап относительно стабильнлгл и поступательного развития. Гарантией дальнейшего продвижения траны по данному пути является её заитересованность в интеграции в европейские экономические и политические организации, для соответствия требованиям которых власти в 90-е годы пощли на существенную либерализацию законодательства и улучшение практического положения в области соблюдения прав человека. В последние годы в отдельных высказываниях высших руководителей государства, лидеров ведущих политических партий и т. п. не только фактически признавалось существование в стране нетурецких по происхождению сообществ, но и указывалось на возможность предоставления им в перспективе основных культурных и языковых прав.
Благоприятным для всего северокавказского зарубежья фактором являлись радикальные перемены в политической и экономической ситуации в России и на Кавказе, открывших широкие возможности для установления самых разнообразных контактов между диаспорой и исторической родиной. Так, по инициативе и на базе кавказских культурных центров и землячеств несколько провинций и городов страны 5 апреля 1993 было образовано единое Кавказское общество Турции (Каф-Дер) с централизованной структурой, в которое на правах местных отделений влилось и большинство других региональных северокавказских организаций. Тем самым был сделан серьезный шаг к созданию общенациональной структуры, призванной, наряду с координацией этнозащитной деятельности северокавказских объединений различных областей страны, выполнять функцию представительства черкесской диаспоры на уровне официальных турецких и международных инстанций.
Помимо Каф –Дер, в Турции последние годы проявляли активность и другие организации северокавказцев, в том числе «Совет единого Кавказа» ( создан группой бывших парламентариев, отставных военных и крупных предпринимателей черкесского происхождения с целью лоббирования кавказских интересов в государственных учреждениях страны), «Фонд образования и культуры имени Шамиля»(занимается благотворительностью и финансированием культурно- просветительских мероприятий), «Комитет солидарности с Абхазией», «Комитет поддержки Чечни» и т. д. Кроме того, с конца 80-х – начала 90-х годов отмечено, особенно в крупных городах, образование обществ, клубов и фондов по узкоэтническому принципу (чеченских, осетинских. Дагестанских, абхазских и других) для удовлетворения специфических культурно – языковых потребностей отдельных северокавказских этносов и упрощения их контактов с соответствующими республиками Северного Кавказа. В настоящее время в разных областных центрах и других районах Турции, где компактно проживают черкесы, осуществляют культурно –просветительскую и благотворительную деятельность68 общественных организаций. 32 из них входят в Каф-Дер. В последние годы черкесские организации в Турции ищут пути по противостоянию процессов ассимиляции и сохранности этнической культуры.
Значительную роль в сохранении этнической культуры черкесской диаспоры играют связи с исторической родиной, которые стали развиваться во второй половине 80 – 90-хгодах 20 века. Были налажены официальные связи черкесских культурных обществ с КБР, РА, КЧР. Представители черкесской диаспоры стали регулярно посещать историческую родину. Черкесские культурные общества начали приобретать учебники кабардинского и адыгейского языков и литературы, книг и периодических изданий, опубликованных в указанных республиках. Черкесская молодежь получила возможность обучаться в ВУЗах Северного Кавказа.
ЧЕРКЕСЫ В СИРИИ И ИОРДАНИИ
В период османского правления термин Сирия охватывал значительно большие территории: Сирийский (дамасский), халебский, бейрутский вилайеты, часть Массульского вилайета;иерусалимский и Ливанский санджаки Сирийский вилайет включал южную часть современной Сирии, часть Ливана и Иорданию. Халебский вилайет – северную часть современной Сирии, а также санджак Урфа, казы Айнтаб и Александретта, находящиеся в настоящее время в составе Турции. Санджак Дейр эз Зор, входивший в состав Мосульского вилайета, включал восточную часть современной Сирии; Иерусалимский санджак – южную часть Палестины; Ливанский санджак – внутренние горные районы современного Ливана.
Расселяя черкесов на территориях Сирии и Иордании, османские властипрежде всего намеревались достигнуть политических результатов: создать из их поселений военные барьеры, которые должны были отгородить земледельческие райлны от набегов кочевых племен и использоваться в борьбе с друзским национально- освободительным движением; увеличить мусульманский состав населения за счет иммигрантов с северного Кавказа. Кроме того, власти намеревались освоить пустующие, ранее не обрабатывавшиеся земли, поселяя на них иммигрантов.
Расселение черкесов на территории Сирии и Иордании осуществлялось несколькими этапами, начиная с середины 60-х годов 19 века. Одну из первых групп черкесских беженцев с Северного Кавказа поселили ВСеверной Сирии на территории Марашского санджака. В1881 году этого санджака проживало 800 семей. В1871-1872 годах около 400 черкесов было поселено вблизи Хомса и приблизительно столько же в санджаке Хауран на Голанских Высотах. Основной же этап переселения черкесов в данный регион, преимущественно с Балкан, начался по окончании русско – турецкой войны 1877-1878годов.
Значительную часть черкесских беженцев в 1878 году переправляли на постоянное поселение на Голанские высоты. В 1880 там уже находилось 7 черкесских деревень с населением 3 000 человек. Черкесские беженцы также расселялись и в Халебском вилайете. По данным российского консульствав Халебе, в 1879 году в этом вилайете проживало 5 172 черкеса.
К1930 году в Сирии проживало примерно 25 000 человек, включая представителей других северокавказских народов.
На территории Заиорданья (Трансиордании), отошедшей к владениям Великобритании после окончания Первой мировой войны, находилось 8 черкесских колоний с населением около 10 000 человек, среди которых было 850 чеченцев. Черкесы проживали в (в начале 30-х годов) Аммане – 1 700 человек (шапсуги, кабардинцы, абадзехи); Джераше – 1 500 человек (кабардинцы); Вади –эс –Сире -2 000 (шапсуги, бжедуги, абадзехи); в селениях Наур (бжедуги, шапсуги), Русейфа и Сувейлих (кабардинцы). Две черкесские деревни Кфар — Кама и Рихания, расположенные в Палестине и Галилее, также отошли к территориям Англии. К указанному времени в них проживало около 900 человек; шапсуги в Кфар –Каме и абадзехи в Рихании.
Черкесские иммигранты были поселены на территории арабских вилайетов в качестве военных колонистов- представителей османских властей. Главным предназначением иммигрантов должно было стать несение военной службы. За несение службы власти предоставляли черкесам довольно значительные земельные наделы и некоторые льготы, в частности, освобождение от уплаты налогов сроком на 10 лет.
Черкесским иммигрантам отводились земли из категории «мири» — то есть государственных, распорядителем которых был сам султан. Семья из трех человек получала участок в 70 дунамов (1 дунам – 990 кв. м); семья из четырех- пяти человек -130 дунамов. В 1903-1907 годах иммигрантам предоставляли участок в среднем 100 дунамов на семью.
В большинстве случаев земельные наделы, предоставленные иммигрантам в различных частях Сирии, были малопригодны к обрабатыванию. Например, Голанские высоты представляли собой повсеместно покрытое кратерами и усыпанное камнями плоскогорье, расположенное на высоте 980 метров над уровнем моря. Климат нагорья выделялся среди окрестных мест своей суровостью, холодными зимами и сильными ветрами. Несмотря на это, черкесы приступили к тщательной обработке земли, используя свои традиционные правила агротехники, и в ближайшие годы стали получать довольно высокие урожаи. При этом использовались привычные инструменты — плуги, деревянные грабли, косы и др. кроме пшеницы, ячменя и кукурузы, черкесы выращивали культуры, привезенные с Кавказа и не возделывавшиеся местным населением – просо, овес. Выращивались различные овощи, арбузы, фруктовые деревья и виноград. Европейские путешественники отмечали, что уровень развития сельского хозяйства и ремесел у черкесов значительно отличался и превосходил состояние земледелия и ремесел местного арабского населения. Французский исследователь В Кюине отмечал, что вокруг Аммана «… расстилаются отлично обработанные поля, что вообще надо заметить про все черкесские колонии в Азиатской Турции».
Важной отраслью хозяйства стало животноводство. В первые годы после поселения черкесы закупали и выменивали у арабов крупный рогатый скот, лошадей, овец, коз и домашнюю птицу. В начале 20 века во многих черкесских селениях уже занимались коневодством. В черкесских поселениях налаживалось и ремесленное производство, в первую очередь , оружейное –изготовление шашек, кинжалов и т. д.: в условиях непрекращающихся столкновений с соседними общинами иммигранты нуждались в значительном количестве оружия. Кузнецы изготавливали также и сельскохозяйственные инструменты: молотки, лопаты, пилы, серпы. Однако кузнечное дело осложнялось в связи с нехваткой железа В наиболее удобном положении оказались плотники и столяры, добывавшие необходимое количество древесины в окрестных лесах. Ими изготавливались инструменты для обработки земли, двух и четырехколесные телеги и повозки, двери, оконные рамы со ставнями, деревянные ведра и различные предметы домашнего обихода. Важно отметить, что именно черкесы занесли с собой традицию изготовления колесных повозок и телег и стали прокладывать для них дороги. Арабы же не изготавливали колесного транспорта и использовали для перевозки грузов, главным образом, верблюдов. Иммигранты начали сооружать большие мельницы.
Они выстраивали свои дома из базальтовых и гранитных блоков античных руин. Их жилища больше напоминали кавказские и европейские и представляли собой небольшие, в основном двухкомнатные дома с маленькими и деревянными ставнями вместо окон. В домах устанавливали печи с дымоходами. Инновацией стало строительство восточных бань с каменным полом.
Наиболее крупные черкесские поселения –Кунейтра, Амман, Джераш и Наур стали развиваться как торгово — ремесленные и административные центры, которые со временем переросли в города.
Центром черкесов Заиорданья стало селение Амман, где в 80-х годах 19 века разместилась окружная администрация. Русский археолог Н. Кондаков, побывавший в Заиорданье в 1891-1992г., охарактеризовал Амман как «…большой кабардинский аул, поражающий своим хозяйственным видом и достаточностью после туземных поселений и бедуинских кочевьев». Он также отметил, что от Вади –эс- Сира до «Аммана черкесы провели для своих арб прекрасную дорогу по обширному плоскогорью, которое из конца в конец, насколько глаз наш мог видеть, ими обрабатывается и засевается пшеницею».
По сведениям разных авторов, население черкесского селения Джераш в 90х годах 19 века составляло 350 -500 семей. К тому времени в Джераше уже были построены мечеть, школа и 12 торговых лавок. Русский путешественник С.Кобеин, побывавший в Джераше в 1896 году, писал: «Живут черкесы в очень чистых кирпичных домах, содержащихся в полном порядке. Земля вокруг Джераша очень камениста, но черкесы очень прилежно её обрабатывают, вырубают леса и большие бревна на своих телегах вывозят в соседний безлесный Хоран, где за него получают хорошие деньги».
Современный город Минбедж, расположенный в Северной Сирии, был заложен черкесскими иммигрантами среди средневековых развалин в 1878 году. К 1890 г.население Минбеджа составляло 2 500 человек. В нем уже была построена мечеть, школа для детей, 10 лавок и одна хана.
Воспитание и обучение детей черкесскими иммигрантами осуществлялось по традиционной системе; в первую очередь детей готовили к военной жизни. В более крупных селениях были основаны начальные школы, в которых изучались основы письма, религии, турецкого и арабского языков.
Арабо –израильская война, разгоревшаяся в июне 1967 года, внесла глубокие изменения в социально –экономическое и политическое положение черкесской общины. Город Кунейтра и окрестные черкесские селения были подвергнуты разрушению. С территории оккупированных Израилем Голанских высот было депортировано более 18 000 черкесов. Большинство их расселилось в Дамаске и других городах страны, сотни семей постепенно переселились в США в г. Патерсен. Черкесы, депортированные с Голанских высот, лишились мест компактного проживания, утратили свои земельные наделы, дома и другое имущество, национальные культурные ценности.
К концу 90-х годов 20 века численность черкесов в Сирии составила приблизительно 80 000 человек Из них свыше половины приходится на Дамаск с пригородами. Они представлены тремя субэтническими группами- абадзехами, бжедугами и кабардинцами. Представители других субэтнических групп были ассимилированы указанными более многочисленными группами. Кроме собственно черкесов (адыгов), в Сирии проживает около 5-6тыс. представителей других кавказских народов: чеченцев, абхазов, балкарцев, осетин, народов Дагестана. В целом, все потомки северокавказских иммигрантов в Сирии считает себя единой общиной. Вплоть до середины 20 века черкесы сохраняли этническую эндогамию. Процент арабско- черкесских браков невысок – около 15 % от общего числа заключаемых браков. Черкесам удалось сохранить и родной язык. Каждая из субэтнических групп все еще сохраняет свой диалект, но между диалектами произошло сближение в значительной степени. Черкесский язык считают родным и абхазы. Старшее поколение владеют преимущественно поколения старше 30-35 лет. В связи с отсутствием в Сирии черкесских национальных школ под угрозой потери родного языка оказались дети школьного и дошкольного возрастов.
В отношении вероисповедания можно отметить, что черкесы со времени их расселения в Сирии уделяли должное внимание религии –исламу; — строили мечети, обучали детей основам корана. Однако они не проявляли фанатизма. В настоящее время черкесское население в Сирии исповедует ислам суннитского толка. Среди черкесов нет членов каких-либо сект.
В период независимости Сирии социальная структура черкесского общества подверглась дальнейшей трансформации, которая определена снижением до минимума удельного веса землевладельцев (по причине лишения земель на Голанских высотах, а также ускоренной урбанизации в других районах проживания черкесов). В черкесской общине невысок процент торговой и промышленной буржуазии. Малочислен и рабочий класс. Преобладающая часть представлена средними и промежуточными слоями (офицерством, служащими государственных учреждений, интеллигенцией), которые играют значительную роль в социально –политической жизни развивающихся стран Востока. В системе социально – экономических отношений Сирии черкесы пользуются равными правами с арабским населением. Довольно высоким среди черкесского населения является процент офицеров армии, внутренних дел и спец. служб, чему в значительной степени способствовала политическая ситуация в стране. Офицерство после освобождения страны от колониализма оказалось практически единственной силой, определявшей курс в стране. В наши дни в вооруженных силах САР служат 35 генералов- черкесов. Среди них генерал-майор Мемдух Абаза, возглавлявший военно-воздушные силы страны в 1980 – 1982 годах, Ауад Баг – генерал – лейтенант, в прошлом заместитель министра обороны, а также генерал Гиса Апиш, генерал Мухаммед Шеркас, генерал Рияд Яхалид Цей и другие. Все же, несмотря на привилегированное положение офицерства, процент черкесской молодежи, избирающей военную специальность, стал снижаться, что объясняется, прежде всего, усилением конкуренции в офицерском корпусе и изменением традиционного образа жизни черкесов.
Молодые черкесы, достигшие совершеннолетия, служат в сирийской армии. После арабо – израильского конфликта случалось, что они воевали против черкесов, которые несли службу в израильской армии.
Важную роль в жизни черкесской общины играет общественная организация «Черкесское благотворительное общество» («Адыгэ ф1ыщ1э хасэ»), основанная в Дамаске в 1948 году. Целью этого общества является осуществление благотворительной и культурно – просветительской деятельности среди черкесского населения Сирии. Оно является и своего рода самоуправлением общины. В 1992 году в нем насчитывалось свыше 6 000 постоянных членов. С 1960 года при обществе издается журнал «Новости культуры» на арабском языке.
Помощь благотворительному обществу в сохранении родного языка и культуры оказывают республики Северного Кавказа (КБР, РА, КЧР), связь с которыми была установлена в конце 50-х годов 20 века. Активную деятельность в развитии культурных связей с черкесами Сирии проводит Кабардино – Балкарское отделение «Родина», образованное в 1966 году. В первое время были организованы обмены официальными делегациями. Затем наладили обмены представителями деятелей культуры и науки, туристическими группами. Начались поставки в Сирию учебников черкесского языка (кабардинского и адыгейского) и литературы. С 1969 г. Началась отправка черкесской молодежи из Сирии и Иордании по линии общества «Родина» на обучение в ВУЗах КБР и др. российских университетах и институтах.
ЧЕРКЕСЫ В ИОРДАНИИ (период независимости)
В период независимости Иордании произошли наиболее серьезные изменения в жизни черкесской общины. Во время арабо- израильской войны 1948-1949 годов с оккупированных Израилем палестинских территорий в Иорданию устремились беженцы. К июню 1950 году их численность достигла 70 000 человек. Часть палестинских беженцев, обладавшая денежными средствами, начала покупать земли в городах страны, преимущественно в Аммане и окрестных селениях. Многие черкесские семьи стали продавать им свои земельные наделы. Процесс продажи черкесами своих земель активизировался после арабо-израильской войны 1967 г., когда с оккупированных Израилем арабских территорий в Иорданию вновь хлынул поток беженцев – свыше 300 000 человек. Вследствие притока значительного числа палестинских беженцев, черкесы стали национальным меньшинством как в городе Аммане, так и в других, основанных ими поселениях.
В период независимости произошло и перемещение преобладающей части черкесов из Джераша, Русейфы и Наура в Амман. При переселении семьи также распродавали свои земельные наделы и дома. Этот процесс был обусловлен, прежде всего, стремлением черкесской молодежи получить хорошее образование в столице и устроиться на работу, преимущественно на государственную службу.
К концу 90 годов ХХ в. численность черкесов в Иордании составила приблизительно 65 000 человек. Более 70% от их общего числа приходится на г. Амман и пригороды Вади – эс – Сир и Сувейлих. Черкесы также проживают: в г. Науре – около 4000 чел.; в г. Джераше – около 300 семей; в г. Русейфе – около 60 семей, в г. Зарке – около 100 семей, а также в селениях Абу – Нсер и Мардж аль – Хамам. В Иордании не произошло полной внутриэтнической консолидации черкесов. В настоящее время там проживают четыре субэтнические группы: кабардинцы, бжедуги, абадзехи и шапсуги. В Иордании также проживает около 5000 чеченцев.
До середины ХХ в. Черкесы сохраняли эндогамию. Удельный вес арабо-черкесских браков в настоящее время невысок – не более 15% от общего числа заключаемых браков. Черкесы сохраняют и родной язык. Так же и в Серии, между диалектами / кабардинским, абадзехским, бжедугским, шапсугским / произошло сближение, но не произошло вытеснения одних диалектов другими. Однако в наши дни черкесским языком свободно владеют в основном поколения старше 35 – 40 лет. Среди детей школьного и дошкольного возрастов родным языком владеют не более 20%.
Преобладающую часть черкесского населения составляют средние и промежуточные слои. Значительным является удельный вес офицеров армии, полиции и спецслужб. Особой популярностью среди черкесов пользуется служба в военно – воздушных силах. По сложившейся традиции, со времени основания Трансиорданского эмирата, только из черкесов комплектуется отряд внутренней дворцовой стражи короля (их униформой является черкеска).
Высок среди черкесов также процент служащих государственно –административных органов. В истории независимой Иордании известны многие имена черкесов — государственных деятелей и офицеров, находившихся на высоких должностях в правительстве и вооруженных силах. Саид – паша аль –Муфти в 1950, 1955 и 1956 годах был премьер –министром, а в 1960 – 1974 – членом сената. Аббас Мирза в 1947 -1950 годах был министром внутренних дел. Изеддин Муфти в 1962 – 1963 и 1967 –министром финансов. Генерал Фоаз Магер Бирмамит в 1961 – 1963 годах возглавлял генштаб вооруженных сил. Генерал Мухамед Илрис возглавлял генштаб в 1976 – 1978 годах. Генерал Ибрагим Осман командовал военно – воздушными силами страны в 1956 -1962 годах . др. По сложившейся традиции, в иорданском парламенте – Национальном собрании в палате депутатов, состоящей из 60 депутатов, два места предоставляются черкесской общине. В период независимости, так же как в годы британского мандата, черкесская община обладала значительным влиянием в государстве и независимо от политической ситуации, оставалась одной из главных опор власти короля. До настоящего времени королевская семья поддерживает дружеские связи с лидерами черкесской общины.
В настоящее время в черкесской общине Иордании насчитывается свыше 800 инженеров, более 300 врачей, свыше 250 сотрудников банков. Немалое число преподавателей ВУЗов и средних школ. Более 30 из них доктора наук и профессора.
Писатель и режиссер Мухадин Кандур снял в Голливуде 20 документальных фильмов. Особую популярность приобрели телесериалы «Всадник и время» и «Легенда о скакуне». Рассказы и повести этого автора издаются на арабском и европейских языках в ряде стран мира. Из рассказов писательницы Джансет Беркок Шами наибольшую популярность получили: «Ожидание», «Слепое путешествие», «Наследие». В творчестве поэтессы Нади Хунаг, пишущей на арабском языке преобладают произведения о Кавказе.
Значительную роль в жизни черкесской общины играет общественная организация «Черкесское благотворительное общество» («Адыгэ ф1ыщ1э хасэ»), основанное в1932 году. Оно ставит перед собой задачи: оказание материальной помощи наиболее нуждающимся семьям (больным, инвалидам); оказание материальной помощи в получении высшего образования черкесской молодежи; организация работы по обучению детей и молодежи черкесскому языку и занятию спортом; осуществление деятельности по связям с республиками Северного Кавказа и с черкесскими общинами других стран. Правление черкесского благотворительного общества осуществляет деятельность на общественных началах. Общество издает ежемесячный журнал «Нарт», прежде выходивший под названием «Аль- Уаха» («Оазис»). Вади — Сирское отделение издает журнал «Аль-Ихаи» («Братство»). Оба журнала издаются на арабском языке.
Совет старейшин «Нэхъыжь хасэ» при благотворительном обществе, традиционно наделенном судебно –правовыми полномочиями, занимается урегулированием конфликтных ситуаций.
Женская организация «Ц1ыхубз хасэ», основанная в 1971 году проводит деятельность по оказанию помощи черкесским женщинам в трудоустройстве. При ней с 1974 ода работает общеобразовательная школа имени принца Хамзы Ибн аль –Хусейна. Школа построена на средства, собранные членами женского отдела и семьи короля Хусейна Бен Талала. В ней обучается свыше 600 детей. В школе есть и группа для детей дошкольного возраста. Кроме общеобразовательных предметов ученики изучают черкесский язык (кабардинский), народные обычаи, песни и танцы.
Активную деятельность среди молодежи осуществляет Молодежный клуб ( «Ныбжьыщ1э хасэ»), основанный в 1949 году. Клуб ставит следующие задачи: привитие черкесской молодежи национальной культуры, вовлечение черкесской молодежи в спортивную жизнь; воспитание её в духе взаимопомощи.
Спортивный клуб «Ахли», основанный в 1944 году, состоит из футбольной, баскетбольной и гандбольной команд; секций по плаванию, большому и настольному теннису, легкой атлетике, вольной борьбе, восточным единоборствам.
В начале 90-х годов основана еще одна независимая черкесская общественная организация «Общество дружбы иорданских и кавказских черкесов». Это общество ставит перед собой развитие сотрудничества между иорданскими черкесами, их сторонниками и соотечественниками на Кавказе в области экономики и культуры. Правление общества («Центральный совет») выбирается сроком на 4 года.
Черкесская община Иордании установила связи со своей исторической родиной в конце 50-х годов. Значительную помощь в укреплении связей ей оказало Кабардино-Балкарское общество «Родина». Во второй половине 60-х годов между обществом «Родина» и Черкесским благотворительным обществом Иордании были налажены обмены официальными делегациями, представителями деятелей науки и культуры, а позднее и туристическими группами. Обществом «Родина» была налажена и поставка в Иорданию учебной и другой литературы, издаваемой в Кабардино –Балкарии, Карачаево –Черкессии и Адыгее. С 1969 года черкесская община Иордании начала отправлять молодежь на обучение в КБР и другие ВУЗы страны.
Во второй половине 80-х годов начался новый этап в отношениях между черкесской общиной Иордании с республиками Северного Кавказа. Наметились первые шаги в экономическом сотрудничестве, стали появляться совместные предприятия. По инициативе Черкесского благотворительного общества Иордании, в начале 90-х годов мэры Аммана и Нальчика заключили «Договор о дружбе и сотрудничестве» между этими городами в области экономики, образования, науки, культуры, здравоохранения и спорта. Было объявлено о побратимстве двух городов.
К настоящему времени черкесскую диаспору в арабских странах следует рассматривать как своеобразную субэтническую общность, представляющую собой одновременно полноправную часть населения стран проживания и часть черкесского этноса. Нет сомнения в том, что со временем черкесы в Сирии и Иордании будут утрачивать свою этнокультурную специфику и неминуемо будут ассимилированы. Избежать процесса ассимиляции сможет только та часть зарубежных черкесов, которая возвратиться на свою историческую родину.
ЧЕРКЕСЫ В ИЗРАИЛЕ
В государстве Израиль черкесы живут в двух селах –Кфар — Кама и Рехания. Большинство жителей Кфар –Кама –шапсуги, жители Рехании – абадзехи. Некоторое время черкесы жили с Габе и Сезари, но давно покинули эти места. Черкесские беженцы начали селиться в Палестине, на территории современного Израиля с 1879 года, когда прибыли на кораблях с Балкан в порт Акра.
Выселение предков черкесов, живущих ныне в Израиле, началось в 1864 году, когда жителей трех шапсугских сел Афипсис, Убин и Йилле посадили на корабль, стоявший в порту Йагур –Кале (современная Анапа) на восточном побережье Черного моря. С 26 июня по 2 июля корабль подошел к городу Трабзону на Северо – Востоке Турции. 6 июля он направился на запад, прошел через Босфор и Дарданеллы и вошел в Эгейское море, а 8 августа причалил в порту Салоники. Черкесы были направлены в пограничный район между Грецией и Болгарией. Они построили три села и назвали их в честь покинутых родных сел. Эти села были расположены как бы по вершинам треугольника на расстоянии в несколько километров друг от друга, а в центре была возведена общая мечеть.
Кфар –Кама является древним поселением, сохранившимся со времен Византийской империи, а, возможно, и раньше. До 1877 года в нем жили арабы, но когда туда прибыли черкесы, их уже не было. Для строительства домов в качестве материала использовались базальтовые плиты из местных развалин. Габе расположена в 7 километрах к востоку от города Хадера, на пол- пути между Тель –Авивом и Хайфой Жители этого селения численностью 400 -500 человек были шапсугами. Селение расположилось в болотистой местности. В 1930 году оно было покинуто жителями по причине многочисленных случаев заболевания малярией со смертельным исходом. Жители Габе переселились в черкесские деревни Кфар-Кама, Рехания и даже Амман. До недавнего времени на главной улице сохранялась надпись «Черкесские руины»
Кфар – Кама, самое большое черкесское селение в Израиле, расположено в северо-восточной части Израиля, в 10 километрах к западу от озера Галилей. Ближайшими городами являются Тибериас к востоку и Назарет к западу. Кфар –Кама была заселена и перестроена в 1878 году черкесами, вывезенными с Балкан.
Серьезной оказалась проблема занятости. В то время практически невозможно было устроиться на работу без прохождения военной службы. В связи с этим черкесы обратились к израильскому правительству с просьбой проводить призыв в армию и среди черкесского населения. В июне 1958 года премьер –министр Израиля Давид Бен –Гурион удовлетворил просьбу черкесов.
На протяжении шестидесятых годов в Кфар –Каме наблюдался подъем национального самосознания, в результате чего молодежь начинала интересоваться черкесским языком, культурой и наследием. В 1959 году состоялся первый контакт с представителями исторической родины. В то время между Израилем и Советским Союзом не было дипломатических отношений, в связи с чем этот контакт был осуществлен через Козету Бек, которая вела на московском радио передачи на черкесском языке.
Черкесский ребенок говорит только по-черкесски до семилетнего возраста, когда он оказывается вовлеченным в систему формального образования. Ему приходится сталкиваться с ивритом и арабским языком уже в детском саду, но систематическое обучение языку начинается только в первом классе. Это означает, что он начинает учиться в школе с недостаточным знанием языка обучения. Арабский язык преподают как иностранный, но в силу его религиозного значения он уже вводится в первом классе. С четвертого класса в качестве иностранного вводится английский язык. Черкесский ученик осваивает четыре разных языка, каждый из которых имеет свой особый алфавит. Это создает определенные трудности для учащихся, но положительным результатом является то, что они овладевают четырьмя различными языками.
Рехания – второе черкесское селение в Израиле, расположенное на Севере, в нескольких километрах от границы с Ливаном.. Оно было основано в 1880 -1881году.
По получении разрешения от османских властей началось строительство села в виде прямоугольника. Внешние стены соседствующих домов соединялись воедино, образовывая внешнюю стену, которая окружила село, защищая его от нападения. Внутренний двор использовался для содержания овец и крупного рогатого скота.. Основу села составляли 56 домов, по 20 домов с длинных сторон и по 8 – с коротких. Позднее было построено еще 10 домов для прибывших. В северной и южной стенах были устроены ворота, которые обычно были закрыты, открываясь только дважды в день -рано утром, когда выпускали на пастбище овец и скот, и вечером, когда их загоняли обратно.
Каждый дом состоял из одной комнаты, разделенной на две половины каменной аркой . В общих с соседями стенах были проходы. Когда на один из домов совершалось нападение, они использовались для оказания помощи со стороны соседей. В течение нескольких минут все село собиралось для обороны. В центре села была построена мечеть в несвойственном для данной местности черкесском стиле – с покатой черепичной крышей и невысокой прямоугольной башней. Постепенно жители стали пристраивать к внутренним стенам спальни и гостиные, а кухни, коровники и овчарни – к внешним.
Поначалу поселенцы выращивали пшеницу, ячмень, рожь и сезонные овощи (помидоры, огурцы, дыни, арбузы и бобы). Позднее, во время британского правления были посажены оливковые и абрикосовые деревья, яблони и груши. Жители Рехании славились как полеводы и садоводы.. Однако их земли были каменистыми, труд тяжелым, а урожай низким.
Черкесы привезли с собой сельскохозяйственные орудия, неизвестные прежде в этом районе, такие как плуги, а также телеги. Они работали плотниками, кузнецами и кожевенниками. Постепенно они изучили местные сельскохозяйственные приемы и даже улучшили их, используя свои навыки, приобретенные на родине.
Некоторые служили в османской полиции, другие – по сбору налогов с земледельцев.
По традиции, большинство жителей Рехании занято в службе безопасности: в армии, полиции, погранвойсках и охранных фирмах. Женщины предпочитают работать учителями и нянями, так как места работы находятся недалеко от дома, а замужних женщин устраивают и часы работы. В течение 20 лет некоторые местные женщины работали на текстильной фабрике, однако фабрику перевели в другое место.
ЧЕРКЕСЫ В США
Черкесы прибыли в США из других стран в разные периоды. Их можно разделить на три группы: 1) «старые» эмигранты.; 2) перемещенные лица; 3) иммигранты из черкесской диаспоры.
Черкесы первой волны – «старые эмигранты покинули свою родину Кавказ после Октябрьской революции 1917 года и переправились из Новороссийска в Стамбул в 1919 году, где находились на положении беженцев около двух с половиной лет. Условия пребывания там были довольно тяжелыми, поскольку после Первой мировой войны Турция была оккупирована Антантой, а её экономика пришла в упадок. Однако условия жизни черкесов оказались более сносными, чем у других беженцев благодаря деятельности Фатимы Батырбовой, жены Кучука Натырбова. Она создала в Турции Черкесский комитет женщин и начала помогать беженцам. Ей удалось связаться с высокопоставленными турецкими чиновниками убедить их в том, что им следует обеспечить жильем беженцев. В результате турецкие власти предоставили черкесским беженцам одну из своих летних резиденций, которая вскоре стала известна как «Черкесский дом». В «Чекесском доме» были созданы условия, на которые приглашали видных турецких чиновников, представителей других стран и Верховного комиссара США адмирала Бристоля.
Находясь под сильным впечатлением от характера и манер этой аристократической группы черкесов, адмирал Бристоль обратился в Госдепртамент США с предложением о переселении черкесов в США. . Адмирал получил положительный ответ в письменной форме, о чем сразу же сообщил Фатиме Батырбовой. Она созвала специальное собрание черкесских беженцев и в присутствии адмирала Бристоля сообщила о решении Госдепартамента США.. Однако после длительной дискуссии большинство из присутствующих, будучи уверенными в том, что большевистский режим рухнет и они смогут вернуться на родину, отказались от этого предложения. Только небольшая группа черкесов решила отправиться в США.. Согласно списку иностранных пассажиров, среди прибывших в порт находились представители известных черкесских фамилий: Нытырбовых, Шипшевых, Шеретлоковых и др. Среди них был также Кадир –Гирей Султан с женой и сыном. Таким образом, эти иммигранты стали первыми адыгами, которые получили приют в США..
Вначале русское общество помощи беженцам в Америке разместило эту группу черкесов в маленьком отеле в районе Баури в Нью – Йорке, где они начали свою адаптацию к новой жизни. Вскоре Русское общество переселило их в Стамфорд в штате Коннектикут. Однако два года спустя, будучи недовольными заработной платой, условиями работы и социальной средой, они вернулись в Нью – Йорк, поселились в фешенебельном районе Мэдисон Авеню и начали приспосабливаться к требованиям новой жизни.
Высшее общество Нью- Йорка доброжелательно отнеслось к вновь прибывшим черкесским аристократам. Однако они прибыли в эту страну без имущества, без денег, не владели английским языком и не знали законов и обычаев этой страны. Такие условия начали сказываться на них в моральном плане. Бесплатным светским ужинам они предпочли тяжелый труд. Их достойное, благородное поведение вскоре стало вызывать чувство уважения к ним со стороны окружающих.
Условия существования иммигрантов были поначалу очень тяжелыми. Этой аристократической группе, не имеющей навыков и опыта, нужно было найти достойную работу и получать жалование, чтобы обеспечить свои семьи по меньшей мере минимальными средствами для выживания. Проиллюстрировать трудности, которые они пережили, можно на примере двух представителей этой группы: Фатимы Натырбовой и князя Кадири Гирея.
После смерти мужа (1923) у Ф. Натырбовой возникли сложные проблемы. Чтобы содержать своих четверых детей и дать им достойное образование Ф. Натырбова стала работать по 16 часов в день в качестве швеи. Со временем она основала собственное ателье мод (в России она закончила гимназию, а в Турции – курсы шитья), привлекла клиентов и начала моделировать платья для актрис театра и кино. С тем же упорством она в конце концов смогла дать высшее образование детям и добиться уважения как со стороны черкесской с русской общин, так и со стороны высшего общества. Ведение собственных дел не помешало общественной деятельности. Большой холл своей квартиры, расположенной на углу Медисон Авеню и 96 улицы, она превратила в «Черкесский дом», где по выходным дням принимала черкесских, кавказских, русских и американских друзей с традиционным черкесским гостеприимством. Кроме того, вместе с грузинским князем Сидамоном Эристофом она основала черкесскую и грузинскую ассоциацию «Алаверды». Они приобрели для этой ассоциации недвижимость и построили свой центр у Рougkeepsie, (штат Нью –Йорк), где члены кавказской и русской общин могли встречаться в свободное время. Они устраивали приемы для сбора средств в счет благотворительного фонда, на которые приглашали знатных и влиятельных людей Нью – Йорка.
Другой пример – князь Кадир-Гирей, никогда прежде не работавший и не имевший профессии, перебивался то в качестве швейцара, то заводского рабочего, то таксиста, пытаясь обеспечить содержание своей семьи. Работая по 16-18часов в сутки, не теряя присутствия духа, он сменил несколько занятий, пока ему не удалось скопить небольшую сумму денег для своего проекта. Для его осуществления он приобрел около 35 акров земли в Катоне, штат Нью-Йорка, закупил несколько лошадей для верховой езды в черкесском стиле. Кадир Гирей начал обучать верховой езде клиентов из высшего общества, среди которых была и Жаклин Кеннеди (задолго до своего замужества). Школа верховой езды князя Кадир Гирея пользовалась таким успехом, что он начал устраивать демонстрации верховой езды в крытом манеже в самом Нью- Йорке.
Несмотря на трудности, с которыми столкнулись черкесы, они смогли дать своим детям лучшее из возможного образование, а также привить им традиционные черкесские моральные устои. Среди первых выпускников высших учебных заведений были Малия и Мурат Натырбовы, впоследствии ставшие сотрудниками Гостепартамента США, а также Чингиз Гирей, который в чине капитана участвовал вместе с президентом Рузвельтом в Ялтинской конференции.
Черкесы второй волны, отнесенные к категории «перемещенных лиц», покинули родину во время Второй мировой войны при различных обстоятельствах. Одни из них были беженцами, другие были либо депортированы немцами, либо стали военнопленными, сражаясь против немцев. Некоторые из них можно рассматривать как политических беженцев, однако большинство из них было просто невинными людьми. Их вина заключалась в том, что они не бежали или не смогли бежать, когда нацисты оккупировали их селения. Когда Красная Армия прорвала немецкую линию фронта на Кавказе в январе 1943 года, часть мужского населения этого региона (с15 лет и старше)бежала в соседние села из опасения быть обвиненными в сотрудничестве с немецкими оккупационными силами, быть жестоко наказанными (сосланными или просто расстрелянными на месте).
Для некоторых беженцев этот план сработал. Наступило время второй черкесской волны в США. – время «перемещенных лиц». Первыми их этой группы были Саламат и Таучей Байрамоглы, которые эмигрировали из Германии в США в 1950 году. Они были родом из Адыгеи. Их настоящая фамилия Бланагаптса, а фамилия Байрамоглы служила им прикрытием, под которым они скрывались в Европе в сложные послевоенные годы. Пригласила их Фатима Натырбова, а поручительство подписали Сидамон Эристаф и И.С. Сикорский. Постепенно этот процесс взаимопомощи ширился среди черкесов, в результате чего численность черкесов, живущих в США стала неуклонно возрастать. В1952 году они учредили Нью-Йорке Северокавказскую Инкорпорацию (The North Caucasion Incorporation) для более эффективной взаимопомощи. К тому времени Толстовский фонд, который помогал русским «перемещенным лицам» переезжать в США, начал оказывать аналогичное содействие черкесским беженцам, все еще проживающих в странах Европы и Ближнего Востока. Он оплачивал транспортные расходы «перемещенным лицам», которые после устройства на работу возвращали деньги фонду в виде ежемесячных выплат.
По прибытии в Нью- Йорк этим людям приходилось сталкиваться с проблемой поиска работы и приличного жилья. В связи с этим они вскоре стали переезжать в соседний индустриальный штат Нью –Джерси, который расположен по другую сторону Гудзона. Особенно привлекала их столица штата г. Паттерсон, где находилось много заводов, в связи с чем было легче найти работу, а жилье и предметы первой необходимости были значительно дешевле. Молодежь устраивалась на работу в булочных и на фабриках. Иммигранты постарше устраивались на работу в качестве ночных сторожей и т. п. Постепенно они начали переезжать в престижные пригороды, давать детям современное образование, приобретать дома, предметы роскоши. Вскоре вновь прибывающие черкесы стали направляться непосредственно в Паттерсон, который стал центром черкесов. Для более эффективной деятельности Северокавказская Инкорпорация была переведена из Нью-Йорка. Вскоре она получила новое название – «Черкесская благотворительная ассоциация». Среди основных задач Ассоциации можно указать следующие:
1.Изучать и содействовать всему, что касается благополучия черкесов в США в области религии, социальных проблем, культуры, творчества, спорта и благотворительности, а также укреплять дух сотрудничества среди черкесов, в целях сохранения черкесского наследия;
2.Оказывать помощь и поддержку всем черкесам, как в США, так и за их пределами;
3.Оказывать помощь на основе добровольных пожертвований членам Ассоциации и их семьям в случае болезней и несчастий.
Вскоре был назначен собственный представитель для оказания содействия Толстовскому фонду в помощи черкесам, желающим иммигрировать в США из Европы, а затем и с Ближнего Востока и других мест.
Третья черкесская группа – «Иммигранты из черкесской диаспоры», иммигрировали в одиночку из разных стран. С 50-х годов темпы черкесской иммиграции в США стали возрастать. Черкесы стали пребывать из Иордании, Сирии, Западной Германии как с помощью родственников и друзей, так и при поддержке Черкесской благотворительной ассоциации и Толстовского фонда. Поток черкесской иммиграции в США достиг своего пика вскоре после арабо – израильской войны 1967 года, когда черкесские поселения в районе Голанских высот в Сирии были разрушены. Число черкесских иммигрантов, прибывающих в США, сократилось в восьмидесятые годы, но оно все же постепенно возрастает благодаря тому же процессу и бракам с представителями черкесской диаспоры на Среднем Востоке и Турции. Постепенно возрастала численность черкесов и расширялся район их расселения в Нью — Джерси (Паттерсон, Хейлдон, Нивакт, Элизабет и т. д.). Некоторые из них решились переехать в другие штаты – около двухсот человек в Калифорнию, в основном, в графство Оранж, во Флориду, во Флориду, в Вашингтон (округ Колумбия), в Новый Орлеан, Техас и около десяти семей –в Сиэтл.
Довольно быстро черкесы стали сильной и целеустремленной этнической группой, признанной м уважаемой блюстителями порядка и властями. В черкесской общине США нет наркомании, пьянства и преступности. С каждым годом растет число черкесов, закончивших американские колледжи и университеты, численность черкесской интеллигенции. Увеличивается число черкесов, занятых «малым» бизнесом в области недвижимости, строительства. Растет число известных мастерских, ресторанов, автозаправочных станций, салонов красоты, магазинов, компьютерных школ, юридических фирм, лечебных заведений и т. д.
Черкесская благотворительная ассоциация всегда играла важную роль в жизни общины, в сохранении черкесских традиций, языка. Построенные ею в Вайне мечеть и Центр стали как духовным, так и светским центром всей черкесской общины в США, а также местом общения со своими родственниками, приезжающими с родины и из диаспоры за рубежом. В её правление входят Исполнительный комитет, Постоянный совет, аудиторская комиссия, работающие на общественных началах. Ассоциация выполняет важную функцию по защите черкесской общины от ассимиляции, предоставляя своим членам место для общения, особенно, детям и молодежи. Проводит общественные, культурные, традиционные, религиозные и образовательные мероприятия и привлекает черкесов разных возрастных групп к участию в них. Мечеть, вмещающая около семисот верующих (500 мужчин на втором и 200 на третьем), открыта семь дней в неделю, а имам, который живет в помещении Ассоциации, читает молитвы 5 раз в день. Центр, его кафетерий, парикмахерская и зал для молодежи и пожилых людей, расположенные на первом этаже, открыты шесть дней в неделю до полуночи. Женский комитет но воскресеньям устраивает обеды, (подаются традиционные блюда собственного приготовления ), которые обычно посещают более трёхсот человек. Общественный комитет Ассоциации организует лекции и вечера. Кружок народного танца обучает детей два раза в неделю. Комитет по образованию при Ассоциации обучает религии и черкесскому языку более двухсот детей от 5 до 14 лет три раза в неделю Отстающим учащимся оказывается помощь по всем предметам, в результате чего в одном только году четверо из десяти лучших выпускников средней школы графства Пассаик были черкесами.
В местные муниципальные советы ряда городов штата Нью -Джерси избрано несколько черкесов. В системе образования графства Пассаик работают десять преподавателей- черкесов. Трое из них имеют дипломы высшего образования, а один возглавляет отдел развития колледжа в графстве Пассаик штата Нью — Джерси. Более 35 черкесов работают в департаменте полиции и в агентствах по надзору по исполнению законов в шиате Нью –Джерси. Из врачей – черкесов 13 работают в этом же штате. Молодая черкешенка является старшим вице – президентом Ньюйоркской просветерианской сети больниц. Многие молодые мужчины и женщины служат в таких гигантских корпорациях, как Американская телефонная и телеграфная корпорация, особенно в области компьютерного программирования. Черкесы работают в различных учреждениях всемирно известной Уолл –стрит в Нью – Йорке, в администрации ООН в Нью –Йорке.
В разные годы в США выходили журналы: «Адыгэ Жъуагъу» (Сircassion star), под редакцией его основателя Кадыра Натхо; «Адыгэ макъ» (Circassion voice), под эгидой черкесской благотворительной ассоциации. Эти журналы освещали вопросы жизни и культуры черкесской общины, публиковали статьи, посвященные истории, литературе, фольклору, языку черкесов, знакомили своих читателей с жизнью адыгов, проживающих на исторической родине – в Адыгее, Кабарде, Черкесии, Шапсугии. В становлении и развитии черкесской общины в США важную роль сыграли Ислам Натырбов, Кимчари Кушмазоков, Турби Кушмазоков, Ихсан Маджаджев, Черим Кушмазоков, Махмуд Чичев, Гиса Тхаркахо, Губерд Мальмуса, Кадыр Натхо, Манжда Хилма (Хабжоко), Бадир Карданов и другие.
Таким образом, за относительно короткий срок черкесская община в США сделала значительный шаг вперед. Будущее черкесов В США представляется перспективным и неограниченным, но лишь в том случае, если они смогут противостоять давлению ассимиляции и сохранять свое традиционное воспитание, высокие моральные ценности и этническую идентичность.
ПРОБЛЕМА РЕПАТРИАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ЧЕРКЕСОВ
Проблема репатриации черкесов возникла еще в первые годы их массового выселения в Османскую империи. Оказавшись в Турции в тяжелых условиях, группа иммигрантов стали стремиться к возвращению на родину. Многие зарубежные черкесы регулярно предпринимали официальные и неофициальные попытки к возвращению на Северный Кавказ, которые, однако, в большинстве случаев завершались неудачно. Правительства царской России, а позднее СССР в периоды сталинизма и «застоя» препятствовали репатриации зарубежных черкесов. В период после окончания Второй мировой войны советские власти мотивировали свои отказы, как правило, нехваткой жилья и земель на Северном Кавказе. Однако, именно с конца 40-х годов до середины 80–х годов 20 века осуществлялось планомерное и массовое переселение граждан из самых различных регионов СССР в качестве специалистов и «рабочей силы» в северокавказские республики. Сотни же заявлений, поступающие от зарубежных черкесов в советские посольства и консульства в Сирии, Иордании и Турции оставались без ответа.
Все же, несмотря на негативное отношение властей к данной проблеме, некоторые черкесские семьи из Сирии, Турции и Иордании стали переселяться в Кабардино –Балкарию и Адыгею частным путем еще в 60 –е годы. Власти на местах чинили им различные бюрократические препятствия: усложняли процесс оформления советского гражданства и прописки, устройства на работу, обмена валюты и т. п. Некоторые из репатриантов не выдерживали и покидали негостеприимную родину. Были случаи, когда местные власти насильственно выдворяли из страны соотечественников, пожелавших остаться на исторической родине
Ситуация стала меняться во второй половине 80-х годов в связи с проводимой в СССР политикой перестройки. В защиту прав соотечественников, желающих возвратиться на родину, начали выступать образовавшиеся в то время общественные организации, национальные движения северокавказских республик. На своих заседаниях, собраниях и съездах они требовали от властей решения этой проблемы. Адыгейская, кабардинская и черкесская организации «Адыгэ Хасэ» поставили одной из главных задач оказание помощи репатриантам. При кабардинской «Адыгэ Хасэ»был открыт отдел содействия репатриации зарубежных соотечественников, который занимался, главным образом, поисками жилья для репатриантов и оформлением их документации, необходимой для получения советского гражданства. С требованием о предоставлении соотечественникам права возвращения на историческую родину выступила и Ассамблея горских народов Кавказа. Созванный по её инициативе 31 мая 1990 года в Сухуме митинг представителей народов Кавказа, на котором присутствовало около 30 000 человек, принял обращение к Генеральному секретарю ООн Пересу де Куэльяру, президенту СССР М.С. Горбачеву, Президенту Турецкой Республики Тургуту Озалу, в котором, в частности, отмечалась необходимость предоставления зарубежным северокавказским общинам права беспрепятственного возвращения на историческую родину.
В начале 1989 года на имя Генерального секретаря ЦК КПСС МС. Горбачева поступило обращение черкесской общины Сирии, в котором излагалась просьба о предоставлении права на репатриацию и получение гражданства 234 семьям. В декабре 1990 года черкесское благотворительное общество получило из посольства СССР в Сирии официальный отказ на данное прошение, что вызвало негативную реакцию в черкесских общинах Сирии, Иордании, Турции, а также среди общественности республик Северного Кавказа.
В конце 80-х годов поток репатриантов стал возрастать, несмотря на бюрократические препоны. В целях оказания содействия репатриантам в Кабардино – Балкарии в июне 1991 года был учрежден Благотворительный фонд «Хэкуж» (Родина), который начал оказывать помощь репатриантам в решении двух основных проблем – в оформлении документации и приобретении жилья. Штат фонда стал содержаться за счет доходов от собственной коммерческой деятельности и пожертвований некоторых организаций и частных лиц. В 1992г. филиалы этого фонда были открыты при черкесских благотворительных обществах Турции и США. Аналогичные фонды содействия репатриантам также были основаны в Республике Адыгея и Карачаево –черкесской республике. Первыми на историческую родину устремились соотечественники в основном двух социальных слоев – представители патриотической настроенной интеллигенции, заявившей о своей готовности переносить все неудобства переселения, и бизнесмены, стремившиеся наладить выгодные дела на Кавказе. Более половины всех репатриантов составили граждане Сирии. Поток черкесских репатриантов стал увеличиваться также в связи с тем, что российские посольства получили право рассматривать вопросы о предоставлении гражданства соотечественникам, предки которых эмигрировали с территории России. Так, в 1992 году российское посольство в Сирии выдало черкесам 120 паспортов.
Одна из главных проблем черкесских репатриантов состоит в сложной процедуре оформления документации, необходимой для получения российского гражданства, она занимает длительный период времени. Так, для получения российского гражданства от репатрианта требуется безвыездно находиться на данной территории (в частности, в КБР) в течение трех лет. В случае же одного выезда за рубеж этот срок увеличивается до пяти лет. Общими проблемами для репатриантов в республиках Северного Кавказа стали поиск жилья и работы. В условиях же сложной экономической ситуации в целом по России, сопровождающейся закрытием ряда предприятий, нехваткой рабочих мест, ростом безработицы и ростом цен на жилье, указанные проблемы приобретают острый характер. Адаптация репатриантов также осложняется тем, что большинство их не владеет русским языком и не знакомо с местным жизненным укладом. Следует также отметить, что десятки адыгов – репатриантов не могут окончательно определиться с местом постоянного проживания. Испытав на себе разного рода «неудобства» и проблемы на исторической родине, они отправлялись в страны прежнего проживания. Однако и там они уже не ощущали «коренными»жителями (главным образом, по причине морально – психологического характера) и снова возвращались на Северный Кавказ.
Серьезной проблемой для репатриантов стал и разгул преступности в Северо –Кавказском регионе. Многие из них подвергались преследованиям со стороны преступного мира. Нередки были случаи ограблений, вымогательств денег у репатриантов, а несколько человек были убиты. Все эти негативные реальности постсоветского общества послужили охлаждающим фактором в процессе репатриации и способствовали разрушению у зарубежных черкесов романтического представления об исторической родине как о «земном рае». Уже после 1993 года поток зарубежных черкесов, прибывающий на Северный Кавказ, стал уменьшаться.
Важным политическим событием стало возвращение группы черкесов (174 человека) из Косово (Союзной Республики Югославия) в Республику Адыгея. В связи с обострением противоречий между албанцами и сербами, переросших в вооруженное столкновение, черкесы вынуждены были покинуть свои селения в Косово и отправиться на историческую родину. После обращения косовских адыгов с просьбой о предоставлении им права на репатриацию, Международная Черкесская Ассоциация трижды ставила вопрос о косовских адыгах (черкесах) на заседаниях Организации Непредставленных Наций и Народов. Трижды принималась положительная резолюция по данной проблеме. Резолюция по данной проблеме была принята и Комитетом по правам человека ООН.
В настоящее время многие зарубежные черкесы – бизнесмены и специалисты заявляют о своем желании и готовности переселиться на историческую родину или открыть там совместные предприятия. Но при этом они требуют предоставления государственных гарантий в обеспечении безопасности их предпринимательской деятельности, их имущества, банковских вкладов.
В целом, репатриация зарубежных черкесов не приняла широкого размаха. В настоящее время общая численность черкесов-репатриантов в РА и КБР достигла 2 335 человек. Тот факт, что зарубежные черкесы, неоднократно заявлявшие о своем желании вернуться на историческую родину, не воспользовались такой возможностью, появившейся в наши дни, свидетельствует о том, что массовые миграции населения не происходят по причине идеологической пропаганды или подъема патриотических настроений. Только острые социально — экономические и политические причины (войны, дискриминационные меры, репрессии и т. п.), а также природные катастрофы (засуха, землетрясения и др.) могут вынудить к переселению весь народ. Возвращение на историческую родину лишь незначительного числа зарубежных черкесов показывает то, что массовая репатриация невозможна в частном и стихийном порядке, без помощи органов власти принимающего государства.
В дальнейшем можно предполагать, что процесс репатриации зарубежных черкесов в большей степени будет зависеть от внутриполитической ситуации в странах их проживания. Если в странах проживания зарубежных черкесов будет сохраняться сегодняшний курс правительств по отношению к черкесским общинам (курс равноправия), то численность зарубежных черкесов, стремящихся к репатриации, вряд ли будет возрастать. Она может возрасти в том случае, если в странах проживания будут предприниматься по отношению к черкесским общинам какие-либо дискриминационные меры. Численность черкесов – репатриантов может возрасти также и в том случае, если правительства северокавказских республик будут оказывать им планомерную помощь в процессе переселения и адаптации.
ЧЕРКЕСЫ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Первые, относительно немногочисленные группы черкесских иммигрантов стали появляться в странах Западной Европы после массового выселения черкесов и других народов Кавказа в Османскую империю в 60 –х годах 19 века. Это были в основном семьи феодалов и старшин, обладавшие денежными средствами и личными связями в этих странах. После выхода из Османской империи и обретения Сербией независимости в 1878 году на её территории в районе Косово оставалось незначительное число черкесов (абадзехов). К 1900г.их численность составляла 6 5000 человек. Однако, как национальное и религиозное большинство, черкесы подвергались дискриминации со стороны местного населения, в связи с чем шел процесс их переселения в Турцию после Балканских войн 1912 -1913 годов. Процесс эмиграции из Косово происходил и в последующие годы. В Косово оставалось 49 черкесских семей (174чел), которые в 90 годах вернулись на историческую родину – в Адыгею.
В годы гражданской войны в России (1918 -1922)десятки северокавказских семей переселились в страны Западной и Восточной Европы. Основную массу этих иммигрантов составляли семьи сторонников независимой Республики Горцев Северного Кавказа, белогвардейцы, представители дворянства и буржуазии, бежавшие от власти большевиков. Северокавказские иммигранты расселялись в разных городах европейских стран: в Париже, Лионе, Берлине, Варшаве, Праге и др. Около половины северокавказских иммигрантов составляли адыги.
Следующая волна эмиграции черкесов и других народов Северного Кавказа в страны Западной Европы приходится на период Второй мировой войны. Германское командование осуществляло деятельность по вербовке на службу представителей местного населения на оккупированных территориях. Военнопленные, которых содержали в крайне тяжелых условиях, вынуждали вступать в германские части. В целях проведения прогерманской пропаганды и вербовки местного населения на военную службу на Северный Кавказ были отправлены и представители северокавказских иммигрантов, уже проживавших в странах Европы.
Четвертая волна черкесской иммиграции в страны Европы –самая многочисленная (трудовая иммиграция), началась в 50-е годы 20 века и продолжается в настоящее время. Черкесская молодежь, в основном из Турции и арабских стран, устремилась в страны Западной Европы с целью устройства на работу. Поток черкесов, отправляющихся на заработки из Турции в Германию, стал возрастать в 70 –х годах 20 века. На протяжении 90-хгодов 20 века происходила и трудовая эмиграция представителей народов Северного Кавказа, как и других народов России. Сотни молодых специалистов из республик Северного Кавказа, которые не смогли устроиться в РФ, отправились в поисках работы в страны Западной Европы (преимущественно в ФРГ), в США и др.Многие из них направились туда в качестве беженцев.
По приблизительным данным, в ФРГ в настоящее время находится около 30-40 тысяч черкесов. Преобладающая часть их проживает дисперсно в городах: Мюнхене, Штутгарте, Маннхайме, Франкфурте –на Майне, Кельне, Дюссельдорфе, Вуппертале, Дортмунде, Гамбурге, Берлине и др.Черкесы в ФРГ представлены практически всеми субэтническими группами. Представители поколений старше 30 -40 лет, в целом, владеют черкесским языком (своими диалектами). Черкесские дети дошкольного и школьного возрастов, родившиеся и выросшие в ФРГ, родным языком владеют в незначительной степени. В то же время черкесская молодежь сохраняет национальное самосознание и проявляет большой интерес к своей этнической истории и культуре. Большая часть черкесов в ФРГ не имеет гражданства страны проживания. Сфера их деятельности самая разнообразная. Среди иммигрантов первого поколения преобладают лица, занимающиеся неквалифицированным трудом (водители, рабочие и т. п.). Среди черкесов, родившихся и выросших в ФРГ, уже высок процент людей с высшим образованием – специалистов, бизнесменов, сотрудников различных фирм.
Черкесы проживают в Голландии – свыше 100 семей, в Великобритании, Франции, Испании, Швеции и др. Большая часть их – выходцы из Турции, Сирии и Иордании.
В странах Европы северокавказские иммигранты учредили несколько землячеств и организаций. Это «Союз горцев Кавказа» в Чехословакии; «Комитет независимости Кавказа» в Лионе; «Народная партия горцев Кавказа» в Париже и др. Основанная в 1926 г. «Народная партия горцев Кавказа», заняла лидирующее положение и провозгласила себя единственной организованной силой северокавказских иммигрантов. Одной из задач НПГК была организация реэмиграции зарубежных черкесов (старой эмиграции) на историческую родину. В 1926 году представители северокавказских иммигрантских организаций вступили в «Лигу Прометей», в которую входили представители иммигрантских организация бывшей Российской империи.
В странах Западной и Восточной Европы северокавказскими иммигрантами был организован выпуск периодических и непериодических изданий. Это журнал «Кавказский горец» — орган Союза горцев в Чехословакии, издававшейся в Праге в 1924 году – 1925 годах на русском языке. Редактор журнала – адыгеец Мурат Хатгогу. Журнал «Горцы Кавказа» — орган Народной партии горцев Кавказа. Издавался в Париже в 1929 -1934 годах на русском языке, под редакцией кабардинского князя Эльмурзы Бековича – Черкасского. Журнал «Северный Кавказ» — Орган НПГК, издававшийся в Варшаве в 1934- 1939 годах на русском и турецком языках. Редактор – кабардинец Барасби Бейтуган. Журнал «Кавказ» -орган независимой национальной мысли. Издавался в Париже на русском языке, под редакцией дагестанца Хайдара Баммата. С 1939 года стал выходить в Берлине. В указанных журналах и непериодических изданиях публиковались статьи и воззвания политического характера, статьи по истории и географии Северного Кавказа, информация о текущих событиях в СССР и, в частности, на Кавказе. Публиковались также рассказы и стихотворения, посвященные Кавказу.
Северокавказские иммигранты регулярно устраивали собрания своих землячеств. Правительства европейских государств и отделения международного общества «Красный крест» оказывали материальную помощь северокавказской иммигрантской молодежи, в честности, выделяли для них стипендии в ВУЗах. Преподаватели и студенты ВУЗов Польши и Чехословакии проявляли большой интерес к кавказским проблемам; организовывали различные собрания, циклы лекций, посвященные географии и истории Кавказа. В марте 1933 года в Варшаве был учрежден «Союз студентов – кавказцев в Польше».
В 1953 году в Мюнхене был учрежден и «Черкесский комитет за границей», осуществлявший культурно – просветительскую деятельность. Новая активизация деятельности черкесских организаций со статусом культурных центров приходится на конец 60-х годов. Следует отметить, что зарубежные черкесы свои культурные центры, благотворительные общества и другие организации в разных странах мира традиционно называют «Адыгэ хасэ». В 1973 году была основана черкесская хаса в Кельне, 1974г.- в Швельме (в 1978 г. переехала в город Вупперталь), в 1987г. – в Цвинберге, в 1989 – в Нюрнберге, в 1991 – в Гамбурге, в 1994 году – в Ганновере и Штутгарте. Основной целью этих организаций является осуществление культурно –просветительской деятельности среди черкесских иммигрантов. При черкесских культурных центрах действуют курсы для детей по изучению черкесского (адыгейского и кабардинского) языка, народных обычаев, черкесской истории. В 80 -90 годах 20 века черкесский культурный центр в Вуппертале издавал журнал «Ныбжьэгъу» (« Друг») и газету «Щыблэ» («Молния») на турецком, немецком и черкесском языках. Издание литературы на черкесском языке в ФРГ широкого размаха не получило, так как черкесские организации получают книги, периодические издания, учебную литературу, аудио и видео кассеты на адыгейском и кабардинском языках с исторической родины. Одним из наиболее массовых и популярных видов деятельности черкесских организаций в ФРГ является проведение собраний черкесских иммигрантов ( поочередно в разных городах)После этих собраний молодежные группы исполняют черкесские народные танцы и песни.
С1980 года в Амстердаме осуществляет свою деятельность черкесское благотворительное общество. При нем функционируют курсы черкесского языка (используется алфавит на латинской основе) и ансамбль черкесских народных танцев.
В целом, черкесские иммигранты в ФРГ и других странах Западной Европы сохраняют свою этнокультурную специфику. В то же время они не стремятся к реэмиграции на историческую родину. Преобладающая часть их видит свое будущее в получении гражданства и упрочении своего социального статуса в странах Западной Европы.
ПРИМЕЧАНИЯ
Выражаю глубокую благодарность научному консультанту, доктору исторических наук, Кушхабиеву А. В. за предоставленные материалы о черкесской зарубежной диаспоре («Черкесская диаспора»), подготовленные для Адыгской Энциклопедии, (на момент написания книги еще не опубликованные).
В книге использовались исторические документы и сведения из следующих источников:
- О.П. Дзидзария. Морская лексика в абхазском языке. Издательство «Алашара», Сухум, 1989.
- Г.Г. Тхагапсова. Народная медицина адыгов. Майкоп, 1996.
- Н. Бэрзэдж Изгнания черкесов (причины и последствия). Майкоп, 1996.
- А.В. Кушхабиев. Черкесская диаспора в арабских странах (19-20 вв.) Нальчик, 1997.
5 Р. Бетрозов. Два очерка из истории адыгов. Нальчик, «Эльбрус», 1993.
Использованы архивные материалы на реабилитированных УФСБ России по КБР, фонд №8, АУД № 304-П, АУД № 10879, а также архивные материалы ЦГА КБР на Шогенцукова А.А.