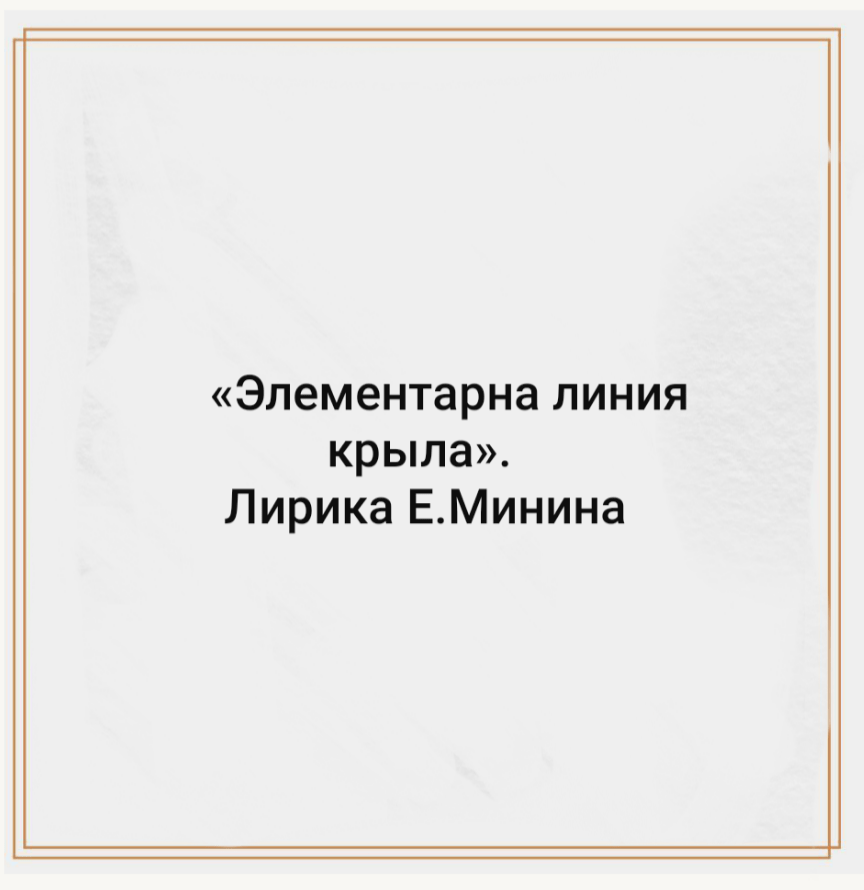Миясат Муслимова
Кандидат педагогических наук,
профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы ДГУ.
Заместитель министра образования и науки Республики Дагестан.
«Элементарна линия крыла». Лирика Е.Минина
Книга Евгения Минина «Погоня за ветром» вышла в Иерусалиме в 2012 году. Поэзия – та сфера, где духовные достижения становятся профессиональными. Где тоска по идеалу дает ту особую ноту лиризма, которую невозможно достичь в обыденной жизни. Поэтому чтение книги стихов — лучший способ познакомиться с автором как поэтом и человеком, что я и сделала, получив эту книгу в подарок от автора, знакомством с которым я обязана виртуальной реальности в ЖЖ. За что особый респект всем новейшим информационным технологиям.
Вообще сегодня все в нашей жизни настолько фрагментарно, в том числе благодаря тем же технологиям, мир становится настолько расчленяющимися, что преодолеть клиповость мышления и вернуть ощущение целостности реальности могут только некие социальные интеграторы. В этом смысле роль поэзии неоценима. Как отмечал Померанц, поэзия дает ту пазу созерцания, без которой нам не услышать перекличку царствия внутри нас и царствия вовне. Этим и интересен каждый поэт, которому дано слышать и творить .
Тематически стихи в книге «Погоня за ветром» распределены между разделами «Товарняк», «Если Бог меня оставит», «Поэт – брат мой», «Танец на углях», «Обними меня покрепче», «Восточная кухня», отдельно даны циклы стихов, объединенные темой искусства, завершается книга разделом пародий. Однако по сути это стихи одного дыхания, одной жизни. Книга открывается стихотворением «Товарняк», рассказывающем об эпизоде детства. Однако если мы будем искать в этом разделе развитие темы детства, мы попадем в тупик
В разделах нет биографической последовательности, но это воспоминание из далекого прошлого раскрывает главное, то, что было и будет в лирическом герое. Детская игра – прыгнуть на подножку поезда и в смертельном риске утвердить свое право на жизнь, на преодоление, свою тягу к манящим огням дальнего, другого, будущего. Жизнь, которая очень рано бросает вызов смерти. Но в этом вызове смерти – не просто отчаянная дерзость и игра жизненных сил, в прыжке над бездной — точный расчет и знание единственно правильного способа действовать: «А все потому, что был выверен шаг, И точен толчок ноги». Главная тема всех разделов книги – жизнь, и раскрывается она не как фрагмент и не столько в переживании здесь и сейчас, а в ее траектории движения, в испытывающем взгляде автора, обращенного к себе самому. Годы пролетели, но осталась все та же детская устремленность: «А я все бегу от тебя, суета, К манящему жизни огню, Но силы – не те. И дыхалка – не та, Смогу ль, не сорвусь, догоню?»
Семь разделов книги «Погоня за ветром» — это не столько разные темы или этапы жизни автора, преломившиеся в стихах, сколько встреча с поэтом, «здесь и сейчас» интересного читателю своим взглядом в прошлое и настоящее, лиризмом и ироничностью, емкостью лаконичных строк и ясностью, точностью слова. Но это ощущение ясности и доверие впечатлению простоты может обмануть нас и увести мимо понимания авторской мысли, если вы подадитесь инерции чтения. Там, где обычно поэты облекают мысль во взрывные метафоры, автор не ставит эти знаки предупреждения и опознания. Минин пишет просто, требует читателя вдумчивого, внимательного. Его контрапункты незаметны на первый взгляд, но настоящие авторы тем и хороши, что они меняют оптику и расширяют возможности читателя. В каждом своем стихотворении, даже в самом маленьком, он словно учит ходить заново по земле — не как по прочному монолиту, а словно бы прислушиваясь к прочности земли под ногами, чтобы не ошибиться, выверяя каждый свой шаг. «Я лишь – серый листок, вниз скользящий в свободном паденье» — легко льется стих с узнаваемыми и понятными образами, и не сразу осознаешь неожиданность последующих слов: «где от гнева и кары навеки укроет земля» — уход из этого мира связан в нашем представлении, наоборот, с ожиданием «гнева и кары»
«Стихи последних лет» – оговаривает автор первый раздел книги – «Товарняк». Он открывается стихотворным эпиграфом «Экклезиаст», задающим особое измерение взгляда на свою жизнь, когда наступает время одновременного существования в ней и за ее пределами. В нем звучит вызов всему, что и в мудрости своей, и в тщете стоит между человеком и природой, и нем же наиболее ёмко выражено драматичное осмысление жизни, которое обычно потаенно звучит в стихах поэта и редко обнаруживается «в полный голос». Многие темы книги уже заключены в этом коротком стихотворении, но основная – тема жизни, смерти и преодоления. И хотя каждое стихотворение, в том числе и это, достаточно цельно, в них слышны скрытые следы внутренних диалогов, те столкновения мыслей, которые и придают особую наполненность звучанию слова, где отрицание проверяет свою силу через утверждение. Каждое слово в поэтическом потоке проверяется и кристаллизует свой смысл множеством его отражений в этом же произведении. Поэтому традиционный путь последовательного движения за автором может читателя обмануть. Авторский способ думать и жить – иной, он строится на тех же тончайших и незыблемых связях всего со всем, как в природе. Поэтому правильная траектория чтения стихотворения – идти от начала к концу – и снова к началу. «Все проходит в погоне за ветром. Жизни привкус – горше лимона», – пишет автор, и уподобление горечи жизни бессмысленной погоне за призраком как будто бы раскрывает смысл названия книги, созвучный экклезиасту: «все пройдет». Но эта инерция восприятия или ее традиция начинает рушиться при дальнейшем чтении, и ее разрешение ты осознаешь только в момент разрушения, не заметив, как казавшиеся завершением одной мысли строки оказались разворачиванием другой, рождающейся в ее недрах. Обычно мысль о преходящести всего обессмысливает в немалой степени ценность того, о чем идет речь. У автора же «разрушение» смысла работает на сохранение ценностей, без которых слабеет человек и скудеет его жизнь. «Только каждая встреча с рассветом в необузданной круговерти и желанье погони за ветром убежать поможет от смерти…». Переосмысление, расширение, углубление взгляда, — это то, чем увлекают стихотворения, а наслаждение искусством точного слова, ритмикой, звучанием, чувством близости автора уже служит залогом нашего нового возвращения к творчеству поэта.
Cмерть как посыл к жизни, жизнь как уход от смерти. «Погоня за ветром» – это поэзия не о преходящести жизни, обрекающей на тщету действия человека, — а о ее щемящей красоте, о неутоленности прекрасным и стремлении к нему. Очень динамичная поэзия, в которой много света, пространства, ритма, движения, порыва, и в то же время созерцательности, потаенного трагизма перед лицом небытия. Пространственность в стихах – это и ощущение воздуха, простора, свободы духа, и какая-то особенная близость к автору, задаваемая его доверительностью, открытостью, безпафосностью, самоиронией, юмором, простотой. Той простотой, о которой сам поэт скажет: «Нет волшебства, нет чуда никакого, искусство начинается с простого – элементарна линия крыла» («Художник»).
«Предзакатные» стихи или мотивы уходящего времени, уходящей жизни, звучащие в разных разделах книги, не так явны, да и таких стихотворений не так много, но, мне кажется, именно они придают какое-то особое человеческое звучание книге в целом. И диапазон звучания темы богатый – от самоиронии и взрыва эмоций во внезапности встречи («Старость») до ностальгических возвращений в прошлое («Запах земляники», «Тот город»)
Евгений Минин – поэт русский или израильский? Можно ли так ставить вопрос, не знаю, но когда читаешь его стихи, не хочется никаких противопоставлений. Политическая история нашей страны в 20 веке вопрос выбора страны для проживания сделала вопросом жизни и смерти, верности и предательства. Постсоветская история страны и общие процессы в мире изменили отношение к праву человека выбирать родину и относиться к ней так или иначе. Для оценки поэзии широкой читательской аудиторией, к счастью, это уже не имеет значения, как раньше не имело значения для узкого круга ценителей поэзии. Евгений Минин – русский поэт для России, и не только потому, что он безупречно пишет на русском языке и впитал в себя русскую культуру, неразрывно связан с ней. Но еще и потому, что невозможно потерять ту самую жгучую и смертную связь со своей малой родиной, даже если отрицать это («ностальгия ко мне не приходит, не мучает шельма»). Отрицать, наверное, из боязни пафоса, из разности миров прошлой и нынешней России («вот смотрю по ТВ – когда горько, когда прикольно» («Эльгрегор»). Но есть стихи о любви, которые в равной мере можно отнести к любимой женщине и к родине. Одно из самых пронзительных у поэта, и размещенное сразу после стихотворения «Эльгрегор», — «Если бы ведала только, как холодно мне без тебя..». Потрясающие строки, которым неловкость признания, неумение легко произносить трудные слова, придают особую силу: «Оглянись на меня, это я поднимаю листок — Черновик этой осени, словно пустую страницу. И увидишь во мне неуклюжую черную птицу – Занесенную стаей на Ближний, но дальний восток».
Образ птицы можно найти у каждого поэта, но мало кто может дать ощущение взмаха ее крыльев, вопреки тяжести, склоняющей ее к земле, вопреки боли, которая бьет прицельно и настигает на лету, дать почувствовать биение сердечка в ладонях. И прочитать так много в немногих словах, за которыми – неотвратимость участи преданно любящих: «Стая в небо взлетит – и на юг, От родимой земли, от зимы, От суровых январских вьюг, Брать чужое лето взаймы. А другим этот путь незнаком, Что им лютый мороз-лиходей! Но на снег замерзшим комком С ветки падает воробей. Ртутный столбик у сорока, Как на траурном замер посту. Все умеет природы рука, Принимай ее красоту. Все под силу – алмаз огранить, Обучить полету птенца, Одного не умеет – хранить Тех, кто предан ей до конца».
Верность и любовь «малых», не замеченных, — та почва, на которой стоит большое и великое. Мы уже давно приучены к тому, что взаимность в этих отношениях – дело редкого случая. Но особенность подлинной любви в том, что она живет вопреки. И без упрека. Любовь – она родом из детства — кто этого не знает по себе? Самозабвенно вернуться в прошлое — значит невольно рассказать о себе сегодняшнем. Память другого как дар воскрешения прошлого и мыслящее явление в настоящем становится нашим переживанием под пером художника. «Запах земляники» — это радость лакомящегося ребенка, воссоздаваемое такими короткими и выразительными картинками, самыми простыми словами, а упоение – как от собственного пиршества – «у окошка с липами В деревянном домике с низким потолком» — и вот ты уже весь там, где «воробей на веточке, весело чирикая, Долго уговаривал поделиться с ним…», ты уже в том прошлом, где нет вообще времени, но тут автор, «окунувший» нас в землянику с молоком, возвращает назад, и мы не успеваем опомниться, но уже смеемся: «Детство, мое детство пахло земляникою, Может быть, поэтому вырос я незлым!».
Сколько стихотворений в книге — и ни одно из них не пройдет незамеченным, не прочитается по инерции, потому что в каждом – своя мелодика, свой ритм, своя улыбка, свои образы, и так ностальгически знакомые по реалиям прошлого («заправлена печь дровами, фырчит чугунок с бульоном, А за окном в скворечне птенцов бесконечный грай. А бабушка с дедом живы, и сахар еще по талонам, И так безмятежно в тетрадке рифмуются рай и сарай» («Тот город»), и так забавляющие улыбкой над своими школьными бедами («Урок физкультуры»), и печалящие невозможным: А память исколет сердце лапой еловой колючей За то, что кому-то когда-то три слова недосказал».
Всем знакомо то время дня, когда заходящее солнце погружает в золото серые улочки города, рождая ощущение некой благодати. О чем бы ни писал автор, все мило сердцу, потому что и тревога, и печаль, и смех, и насмешка – все это взгляд любящего человека, не умеющего перекладывать тяжесть и бремя ее осознания на другого. Стихия лиризма преображает всё, поэтому и пародия не обижает, и уныние веселит (Какое утро погодонегодное, Жуткие в небе облакадабры. Вот как жара снимает исподнее, И вешает все на колючки сабры. Небо хамсонное, небо хамсине, Даже сердцу душно-недужно, Мне это надо? Мне это нужно? Утро колючее, утро осиное… («Утро»)
А тем более, когда нас, читателей, делают соучастниками встречи с чем-то высоким, куда можно смотреть, лишь запрокинув голову («Висит над землею волшебная осень из птичьего клина, из листиков клена. Давай у нее, всемогущей, попросим багряных искринок, дождинок соленых»). Да, мир, увиденный вместе с поэтом, прекрасен, и пусть он обжигает горечью («О том, что у нас впереди расставанье, еще мы не знаем, еще мы не верим»), но в этих же строках звучит такая музыка полета, что все отступает перед ней и перед тем, чем дано нам еще наслаждаться: «Но все невесёлое в завтра отбросим, и гроздью каленой алеет калина. Висит над землею волшебная осень из листиков клена, из птичьего клина» («Осень»). Стихи об осени полны того сентябрьского солнца, которое, как материнская ладонь, дает утешение, но – «не прижаться к ней солёными губами». Эта изредка прорываемая нота страдающей человеческой души – она особенно дорога, так же, как авторская улыбка над ней: «Ни запала нет в душе, ни пыла В ожиданье завтрашнего дня. Это значит – осень наступила, Наступила прямо на меня…» («Осеннее).
«Я тот же, что и был, сентиментальней лишь», – пишет автор. Старомодно? Вечно. Провинциально наше стремление казаться сильнее.
Одни из лучших стихотворений книги посвящены детству, в котором мы были родней со всем миром, и где братья наши меньшие учили нас человечности («Дикий кот»), верности («Собака»). Стихотворение «Озеро» обладает какой-то магической оптикой, сталкивающей два потока времени и усилие вхождения в потерянный мир: то ли все тот же мальчик плывет по свинцовой воде к берегу, то ли мы тщетно стремимся прикоснуться к такому осязаемому и ускользающему на расстоянии вытянутой руки миру. Оно рождает множество ассоциаций, насыщено плотными потоками смыслов, звукописью.
Искусство звукописи у Е. Минина особое – оно не искусственно, оно не призвано демонстрировать техническую виртуозность автора, оно никогда не довлеет над смыслом, настолько органично, что не является признаком отдельных стихотворений, а пронизывает все жанры, это как от природы поставленный голос. Причем, невозможно, как это часто бывает, говорить об ассонансе или аллитерациях, потому что мысль или чувство побочно не цепляются за воспоминание о гласных и согласных, они ниоткуда не выпирают, как детали украшения или элементы строения. Поэтические строки несут по волнам воспоминаний, удивляя точностью сравнения, поэтической зримостью плывущих навстречу образов, и как встречной волной ошеломляя встречей со своим детством и юностью («Городишко-городишко, пыльных улиц сладкий запах, И речушка через город , словно жилка на виске. Я – твой маленький мальчишка, пробираюсь тихой сапой, Чтобы после смыться- скрыться с кислым яблоком в руке…»)
Еще одна особенность лирики поэта: стилевая органичность слов высокой лексики и просторечья. Я не знаю другого примера в поэзии, когда разговорные и просторечные слова, которыми мы все так часто пользуемся, были бы столь органичны в лирике: «смыться-скрыться», «дребедень», «дыхалка», «прикольно», «задрипанный» и т.д. Удивительно, но они не только не снижают тональность стихотворения, а даже несут некую скрытую ласку и беспечность, а точнее, «к» беспечности. Встреча речевых потоков детского мира и мира взрослого происходит вне любых границ расстояния, там нет пути друг к другу, потому что все пребывает в себе, и дальняя волна в океане — та же стихия, что и водные глубины на берегу озера. Мир лишь меняет свои очертания вокруг, а душа остается прежней, той, какой замыслил её Бог, чтобы она, оставленная один на один с путаницей мыслей, оглушенностью майским ливнем и ошалелой сиренью, чутко внимая миру, искала сама себя и свою связь с ним, прозревала свой путь, свой голос: «Я – пацан длинноволосый, я – поэт, вопрос решенный, Это ты лишь мог подслушать первых строчек дребедень». Город, к которому обращен голос автора, маленький город Невель Псковской области с таким певучим русским названием, «на краю судьбы и жизни неприметный городишко», – это та малая родина, в любви к которой сливаются наивная чистота детства и улыбка взрослого: «И поверь, совсем не знаю, может мною ты гордишься, Но чтоб это совершилось, я стараюсь, как могу».
Можно писать стихи, отключая сердечность участия, и чувствовать, как высокое бесстрастие и философичность взгляда приближают тебя к сонму больших поэтов, претендующих на вечность. Можно прятать ее за смехом, самоиронией, но когда она есть, стихи тоже становятся ближе к сердцу. Правда, парадокс: чем больше сердечное тепло, тем уязвимей сердце.
«Что наше сердце, друг, — беспомощная мышца,
Сам черт не разберет, как лечится она.
Не разорвать ей круг, чем издавна томишься,
И не нащупать брод там, где не видно дна…
Приподнимает жизнь таинственный свой полог,
Сердечко-то она вручила напрокат,
И смотрит на меня печально кардиолог,
А я гляжу в окно, где плавится закат»
(«У врача»).
В стихотворении поэта мысль может быть высказана раньше или позже, хорошо и еще лучше, но в них есть всегда то чудо, которое мы не могли не почувствовать в последних строках стихотворения: поэзия умолчания, явленная с такой зримостью, перед красотой которой приглушается боль.
Любая тема может стать поэзией, будь это политика или околополитические, любые иные реалии. Если уметь с такой точной силой слова – а это уже беспощадность к явлению, лаконичностью дать узнаваемые его черты и опять же – умолчать об очевидном смысле, неопровержимо раскрыв его через единственно найденный образ:
Когда редеет первый ряд,
Выходят из-за спин вторые,
Неведомые, никакие —
И говорят, и говорят,
Что приносил, что наливал,
Кто что когда кого и сколько,
Приврет-придумает лишь только
Бесхозный подержать штурвал,
Чтоб находиться на виду
В плену чужого ореола,
Но мимо проплывет гондола
И растворится на ходу…
Чеканность срок, плотность рядов, ни одного аморфного или спорного слова. Высеченная правда, вдруг к концу нашего взгляда растворяющаяся в мире объёма и тайны времени.
Человек хочет казаться сильным. О своей уязвимости он узнает перед лицом болезни, времени, смерти. Но и тогда он должен быть сильным, потому что он боится смеха. А болезнь, старость и неотвратимость ухода – что это, как не осмеяние человека временем? Его надежд, его возможностей, его заряженности на труд, на счастливое право быть нужным. Можно из трагедии сделать басню, можно из басни – трагедию. Вся лишь разница замысла в дистанции, которую надо задать между собой и героем.
Мы знаем классику про лошадь и немножко нервно. Мне кажется, это еще одна классика, – стихотворение Е. Минина «Лошадь», оно продолжаете ту же тему: все мы немножко лошади. Но не там, где мы печалимся о трудностях сегодняшнего и окололежащих дней в своей повседневной жизни, а там, где по инерции приложения всех своих сил в ежедневности пахоты вдруг спотыкаемся о камень, который нельзя убрать, перед которым мы все (лошади, естественно, а не стрекозы) равно достойны слез, а не осмеяния: «Лошадь выпрягли старую, бросили в поле, Мол, свое оттаскала, теперь бей баклуши, и траву ешь от пуза, и спи аж до боли, заработала, мол, пансион свой старуший. А она за повозкой бежать – непонятно, Как могли? Я – сильна! Я – стальная натура. Так возница кнутом её выгнал обратно, Живо в поле, гуляй! Эко старая дура! И застыла она одиноко и горько, На глаза набегала соленая влага, надорваться бы ей на какой-нибудь горке, или с хрипом внезапно сорваться с оврага. И стояла она на крутом косогоре, Велика, непонятна в душевном ненастье. Может, сдохнуть на воле – великое горе. Может, сдохнуть в повозке – великое счастье».
Я не знаю, кто еще так может укротить чувства и одновременно с такой силой выразить их, «рифмой пользуясь глагольной, речью пользуясь народной». Поэт все время намеренно «принижает» стихи, особенно, когда речь идет о гражданственных темах. Это либо иммунитет профессионала от малейшей фальши, пафоса, либо форма протеста времени. Пародирование жанров в стихотворениях, отсылающих к воспоминаниям об оде («Размышления во время выгула собаки», «Размышления во время мытья посуды») – это и пародирование всеобщей праведности на кухне, и всеобщего измельчания за рамками точки своего нахождения. Но я бы сказала, что стихотворения сохраняют странным образом и пафос гневного ораторства жанра политической филиппики, и памфлета, при этом ни один из этих жанров не разрушает другой: кто есть «диверсант» в тылу врага – не отличишь, настолько «безшовны» линии стяжения. А зачем оно надо поэту? А разве не мы об этом говорим везде и всечасно? Единственное преимущество поэта – что он может эстетизировать чувство злости, переплавляя его в грусть и иронию. Единственное, не могу понять: как, живя в Иерусалиме, Е.Минин живет в России, с такой правдивостью выражая наше состояние, наше восприятие времени:
Мы деградируем бездумно, смешны трагедии Шекспира.
Ромео цацкался с Джульеттой, зачем пацан развел базар?
В кровать ее бы с первой строчки, в дом престарелых выслать Лира,
И что там Яго с этим мавром, «мочить» и все! Так это ж – мавр!..
Что интересно, тема обличения варьируется на разные «социальные» лады в рамках одного и того же текста.
…Мир перепуган сам собою, он – и охотник, и – добыча,
Мы мрем от страха в самолетах, в автомашинах и метро.
Нет, не задрипанный Бен Ладен смерть сделал вроде за привычку,
Мы сами породили джина и пьем свой ужас, как ситро…
Процесс политико-философских размышлений о глобальном в процессе мытья посуды как будто бы должен веселить, но почему-то веселья нет. Это какая-то крайняя форма бессилия отдельной личности, и проявлена она даже не в авторском тексте, а в нашей читательской реакции – смешное не вызывает смеха, потому что жизнь настолько спародировала сама себя, что в искусстве оно избыточна. Оно – дань традиции, пусть и еще очень свежей. Поэтому в «Размышлениях во время выгула собаки» самые правдивые и горькие обличения и робкие надежды произносятся на фоне паркового мусора и свалки и обращены трем воронам, чтобы методично быть сурово осмеянными мудрыми птицами. Порождение нашего времени – рефлексия, которой нет смысла обнаружения себя вовне и внутри: настолько сузились горизонты смысла или всеобщей глухоты.
Тема «человек и люди», «человек в современном мире» помимо того, как она раскрывается в лирике автора, звучит подспудно и в зазоре между книгой и читателем: контраст между явленностью духовной, интеллектуальной полноты в лирическом герое и крайней беспомощностью перед лицом происходящего в мире, ощущением катастрофичности. Сознание лирического героя вбирает в себя массу культурных реминисценций, аллюзий. И это не культурные пласты (понятие археологическое), а суть, плоть, дух, реальность сегодняшнего «я» героя. Не рафинированная высоколобость лучшего ребенка в семье, а ирония и «проделки» не желающего обращать на себя внимание иван-царевича в одеянии младшего «дурака». Детство Мефистофеля до его падения. Скепсис и трезвость ясного и сильного ума, укрощаемые неисчерпаемостью любви к миру и человеку.
И завершается раздел стихотворением «Прозерпина», в ритме которого слышны воспоминания о далеком гекзаметре и былинности прошлого. Голос поэта в нем от дружески – доверительного обращения к Прозрепине, возвращающейся каждый год из Аида, чтобы разбудить спящие души людей («Плюнь на нас, Прозерпина, не стоим твоей мы заботы. Что тебе суета и никчемные дрязги людей?..) приобретает исповедальное и утешающее звучание («Я тебя понимаю и где-то, возможно, жалею…»), и в одическом обращении звучит молитвенная сила сострадающего заклинания: «Сколько лет миновало, и что же тебя гонит в спину? Оставайся у нас, чтобы вечною стала Весна, Оставайся у нас, чтобы славил народ Прозерпину, Вечной станет любовь, вечно юными — Он и Она…».
Эта живая интонация в ее психологически точной динамике, в её выверенных и богатых переходах, не дает ни малейшего послабления читательскому вниманию, захваченному голосом. И вдруг слом интонации как некое «отрезвление» с нарастающей горечью обличения: «Впрочем, глупая просьба, и нет идеалов на свете, Сколько слов напридумано – ненависть, зависть и зло! Да о чем говорить, если взрослые люди, как дети, Если дети, как взрослые, с правдой своей наголо». И тут же иная интонация человека оставшегося наедине с собой, со своими трагическими предчувствиями: «Грянет холодом осень. И к нам повернувшись спиной, В царство мертвых твой путь, и с собой ничего не возьмешь. Нам бродить без тебя ошалелой безликой шпаною, И друг в друга стрелять, продавать свои души за грош». Но последние строки парадоксальны: исполняется желание – мольба, Прозерпина возвращается, но лирический герой гонит её от людей во имя ее самой, порыв к надежде, не оставляющей надежды: «Что ж замедлила шаг! Не жалей! Уходи, Прозерпина! А вернись… через тысячу лет… Если будет – к кому..»
Занавес упал. Трагедия завершена. Драматургичность – еще одна особенность лирики Е. Минина, в которой человек, живя в социальном времени, и не подчиняется ему, и смиряется перед ним, и всё больше лишается возможности творить его. И тогда остается одно – подняться над ним.
Обращенность на «ты» как изначальная уравненность в живущести, в бытии, – особенность лирического героя Минина. Поэты традиционно знают иерархию, и хотя она иная, чем в обыденной жизни, высокое отношение к теме или герою произведения определяет тот императив Тамары Габбе, который Е.Минин взял эпиграфом к стихотворению «Пташка»: «Поэт не должен говорить на «ты» Ни с ласточкой, ни с камнем, ни с судьбой». Чтобы оспорить? Простенькое такое стихотворение про пташку на ветке, а запало в душу. И истончающейся нотой птичьей боли, и потрясающими строками в конце: «… И кто я такой, чтобы слушать Печальные тайные её».
Поэзия – это те же отношения с Богом.
В названии раздела «Если Бог меня оставит» предельно ёмко отражены и тема, и герои авторских размышлений: Бог и человек. Бог – он очень разный, все зависит от того, какими глазами ты смотришь на него и на свою собственную жизнь: если он Отец, о котором заботится человеческий сын, оберегая Его от своей обиды («Если Бог тебя оставит), то ты верный и любящий сын; если он Великий Никто, ослепший от творимого на земле, онемевший, отчаявшийся в людях, то ты – разделяющее его боль и сострадающее человечество, пытающееся отчаянно верить в него как свой последний шанс; если Он – Печальный Стрелочник, вынужденный принимать остановку Сердца на конечной станции, то ты – беспечный и мудрый Пассажир, готовый к выходу без напоминания, а если Бог – Учитель, с пытливой и ехидной усмешкой взирающий, на что способен человек, то ты – совестливый и недовольный собой ученик, ощущающий за спиной все время его испытующий взгляд… Бесконечное множество ипостасей… Но вопрос о том, кто есть Бог, имеет свое отражение: кто есть человек. И сколь мал бы он ни был, у него есть счастливая возможность стать больше, чем есть. И, даже оставленный Богом, он может возвыситься до заботы о Нём: «Но когда душа сумеет удержаться в равновесьи И не даст обиде горькой всё, что было, сжечь огнем, Может, станет Богу легче там, в далёком поднебесье, что не Он теперь в заботе обо мне, а я – о Нём». Наверное, самоирония не столько бережет от бездны, сколько говорит о ней.
Вообще надо отметить, что эта стихия юмора и иронии не может скрыть, а порой подчеркивает скрытый драматизм лирики Е.Минина. Интонационное богатство в рамках одного стихотворения интересно не самим фактом своего существования, а абсолютным слухом к малейшей фальши, позволяющим органично соединить и иронический смех, и аввакумовскую страсть, как, например, в стихотворении «Неси свой крест, неси». В нем уже и тема прощения бога человеком приобретает иное звучание: с каждой строкой голос словно освобождается от иронии («Неси свой крест, неси, клянясь и спотыкаясь, Стирая пот со лба, терпя насмешек гул. Ведь именно тебя принес на землю аист, А мог бы заболеть и выпросить отгул…») и к финалу звучит как отцовский императив: «Неси свой крест, неси, упорнее ставь ногу. На Бога не гневись, не сетуй, а прости И то, что не тяжел твой крест, поверь, ей Богу, И то, что силы дал нести его, нести!» Не повторяет ли человек судьбу пророка, прозревает ли он в своей малости и немощи возможную и данную ему свыше силу, соизмеряет ли он милость Божию («на Бога не гневись, прости…что не тяжел твой крест») со своими притязаниями?
Очень цельный этот раздел – «Если Бог меня оставит», стихи, написанные перед лицом бездны («наступает время – пропАсть…») Не прямой диалог с богом, не попытка размышлений о нём, а стремление через разноголосицу суждений прорваться к истине, в понимании, что отчаянная вера на границе безверия в мире, не укоренненном в самом себе, – это шанс на выживание. Ощущение будничной катастрофичности жизни и страх мыслящего тростника оказаться неравным ей заставляют и бросать иронический вызов миру («Жизнь как петарда»), и обращаться с молитвенными строками к жизни, говоря о самой глубокой боли как бы между прочим («отпусти меня, жизнь, на свободу – от страха»), и сохранять мужество перед неизбежностью. Безусловно, это позиция стоика. «Не верь, когда твердят, что дальше будет легче, К нам беспощадна жизнь, а после – только тлен. Удар слепой судьбы лишь слабого калечит, А сильный – тот всегда поднимется с колен. Когда же вдруг нужда в дверь постучит клюкою, То незачем роптать, когда попался в сеть. Но слабый – тот пойдет с протянутой рукою, А сильный – тот найдет причину умереть». Все трагичней звучит тема времени и судьбы, все афористичней: «Жизнь как любимое пальто расходится по шву…». Никаких иллюзий. Лирическая стихия как об утёс разбивается о неотвратимость ухода, до дрожи ясновидения прочувствованной и увиденной в стихотворении «Кровь застынет в разорванной вене…», чтобы уйдя от небесной опеки, прошептать немеющими губами: «Боже, я у твоих ворот, постучать не решаюсь, Боже…»
Да, никто из смертных не свободен ни от физического, ни от метафизического страха перед смертью, да, порыв ветра может сломать хрупкий тростник, но даже если вся вселенная обрушится на него – она не сможет отнять у него право мыслить и бесстрашие духовной бесконечности, уравновешивающей бездну.
Это иное понимание роли поэта, чем традиционно заданный в 19 веке образ поэта-пророка, здесь не поэт, а весь иной «тварный» мир поднимается на недосягаемую высоту. Эта степень отношения на «вы», согласитесь, особая. И как просто и с какой пронзительностью выражена мысль. Раздумья о поэте и поэзии вошли в отдельный раздел «Поэт – брат мой». И это не только ссылка на кредо известного сибирского поэта Юрия Беликова, адресата стихотворения, который идет по следу забытых своей страной больших самобытных поэтов, чтобы вернуть стране их имена, открыть. Это и кредо самого Е.Минина: « все богатство его – скалы суровые на Чусовой. Ищет братьев – поэтов пропавших, поводырь ему – только стих. Ему до фени – еврей ты, татарин или бурят. И одно повторяет он в мире зависти и жестокости: Поэт – брат мне, поэт – брат мой, поэт мне – брат…»
Ясно, что это стихи, рожденные не столько темой как таковой, а саморефлексией, раздумьями о своей судьбе, о роли поэта в современном мире. Портрет, создаваемый контрастными взаимоотрицаниями и взаимоутверждениями («Поэт», «Творить стихи», «Не кормите поэта с ладони», «Тщеславие»), тяжелыми раздумьями, бессонницей, тщетой и откровениями. Эта тема развивается как диалог с читателями («не требуй от него геройства и отваги»), чтобы сказать то, что до него говорилось мало кем или никем: «Он плачет по себе, и плач летит во тьму». Уязвимость и обреченность на расплату за исповедальность строк – это плата за дар. Но из простых слов уметь сотворить поэзию, окликаясь на зов чистого листа, рождая музыку созвучий – и блажь, не соизмеряемая земными ценностями, и великое благо. И преодолевая сомнения в себе и иронию над «блажью», звучит поэзия как единственный способ прорваться сквозь время. Так и живет поэт по курсу звезд, чтобы умереть от жажды над рекой, что зовется жизнью.
Да, тысячи звездных голосов до сих по звенят над вселенной, и мы чутко прислушиваемся к ним, различаем по множестве дарованных нам богатств их особенный звон, и что может быть лучше для Бога, чем слышать этот божественный хор поэтических голосов, где нет больших и малых, если они рождены биением сердца, и чувствовать, что не зря им создан этот удивительный мир. И если ты, стоя со склоненной головой перед великими, заглушил в себе Его дар, оправдания молчанию быть не может: «Поэтом меньше – это ли беда! Поэтом меньше – это ли потеря! Но ни одна из тысяч бухгалтерий Урон не посчитает никогда». Удержать голос – как не выпустить птицу в небо. Не писать стихи – как не сказать «люблю». И писать стихи – это вырваться из времени, не чувствуя того рокового выстрела, за которым тьма поглощает его. И перед величием данного дара как нелепы и смешны игры над словом («стёб поэтический гордо веет над нами»).
Политкорректность стала требованием времени. И это правильно, поскольку в век информационных технологий даже частное слово становится публичным и может иметь непредсказуемые последствия. Но, с другой стороны, это не столько признак роста агрессии в обществе, сколько признак отступления здравого смысла перед страхом не соответствовать чьим-то ожиданиям, а точнее – ожиданиям самых нетерпимых. Как следствие, страх назвать вещи своими именами приводит к отступлению от защиты нравственных ценностей, к их ослаблению.
Религиозные и национальные конфликты в современном мире – не поэтическая тема, и не каждый поэт рискнет взяться за нее. Увы, политическая риторика не влияет на массовое сознание людей, поэтому в этой сфере всегда есть элемент темного бессознательного, который непредсказуемо может сработать при малейшей провокации. Но массовое сознание меняется через индивидуальное, и путь этот долгий. То, что мы рискуем не увидеть при своей жизни добрые плоды своих дел и желаний, не означает бессмысленности усилий. Главное, сделать на этом пути свой шаг.
Можно ли жить в Иерусалиме, жить на священной земле, и не коснуться проблемы арабо-израильского конфликта? Это как вступить на минное поле: все равно перед кем-то окажешься виноват. Но как оставаться мирным человеком там, где от тебя требуют быть воином? Как быть воином, если ты против войны? Как быть против войны, если тебя могут убить в любое время, в любом месте? Как быть благородным воином, если тебя и твоих детей могут убить руками и жизнью ребенка? Как спасти этого же ребенка, если он – твоя смерть? Как защищать святое, если убивают именем святого? Как развести политику и религию, если их смертный симбиоз запущен не тобой и от тебя не зависит? Вливаясь в судьбу своего народа, каждый уже несет исторический груз его испытаний и долга. Как при этом не стать отщепенцем или заложником коллективных догм? Как выйти за рамки барьеров, по которые разведены те или иные люди и которые мы сами так или иначе поддерживаем, боясь своего личного, индивидуального поступка? Каждый вопрос рождает множество других вопросов, ответы найти трудно, а людям хочется найти простые ответы на сложные вопросы, для этого нередко сложные вопросы прессуются в один простой, как будто это помогает решить проблему. Это помогает подставить простой ответ и создать видимость решения проблемы. И так по новому кругу… Жизнь – как танец на углях. Так и называется один из разделов книги Евгения Минина.
Я живу в городе, где так же непредсказуема атака террористов. Не евреи и арабы, так «чистые» и «нечистые» мусульмане. Имя тех, кому нужно держать людей в состоянии войны — единицы. Имя тех, кто становится их орудием, тысячи. Имя тех, кто не приемлет кровь и насилие — миллионы. Кто победит? Читая Минина, окунаюсь в жизнь израильского города, и по-особому чувствую смысл простых желаний: «Нам нужна такая малость, Чтобы жить не на авось, Чтобы где-то не взорвалось, Не случилось, не стряслось» («Выходной»). Что происходит с человеком там, где у войны и смерти мирное обличье? Исчезает доверие к жизни. («Смотрю на входящих в автобуса дверь, И чудится в каждом шахид». («Варяг») И независимо от того, как обернётся случай, ясно одно: вера в единого Бога, в его Божию ладонь над всеми не прибавляет нам чувства защищенности («Почему?!»). Более того, противоестественность вражды народов не только разрушает братство отдельных людей, но и заставляет усомниться лучших из них в правоте естественного человеческого порыва: «Я дружу с Махмудом, что тут хвастать, мне твердят- опасно и не надо с ним дружить. И видимся не часто, потому что снова – интифада. А когда обнявшись, поскорее Мы по сторонам глазеем, дабы: Я – чтоб не увидели евреи, Он – чтоб не заметили арабы («Дружу с Махмудом»)
Одно из сильнейших стихотворений этого раздела — «Интифада». Камень ребенка, летящий в очки поэта… Смешно? Нелепо? Страшно, потому что уже и камень — ничто, если сам ребенок становится живым оружием. Когда происходит нечто, противоестественное человеческому разуму, кажется, что нет большей степени варварства. Но, видимо, и на пути зла нет предела «совершенству». Что страшнее: ребенок, не знающий, что он кем-то обречён стать живой бомбой, или ребенок, убежденно принимающий эту роль? Простите меня, но есть вопросы, перед лицом которых вопросы о поэзии уходят в сторону. И остается, примеряя на себя самые дикие конфигурации возможных ситуаций в жизни, спрашивать себя, насколько ты готов быть чистым перед поэзией и насколько она возможна, по крайней мере, в том виде, какой она есть: «Буду смотреть я на все в полусне, страшный пейзаж сумасшедшего века, это не просто убить человека, пусть даже трижды опасен он мне. Как возвратиться к стихам на столе, пусть невиновен, никем не допрошен…»
Вряд ли случайно, что следующий раздел книги – совсем другой. Как ни странно, о любви – «Обними меня покрепче». Казалось бы, логичней его дать ближе к началу книги, а не к концу, тем более после раздела «Танец на углях». Но с другой стороны, есть в этом смысл: чем бы ни была чревата современная жизнь, она все-таки есть. Жизнь – не просто как удивительный дар на время (пусть у каждого – свое), но и возможность ответить ей творением красоты, ликованием человеческого духа, его полетом над огнем: «Взлетаем, словно птицы, а угли жгутся – жуть! И некому водицы нам под ноги плеснуть». И к тому же, что может быть большим спасением перед лицом отчуждающегося мира, как не любовь? («Обними меня покрепче может завтра не наступит…») Любовь человека, с которым прожита жизнь, – жены. Сквозь обыденное и повседневное звучит у поэта высокая нота любви, приглушенная все той же авторской самоиронией: «Этой музыке тысяча лет, Бесконечной, волшебной и зыбкой. Мы играем все тот же дуэт, Ты, конечно же, первая скрипка! Не у рампы, где плещут огни, И не в платье, слепящем атласом, А в квартире, где вечно в тени, Я все время ворчу контрабасом» («Дуэт»).
Повороты темы разнообразны и всегда свои, неповторимые. А разнообразие ритма и интонации лирического голоса поэта то тревожит воспоминаниями о первой скрипке, то отзывается оркестровым многоголосием, то смеется над любовным романсом, над клятвенным задором маршевой атаки, готовой обернуться бегством («Я тебя завоюю. Готов арсенал Для внезапной атаки десанта. Я под вечер сонеты Шекспира читал И горящие строки из Данте. Напоследок присяду и залпом – сто грамм. Так заведено перед атакой. И – вперед! За любовь! За прекраснейших дам! С белым флагом под мышкой. На всякий…»
Читаю Минина. И кажется, иду к финишу. Но не могу еще привыкнуть к одной особенности его лирики. Есть ожидания? Обманет. Обманет Минин! «Крик души» — называется маленькое стихотворение в разделе о любви. Никакого крика – одна завороженность любимым делом: «Я вижу многое теперь, как звук поёт, как дышит слово, где в слове – боль, где в слове – зверь, где слово – просто бестолково. Мне эти тайны не сложны, вникаю с первого прочтенья. И только… Только от жены не вижу ни на грош почтенья». Крик – дело смешное, – прав поэт, умеющий шепотом сказать то, что не каждому и в полный голос удается. А кому есть что сказать, он сумеет и о самом больном скажет так тихо, что не услышать его невозможно, потому что «есть такая степень боли, когда не чувствуешь её».
Вечная любовь – мечта, которой мы не хотим достичь. Не потому ли разрывы с любимыми становятся противостоянием с ними, которое оплакивают наши души – если мы их слышим, и в котором мы не имеем мужества признаться даже себе. Даже если эта «пересадка» в экспрессе любви оказалась счастливой, много ли тех, кто может обратиться к поверженной любви со словами «мой друг»? («Я буду вспоминать тебя, мой друг, Когда мне станет холодно и больно. И может быть, однажды в странном сне Туда, где разошлись мы, все разрушив, Вернемся, чтоб услышать в тишине, Как от разлуки горько плачут души»).
Смотреть из настоящего в будущее – роскошь, доступность которой делает нас не просто беспечными, но и жестокими по отношению к тем, кто рядом. Когда останется единственная возможность во времени — смотреть из будущего в прошлое, наверное, только тогда и можно осознать, что это расплата : «Я стою на ветру перед рыжею рощей. Опадает листва и наотмашь дожди. Я дорогу искал, что полегче и проще. Если мог – отступал, если мог – обходил. Только жизнь протекла, словно вскрытая вена, И удавом у ног роковая черта… У кого-то любовь. У кого-то измена. У меня – пустота, у меня пустота!» Одно из самых пронзительных и беспощадных стихотворений книги «Пустота»: «Оглянусь я назад и от боли завою, Кулаки о валун разобью до крови . Почему, пролетев над моей головою – Не коснулась мизинцем проказа любви? Жизнь прошла…Час последний когда бы ни пробил, Даже Там ожидает меня маета – У кого обелиск, у кого-то надгробье. У меня – пустота. У меня – пустота…»
Но это редко дозволенное себе поэтом право говорить о боли: «В чужую радость, словно в море – не страшно броситься, ничуть, но как войти в чужое горе, чтобы выплыть, а не утонуть». Поэтому – милости просим в следующий раздел «Восточная кухня», «чтоб после во рту жгло, пекло и горело Так, чтоб ощущали свои вы истоки, Чтоб знали, как жарко на Ближнем Востоке, Чтоб долго сидели с бутылкой навскидку. Я вас приглашаю. Нам сделают скидку!» И будем мы слушать искрометные «Знаки альтерации», где с блестящим юмором жизнь расписана, как по нотам, петь фантастический «Блюз в ритме гриппа», завидовать «Распорядку» поэта, дежурный уход за которым обеспечат попеременно Клеопатра, Беатриче и Шахерезада («а в полночь жена возвратится, И дабы меня не будить, прочитает тетрадь, И выдохнет грустно: весь день были бабы, Могла хоть одна и квартиру убрать!»). Много чем хочется поделиться, рассказывая о книге Евгения Минина «Погоня за ветром», читая которую приобщаешься не только к искусству лирического слова, обаянию острого ума, но и к удивительной душевной щедрости: «Конечно, остроумие – талант, Которым нужно пользоваться гибко, Не уколоть, как шпагой дуэлянт, А просто осветить лицо улыбкой. Мы всех не помним, павших от острот, Молчит порой история немая… А все же по таланту выше тот, Кто хохотать умеет, понимая…»
Нет, конечно, мы не будем пользоваться благородством поэта и присваивать талант себе, хотя разделяем его высокую оценку читательского дара. Но хочу напомнить слова Бродского, который писал о двух типах людей и соответственно двух типах писателей. Одни воспроизводят реальность во всех ее деталях, и закрыв их книги, чувствуешь себя как в кинотеатре после окончания фильма. Другие воспроизводят жизнь как лабораторию для испытания человеческих качеств. И закрыть их книгу – все равно что проснуться с изменившимся лицом. Хорошо сказал. Так же хорошо, как Евгений Минин о художнике: «Так рисовал Эжен Делакруа. Нет волшебства, нет чуда никакого, Искусство начинается с простого – Элементарна линия крыла».
О пародиях Евгения Минина. «И как ордена – синяки».
В читательском сознании совпадение пародиста и поэта не очень-то привычное явление. Пародист чаще всего – человек, сам не занимающийся сочинением стихов, и кажется, что в этом заключена какая-то особая степень его свободы. В том числе и от критики. Но лирик и пародист в одном лице – это очень смело: охота за такой мишенью должна вестись нешуточная. Особенно учитывая количество и имена «пострадавших». Но почему-то пародии Евгения Минина, и самые беспощадные, идут на «ура» даже у авторов, попавших под его «обстрел». Может, потому, что он пародирует не только современных авторов, но давно уже покусился и на классиков серебряного века? А быть в такой компании, даже под градом стрел, не зазорно. Думаю, что причина в другом. Как сказал замечательный поэт Ян Бруштейн, «хорошая пародия – как орден. Или хотя бы как медалька». Ну а Евгений – уже классик в этом жанре. Безупречное чувство языка позволяет автору, как отмечают критики, видеть малейшие неточности и двусмысленности в чужих текстах. Но не в этом секрет всеобщности признания пародий поэта.
Увидеть – это одно. Но показать увиденное можно по-разному. Минин владеет всеми средствами пародийного искусства, но использует их таким образом, что пародия оказывается в итоге не его словом со стороны, а саморазоблачением избранного автора. Превращение (или исчезновение пародиста) достигается за счет использования приемов самого автора, его мысли, его стилистики, с точностью до слова, и их критическая масса так искусно и незаметно нарастает, что превращение удается осознать, как при внезапной вспышке света, в последний момент. Именно в момент завершения стихотворения происходит тот поворот (переворот) мысли, который наполняет все прозвучавшие слова абсолютно другим смыслом. И Евгений Минин умеет его находить с такой непредсказуемой и снайперской точностью, что на опережение с ним не сыграешь. Кульминация оказывается развязкой, – это адреналин, я вам скажу. И мы рукоплещем не столько мастерству пародиста, сколько его поэтическому искусству – дару равного или даже превосходящего
Критики правы, отмечая, что пародии Евгения Минина стали явлением в современной поэтической литературе (Светлана Осеева). Но я как счастливый обладатель книги «Погоня за ветром», вышедшей в Иерусалиме в прошлом году, уверенно говорю: Евгений Минин как поэт – явление в современной русской литературе. Поэт подлинный, самобытный, глубокий. Именно эта поэтическая высота обусловила если не всеобщность признания его пародии, то ее силу уж точно.Но мне все-таки хочется подробнее о всеобщности любви. Я по этому поводу требую отчета у своей горской ментальности: где моя пресловутая «мстительность» как у «пострадавшей» от пародии Минина? И почему вместо обиды я испытывала ликование, попав к нему на «прицел»? Как человек близорукий, не просто нажимаю на «стоп-кадр» при чтении пародий, но и пристально вглядываюсь, чтобы своей многословной медлительной мыслью выразить то, что мгновенно дано на уровне эмоций. И все-таки нахожу для себя ответ. У Минина пародируемый, как сказали бы умные люди, амбивалентен. Он и осмеиваемый, но он же и герой. Сам себя разоблачая, он поступает как истинный самурай: делает себе харакири. И личное мужество налицо, и опять же срабатывает наше ментальное сочувствие «поверженным», тем более когда у нас за плечами груз народной мудрости, подчеркивающей ореол публичной «порки»: «На миру и смерть красна». Так мы тайно рукоплещем герою пародии, тем самым воскрешая его, возвращая ему жизнь.
А автор? А он так незаметно ушел в сторону, что мы и забыли, кто здесь настоящий герой. Пародия у Минина – меньше всего традиционный предмет пересечения взглядов осмеиваемого и смеющегося. Незаметно «исчезая», оставляя нас один на один с объектом пародии и тем самым «раз-облачая» его, Минин демонстрирует искусство как лазером улавливать особенность оптики того или иного автора. И мы не может не отдать должное благородству пародиста, потому что этически это самый безупречный способ сказать правду, сказать ее в абсолютно честном поединке. Раз поэт отправляет свои творения в публичную жизнь, он должен быть готов к ответственности за свое слово, если обладает мерой уважения к читателю. В этом смысле Евгений Минин – идеальный читатель, не всеядно аплодирующий, а представляющий автору зеркало, в котором можно максимально ясно увидеть свое отражение. Но это «зеркало» столь искусно, что несомненное явление Поэта тоже покоряет нас, как не может не покорить и благородство: последний убийственный удар он отказывается наносить и уходит со сцены, предоставляя право это сделать самому герою пародии. Я не знаю, это красота поэзии или спорта, но за явление красоты, эстетически и этически выверенной, я не могу не рукоплескать. Идеальному Читателю, Мастеру, а значит – авторитетному Судье.
Не будь я учителем литературы (уж простите мне привычку «разбираться» с текстом), мне было бы легче говорить о пародиях Евгения с точки зрения спортивного комментатора. Ясно же, что перед нами мастер нокаутов, выигрывающий на любой дистанции. И боксер-панчер, и аутфайдер, выигрывающий не по баллам. Не больше одного раунда. Уж очень хорошо поставленный удар. И не только потому, что «боец» вкладывает всю силу мощи, а потому что изначально правильно поставленный удар. Очень опасный и приносящий неожиданную победу. Классический ли это апперкот, снизу верх, боковой, высокий, ближний ли это бой или дальний, он всегда победный, потому что ему предшествуют единственно возможные и правильные движения. Ведь в боксе нет ударов более или менее важных, каждый может привести к победе, если за ними стоит правильный расчет. Тот самый, о котором поэт пишет в стихотворении «Товарняк», рассказывая о опасных забавах детства: «Игра пацанов – догнать товарняк, Подножку поймать в вираже ногою, а если сорвешься – верняк, домой не вернешься уже. А я был удачлив, и ловок, и смел, И с уличной нашей шпаной я прыгал – и поезд на стыках гремел, и лес танцевал за спиной. И ветер, как песня, крутился в ушах, И как ордена – синяки, А все потому , что был выверен шаг И точен толчок ноги».
У меня тоже есть свой «синяк» от Евгения Минина. Пока я этот синяк не получила, не осознавала свою сдвинутую оптику. Не зря пародию Евгений назвал «НАИЗНАНОЧНОЕ»
Вереница белых звуков в рог охотничий трубит,
Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица спит.
Мариян Шейхова
Иногда в стихах бывает всё не так – наоборот.
Снег пушистый и холодный в небо белое идёт,
Строчки с ямбом и хореем водят твёрдою рукой,
Вроде мир кругом обычный, но какой-то не такой.
Горы в турах, поле в лисах, в птице крепко спит ладонь,
Тополя шевелят ветер, на джигите скачет конь.
Сочиненье наизнанку завершаю – вышел срок,
Звук пародии колючей мне трубит в бараний рог.
Сначала я радовалась этому «ордену», остроумная пародия была мне интересней своих строк, которым я мало придавала значения. Но со временем заметила, что этот «орден» очень отравляет мне часы вдохновения. Напишу несколько строк – и вдруг замечаю свое «наизнаночное» отражение жизни. Теперь больше думаю, когда пишу. Чтобы в бараний рог некоторые пародисты не свернули.
Справедливости ради надо отметить, что блистательная язвительность в пародиях Е.Минина не уязвляет, потому что это не пересмешничество или стилизация, а явление языка, поэзии. Такова искрометность пародии «Полезные советы», в которой Евгений, отталкиваясь от строк Ники Батхена и «влезая в шкуру» своего «зверя», виртуозно выворачивает ее, используя богатство языка. Так же блистательно разворачивается языковая игра метафор в пародии «Ботаническое» на строки Н.Гумилева. Я говорила о том, чем рождается эффект победителя и в чем его «лелеющая душу гуманность» при всей жесткости «удара». Что касается эффекта комического, он рождается множеством разных приемов. Не касаясь всех подробно, отмечу обыгрывание поэтических промахов или поэтических «изюминок» выбранных авторов, их поэтических вольностей («Сдвинутое» – на строки А.Белого «Говорят, что «я» и «ты» – Мы телами столкнуты»). Такая акцентуация «сдвигов» у избранных авторов – это не утрирование ради игры как таковой, а спрос с Юпитера: был ли смысл дозволять ему то, что не дозволено быку? Другой прием – вписывание пародийной ситуации в ритмику и тональность известных стихов. Так, в пародии на стихотворение К.Бальмонта «Я мечтою ловил уходящие тени» в классические строки вкладывается иное содержание, «осмеивающее» пафос самооценки и возвращающее ей простоту обыденного измерения. Это больше «очеловечивает» поэта и тем самым приближает к читателю. Известно, что пародия должна быть краткой, чтобы эффектней «выстрелить». Это безусловно для Евгения Минина. Но когда речь идет о мастере, теряют всеобщность все правила. Страничная пародия «Темпераментное» на два предложения Дмитрия Быкова – убедительное тому подтверждение
Друзья мои, знаете ли вы, что хотела я написать небольшую рецензию на книгу Евгения Минина «Погоня за ветром»? А написала уже 10 страниц мелким почерком только про один из семи разделов книги – эти мысли о пародиях не в счет. Что делать? Либо перестать читать Минина, либо перестать писать о нем. Пока перспектив никаких.
Миясат Муслимова