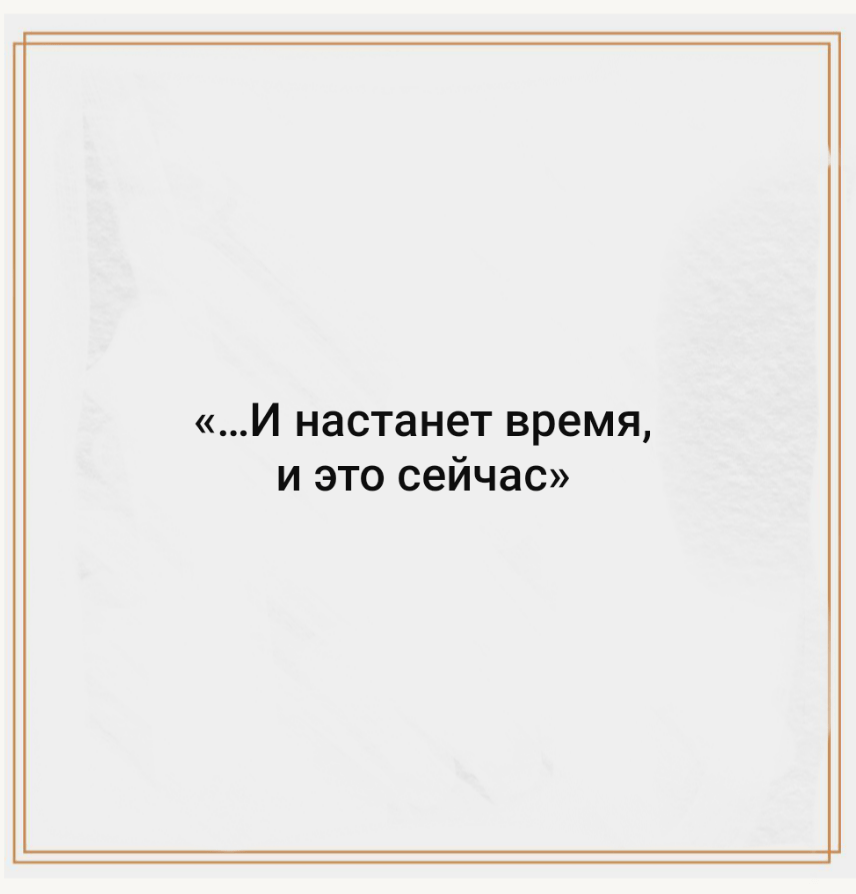«…И настанет время, и это сейчас»
«…И настанет время, и это сейчас»
7 сентября 2004 года 150 тысяч жителей Рима вышли ночью, чтобы пройти с горящими свечами в знак солидарности с пострадавшими от трагедии в Беслане. Люди всех возрастов, православные, мусульмане и католики, в полном молчании прошли по центральным улицам — от Капитолийского холма до Колизея. Молчание красноречивее любых слов говорило о том, что чувствуют люди. На одном из транспарантов была надпись: «Они не убьют наше будущее». Это невозможно забыть. Нет ничего выше единения людей в час скорби и больших испытаний. И сегодня, когда мы все оказались перед угрозой пандемии, мы объединяемся в нашей человечности, мы сострадаем и людям, и странам, и понимаем, что есть одна единственно возможная политика — политика добра и взаимопомощи. Когда Россия пришла на помощь Италии, трудно было сдержать и слезы, и волнение, и гордость за страну, мы не могли иначе, и воля народа совпала здесь с волей страны. Италия больше чем страна, это воплощение величия человеческого гения и духа, колыбель мировой культуры. Можно ли было оставить ее один на один с бедой?
Так получилось, что на фоне всех этих событий я вновь раскрыла книгу стихотворений «Тоскана на Нерли», которую мне семь лет назад подарил автор, Ян Бруштейн. Его поэзия давно пробилась к читателю, хотя в силу своей личной скромности и многосторонности талантов (кандидат искусствоведения, журналист, создатель первого медиа-холдинга и т.д.) он не ставил себе такую цель. В 17 лет поступил на отделение классической филологии филфака МГУ. Это был уже излёт оттепели, и юный поэт попал под разгром СМОГа. Выгнали во втором семестре и вскоре, уже из Пятигорска, отправили в армию Судьба сводила его еще в юности со многими выдающимися людьми: Э.Неизвестным, Б.Окуджавой, Е.Евтушенко… Начал ярко, был обвинен в формализме газетой «Правда», после статьи в «Правде» поэта разгромили в местной писательской организации, первую книгу рассыпали в Верхне-Волжском издательстве. Вот после этого Ян замолчал почти на четверть века. А вернулась Муза по-царски: пошли сборники стихотворений один за другим: «Карта туманных мест» ( 2006), «Красные деревья» (2009), «Планета Снегирь» (2011), «Тоскана на Нерли» (2011), «Город дорог» (2012), «Керосиновое солнце» (2015), «Плацкартная книга» (2017). И какие стихи!- словно сразу уже вписанные скрижалями в летопись современной поэзии. Национальная премия «Поэт года», публикации в лучших литературных журналах страны, литературные премии, награды. С одной стороны, это поэт, который не нуждается в представлении, с другой стороны, поэт, о котором мало сказано, кроме блестящих предисловий Даниила Чконии и Владимира Алейникова.
Ян Бруштейн относится к тем поэтам, о стихах которых сложно говорить, потому что никакое слово о них не скажет лучше, чем говорит сам поэт, а все эпитеты обнаруживают свою беспомощность, кажутся банальными, потому что не объясняют индивидуальность поэтики автора. Впрочем, можно ли объяснить поэзию? Можно акцентировать какие-то грани поэтического мира, передать свое восприятие, но не больше. Тем более, когда речь идет о поэте такого широкого диапазона.
Ян Бруштейн родился в Ленинграде, вырос в Пятигорске, живет в Иваново, никогда не был во Флоренции, но написал стихи о своих духовных странствиях по ней, а точнее, о себе и о России, а значит, и о ее глубинных связях с Италией. Так, архитектура древних российских соборов и царственный облик двух столиц, росписи Кремлевских храмов основаны на флорентийском зодчестве. Не зря эту книгу издало Флорентийское общество, учрежденное в Москве в 2001 году, чтобы «способствовать возрождению идей и ценностей Возрождения в России». Умеют строки поэтов получать пророческое звучание. Начало меркнущих времен- так определено в книге наше время. Мы не можем знать точный ответ, как будет разворачиваться дальше эпоха, но есть особые имена, некие сакральные названия, в которые мы вкладываем представление о ценностях и их символах:
Флоренция словно спасательный круг
В летальной борьбе между болью и светом,
А кто победит… я узнаю об этом
В той жизни, где снова мы вступим в игру.
Тоскана, Флоренция, Венеция, Рим… Италия — один из кастальских источников мировой поэзии, это пронзительная связь с русской тоской по высокому и прекрасному, по искусству, в котором неразделимы эстетика возвышенного и этика гуманизма, с тоской по мировой культуре, говоря словами О. Мандельштама. Петр Баренбойм, президент Флорентийского общества, в послесловии к книге «Тоскана на Нерли» уточняет, что тоска по Тоскане- это мечта о ней, и напоминает слова Бердяева: «Русская тоска по Италии- творческая тоска, тоска по вольной избыточности сил, по солнечной радости, по самоценной красоте. И Италия должна стать вечным элементом русской души».
Книга открывается циклом «Моя Тоска на…», состоящем из восьми стихотворений, и первое из них – «На Нерли». В самом названии реки словно отражается Русь, всплывают ключевые для истории России слова: Клязьма, князь Андрей Боголюбский, храм Покрова Богородицы на Нерли… И сразу захватывает панорамное, широкое дыхание стихотворения, где удивительно сочетаются державная стройность ритма и лиризм, где чеканность согласных становится осязаемой и в то же время так смягчается звучностью и объемностью гласных, что понимаешь: эти стихи невозможно читать про себя, они требуют воплощения, чтения вслух. Кто слышал, как читает стихи Ян, добавил бы: стихи требуют воссоединения с поэтом. И ты сам начинаешь читать вслух, уступая живой силе языка, отпускаешь звуки на волю и оказываешься в их ошеломительной и гулкой высоте. Фонетику Яков Гордин называет языковым эквивалентом осязания, и это точнее определяет смысл звукописи у больших поэтов. Можно бесконечно сгущать согласные и удивлять аллитерацией или погремушками звуков, демонстрируя виртуозность техники стихотворчества, но этим можно удивить разве что начинающих авторов или бескрылых технарей в поэзии. Мы удивляемся приему там, где у автора не хватило сил для внятного поэтического высказывания. Ян Бруштейн – поэт мысли, поэт-зодчий, и в его стихах звуки –это такой естественный строительный и воздухоносный материал, что ищешь разгадку магии его стихов во всём, и только потом осознаешь, что поэзия — в порах каждой клетки и каждого звука. Всякое их фонетическое обеднение при чтении — это и потеря в семантике слова. Да и обеднить не сможешь: духовное обладает такой силой, что меняет и структурирует материю. Звуки выстраивают время и пространство. Их античная стройность выпрямляет позвоночник, стихи переформатируют твой дыхательный аппарат, дают широкое дыхание и с ним высоту помыслов и чувств.
Автор не стремится поразить яркостью метафор, броскостью сравнений, особым синтаксисом, хотя таких жемчужин в его поэтике предостаточно. Читаешь: все просто, внятно, ясно. Да, воздействует потрясающая правдивость его строк, после которых перехватывает дыхание и невозможно говорить, таковы циклы о родословной, блокадном Ленинграде, одни из лучших стихотворений в современной поэзии. Но к этой правде добавляется и другая, неуловимая, но явственно ощущаемая каждым. Давайте проследим, как и чем рождается этот особый эффект реалистичной магии строк поэта. «На покрытой заплатами старой байдарке Мимо сосен, создавших готический строй, Мы текли сквозь туман, ненасытный и жаркий, Там, где заняты рыбы вечерней игрой», — так начинается стихотворение «На Нерли». Мерная неторопливость строк, в которых осязаемость и рельефность (готический строй сосен) сочетаются с воздушностью и его сгущением, где невидимое (туман) обретает плоть (ненасытную и жаркую) – так возникает эффект сотворения мира здесь и сейчас. Это одна из особенностей поэтики Яна: сочетание монументальности и движимости, осязаемости и текучести, и вот ты уже вовлечен в этой действо, ибо, когда нечто творится на глазах, то творится и вместе с тобой, ты уже не сторонний наблюдатель чуда. Другая особенность создания образа – это сочетание его конкретности и символичности, откуда особая их пластичность. При этом вещность, материальность не теряется, не растворяется, а наоборот, одухотворяется, наполняется внутренней энергией, еще более упрочивающей материальное его духовной оправданностью или сущностью.
Читаем дальше: «В среднерусской воде растворялись посменно Все мои города, все мои времена, Их вмещала, не требуя тяжкую цену, Невеликая речка без меры и дна». Обращает на себя внимание гармоничность переходов из пластики вещного в символическое. Два потока: вещный, материальный и духовный, как крепления, держат архитектонику стихотворения, при этом переходы одного в другое, их переключения незаметны — так органичен ход движения мысли с найденной точностью слова, формы, ритма, рифмы. Обычно у авторов такой эффект достигается переходом от логики строфы к логике движения души, у Яна обе эти логики так филигранно и органично взимодвижутся, что не знаешь: за этим стоит тончайший расчет и отделка, либо врожденное чувство гармонии. В любом случае, это делает честь автору. Реальная «невеликая речка» мгновенно и естественно вмещает «все миры», и здесь нет перевода параллельных миров друг в друга, тут точкой опоры одного значения выступает другое, и эта неразделимость, единство структуры дает эффект, который невозможно описать, не впадая в высокую оценочную лексику, чего хочется избежать, ибо секрет остается вне понимания, а чудо поэзии — вот оно.
…Пусть ломало меня и по миру таскало,
Но давно измельчали мои корабли,
Только вижу: опять отразилась Тоскана
В золотой предзакатной неспешной Нерли
Можно отметить динамическую кинематографичность планов, картин в стихотворении, но точнее было бы говорить именно об феномене поэтического зодчества, создаваемого на глазах читателя и как будто бы с ним. Крупный план байдарки, на которой можно разглядеть заплату, -это горизонталь плывущего мира и начало вознесения ( «мы текли сквозь туман»), где лексический контрапункт («текли») соединяет воду и воздух, верх оборачивается низом, и вознесение равно погружению, ибо дом верха – внизу: все растворялось в воде, — «все мои города, все мои времена». Однако это не только растворение, но и текучесть — воздуха, и воды, и неба, так невеликая речка без меры и дна самым зримым образом втягивает и расширяет пространства и временные потоки. Поэт обладает этим редким умением – как писал Пастернак, стянуть к себе любовь пространства. И оно в его стихах не географическая точка в линейной плоскости, приуроченная к определенному линейному времени, а явленная в зримо-чувственно-духовной реальности жизни «под», и «над», и рядом:
Погружу во Флоренцию руки по локоть…
Промелькнула над крышами стайка плотвы…
Мой попутчик наладился якать и окать,
И ругать испугавшую рыбу плоты.
Силой духовного притяжения из недр, усилием протянутой руки из потаенного выплывает Флоренция, мечта о которой была спасительной ноющей болью в проживанье земном со всеми его тяготами. Еще одна особенность лирического героя – присутствие без присутствия, когда при минимуме биографических личностных данных ты всегда ощущаешь материальность героя, его личность, и творится она силой чувств и мысли. Трагические мотивы максимально сдержанны, скрыты, они приглушены, либо о них говорится введением одного –двух слов из разговорной лексики, снимающей возможный пафос драмы. («Давно бы сыграл я в отъезд или в ящик, Но разве сбежишь ты от нашей беды?»). В такой прямоте речи — экспансия вещного мира в стихи, это тоже один из приемов проведения данной темы. Но всегда в стихах звучит тема личного мужества и преодоления («мужеское, отважное отношение к яви», как говорит В.Алейников), хотя она не является темой лирических произведений,- это как неотъемлемая индивидуальность обертонов голоса, интонация, которую не спрячешь.
Написанное в лето 2010 года, когда удушливый дым пожарищ обернулся бедой для многих, оно проникнуто и горечью ностальгии по несбывшемуся (мечта о Флоренции — ноющая боль), и волей обретения, умением жить в ней не как далекой абстракцией, умением силой духовного воображения и жизни души быть в ней всегда, где бы ни оказался. Промельк над крышами стайки плотвы – это увиденное при фокусации взгляда на конкретной детали- движущихся рыбках, но в это же время внутренним взором мы охватываем и Китеж -град, и оживающие в памяти миры сказочной Атлантиды, и пока, как круги по воде, расходятся миры, вызванные к жизни одним словом, ассоциациями, памятью культуры, мы в это же время пребываем в вещной реальности, которая дается почти с прозаической точностью:«мой попутчик наладился якать и окать И ругать испугавшую рыбу плоты». Сводя к минимуму интервалы между ними умением переключить восприятие через точно найденное слово, где перекрещиваются и срабатывают оба значения, относимые к миру реальному и идеальному, автор не дает материи забыть о духовном, а духовному уйти в пустоту абстракции, сохраняя при этом цельность образа, он держит изящно и мощно два потока, и оно живет –чудо.
В мире поэта сиюминутное живет вместе с вечным, и вечное –это не застывший памятник, к которому надо повернуться, поскольку для нас прошлое, настоящее, будущее- линейная последовательность. В стихах вечное проносится сквозь нас, мы живем в нем, как в околоплодных водах матери, и ощущение этой прапамяти пробуждается стихами Яна Бруштейна. Таким образом, ренессансная архитектура стихотворений с их взлетающими фонетическими колоннадами, широкими арками притворов-лексических переключателей тем, сводчатыми перекрытиями движения мысли, создающимися перекрещением внешнего и внутреннего потоков осязаемого и духовного, визуального и незримого, двухслойными фасадами, редкими орнаментальными вставками прорисовывания деталей, четкой системой ритмов, разбивок, легкостью соединений образов — всё производит впечатление цельности, единства, гармонического равновесия всех элементов и пропорций. Подчинение частностей целому создает единый поток движения, целостную картину. И в чеканности звуковых перекличек и ровной силе каждого слова, кирпичика этих построений, где эпичность и лиризм растворены друг в друге, чувствуется традиция романского зодчества, древнеримской скульптуры, положившей начало не только искусству итальянского Возрождения. Все близко к человеку и кратно его масштабам
«Человек –мера всех вещей»- этот принцип по-своему трансформирован и укоренен в поэтике Яна Бруштейна. С этим связана такая особенность построения стихотворений, как наличие в каждой строфе, в каждом произведении центра, и этот центр — «Я» автора. Не как создаваемый образ самого себя, а как явление творца, без которого нет его творения. Та точка в пространстве, которую занимает автор, никогда не равна сама себе и в то же время налицо эффект устойчивости. Это не вненаходимость в бахтинском понимании, а всенаходимость: и вовлеченность в центр этого мира, поскольку у поэта нет ни одного произведения вне мыслей, чувств лирического героя, и абсолютная свобода по отношению к этому миру. И здесь не мир вовне, не греза в нем, а свое внутреннее видение становится центром. Несвобода только от права мыслить и чувствовать по особому строю души – высокому, как могут только герои эпохи Возрождения. Разработанное в эпоху Возрождения как будто бы математическое понятие золотого сечения, явленное и здесь как в произведении искусства, было и эстетическим принципом, а оно включает нравственное как предмет оценки. Великий гуманист этой эпохи Леона Батиста Альберти писал: «Есть нечто большее, слагающееся из сочетания и связи трех вещей (числа, ограничения и размещения), нечто, чем чудесно озаряется весь лик красоты. Это мы называем гармонией, которая, без сомнения, источник всякой прелести и красоты. Ведь назначение и цель гармонии – упорядочить части, вообще говоря, различные по природе, неким совершенным соотношением так, чтобы они одна другой соответствовали, создавая красоту. И не столько во всем теле в целом или в его частях живет гармония, сколько в самой себе и в своей природе, так что я назвал бы ее сопричастницей души и разума. И есть для нее обширнейшее поле, где она может проявиться и расцвести: она охватывает всю жизнь человеческую, пронизывает всю природу вещей. Ибо все, что производит природа, все это соизмеряется законом гармонии. И нет у природы большей заботы, чем та, чтобы произведенное ею было совершенным. Этого никак не достичь без гармонии, ибо без нее распадается высшее согласие частей».
В стихотворении «Мечта о Тоскане» Россия и Флоренция сопоставляются как явь и мечта, соединенные болью. В яви («двенадцать шагов от окна до двери», безнадежно горящие леса, удушливый дым, наша беда) – мечта как обитель души, как спасение от беды – мечта о Флоренции («спасательный круг»), являющаяся в «бесцензурных снах», где воздух чист, где есть воздух для спасительного искусства, где обитают последние поэты, не спящие в ночи, куда еще прилетают усталые музы. Да, тень яви коснулась мечты, ее промежуточность (между болью и светом) опаляет тревогами, ее музы усталые, поэты последние, борьба –летальная. Трагедийность человеческого существования особенно подчеркнута в этом стихотворении, но в последней строфе, где говорится о невстрече в мире реальном как клейме избранных, выпадающих из привычного мира, звучат горечь и преодоление, с которыми, как с открытым забралом, встречает реальность и свою участь лирический герой.
Мечта о Тоскане покрепче вина,
Но кто виноват в этой странной невстрече…
И пью за клеймо я, которым отмечен,
И в кованом кубке- ни края, ни дна.
В поединке смертных с Богами торжествует не только воля тех олимпийцев, о которых писал некогда Тютчев, но и мужание смертных перед роком, которое дает автору право сказать: «Кто ратуя пал, побежденный лишь роком, Тот вырвал из рук их победный венец». Пока стоит мир, он обречен на страдания и поиск, на утешение и свет, на преодоление изначальной трагичности существования человека, смертного человека. В мире Яна Бруштейна борьба –это не борьба добра и зла, потому что для его героя здесь нет проблемы выбора: изначальность пребывания в добре открывает другие испытания. Кажется, у Мераба Мамардашвили есть мысль о том, что расшифровка нашей тоски по мировой культуре предполагает наличие внутренней задачи. Внутренняя задача – это задача памяти вспомнить, восстановить нити, связующие с тем местом, где мы родились. Ощутить существование, вспомнить – это пережить либо некое эмоциональное, душевное потрясение, либо высказать мысль, рожденную переживанием, либо через текучесть и логику мысли обнаружить чувства- при любом варианте их сосуществования связь несомненна. И это и есть жизнь и смысл подлинного стихотворения, без которого все приемы поэтической выразительности теряют смысл и повисают в пустоте бессодержательности. Встреча с прекрасным –это всегда острое переживание времени, конечности, небытия. И вечное «остановись, мгновение» -это, следуя мысли Мераба Мамардашвили, не проявление чувственного переживания жизни, а осознание странной, непонятной обреченности прекрасного.
Преодоление невозможного — этот императив высшего разума Возрождения –неотъемлемость высокой устремленности строя души и мыслей лирического героя. Но и обладание высокой мерой возможного – это бремя, счастье и тяжесть которого не всегда уравновешивают друг друга. Лирический герой – он же человек искусства, он же Атлант, остро ощущающий избыточность своих сил в этом мире, где востребована усредненность, где мера дарованного свыше требует приложения сил, а мера признания другого – укрощения своих притязаний.
Стонут плечи от избытка таланта,
Стонут руки от недюжинной силы,
Небо держат все другие атланты,
Ну а мне – не хватило. («Монолог Атланта»)
И тогда вступает самоирония, призванная снизить остроту выражения личного переживания. («Очень грустно чем-то вроде колонны Быть у всех на дороге. Я красивый и вполне еще юный. Я найду себе небо»). Как тут не вспомнить замечательные слова С.Лурье: «Чувство стиля совпадет с чувством чести».
Художник, ощущающий в себе огромные внутренние силы, не может и не должен стараться быть ниже своего роста. Без дерзости ученика, бросающего вызов Мастеру, нет поиска и пути. В стихотворении «Ученик Пигмалиона» автор пишет о внутренней силе искусства, когда одно прикосновение и дерзновенность неумелого ученика рушат пределы умения. «Я и сумею, и посмею»- вот эта дерзость, и ученик превосходит учителя: «Ее любовью напою, И белый мрамор станет смуглым». Музыка живет во всех произведениях Яна естественно, как система кровообращения, но сотворить произведение для него чаще всего — строение и лепка осязаемого, преодоление сопротивления материала во имя его же освобождения. В стихотворении «Джулиано» выразителен образ Микеланджело, изгоняющего из камня боль. Он создает свои шедевры вопреки реалиям : «Темна Флоренция в апреле, В тумане прячется, дичась, Но слышал он, что камни пели В последний день и в смертный час». Здесь — оглушенность от грозной силы искусства и мощи творцов, в стихотворении «Просодии» — упоение возможностью быть причастным к великим, ловить тончайшие отблески света их искусства: «Я рядом на траве, мой голос тих, Ловлю я свет, дрожащий возле них». Кстати, музыка как раз тот тончайший инструмент, при помощи которого лечится душа, чтобы укрыть боль и превратить в силу молитвенного слова: «Но музыка- тишайшая беда, Нас навсегда залечит, и следа И шрама не оставит, и сомненья, И потому мы перед ней в долгу, И надо оглянуться на бегу, И, может, опуститься на колени…»
Кровная связь с Россией, щемящая любовь к ней безусловны вне зависимости от где-то глухо, мимоходом, где-то жестко выраженной боли за безответность чувства, за историю, в которой было много людских страданий. Поэт не рассматривает то, о чем пишет, с какой –то одной приемлемой для себя стороны. Он говорит жестко, и в его строки вторгаются дух и воля поколения –фронтовиков, тех, что ушли не долюбив, тех, что навсегда стяжали славу поколению советских людей. Поэтому в стихах иногда непривычно для читателя соединяются разные исторические параллели: строки о любви к Флоренции продолжаются строками: «Нас много били и ломали, Но нас задумали из стали Отцы на страшной той войне». Раскосые седоки, кони, набеги, поле Куликово, Полтава и Бородино – это не дань романтике воинской славы славян, это такое проживание судеб тех, чьей кровью полита земля, чьей несбывшейся жизнью она оплачена, что их подвиг и смерть все длятся и длятся, как незаживающая рана, а строки – еще немного, и, кажется, пойдут горлом:
…И бросали клинки, и бросались к земле,
И на гривы коней, одичавших от боя.
И седой головой понимали – такое!
В восемнадцать своих перечеркнутых лет.
И, я знаю, до смерти кричали во сне ,
В горизонт посылая клинки и коней («То ли белым, то ли красным»)
История лишь условно делится на прошлое, настоящее, будущее. Так удобно обыденному сознанию, которому разорванность и ограниченность картинки помогает защититься от громады мира и дает иллюзию защищенности. Но мужество в том, чтобы видеть целостность истории, тогда только и можно осознать ответственность каждого за происходящее. Народ, в сознании которого историческая ткань разорвана, до конца не может стать народом. Свою историю лучше постигаешь в контексте истории других, а иногда находишь утешение в истории чужого, испытываешь острое желание обладать тем, чем можно радостно делиться. И в разное время по-разному. И.Бродский так объяснил связь России и Флоренции: «Ближе всех к Флоренции тот, кто любит… Счастье любви здесь благороднее, страдание прекраснее, разлука сладостнее. … Все, что здесь создано, создано любовью. Флоренция жива и говорит с каждым на языке его родины». А язык родины разный: «У инквизиции дела, И птица-тройка раздала Кому тугой свинец в затылок, Кому- Устьлаг, лесоповал, Где доходяга остывал И где закат взрывался стылый…» («Время средних»).
Стихотворению «Роща Чистилища» предпослан эпиграф из Данте о диком лесе как перифраз современного настоящего, само стихотворение передает концентрацию состояния, когда настоящее непригодно для существования души в мире перевернутых ценностей, где не остается места подлинному, «где ослиное копыто узаконено асфальтом» («Пепел выгоревшей рощи изнутри мне бьёт по ребрам»). При прорывающейся экспрессии («можно плыть одним уродам») это не жалобы ночные- чуждый для автора жанр. Настоящее оказывается началом меркнущих времен, оглядываешься на прошлое, а оно оказывается длящимся настоящим. Хотя и прошла тьма Средневековья, по-прежнему горят Джордано Бруно, Савонарола. Лирический герой обращает свой упрек современности: Венеция, некогда сдавшая Джордано Бруно, теперь, «опустив свои крыла, Теряет яростных и юных», «Флоренция, мечту поправ, Скрутила свой могучий нрав И жалкие играет роли». Это портрет нашей эпохи: «Так и живем среди веков, И выбивает стариков Эпоха ворона и вора». Какое горькое пророчество о стариках… Кто следующий? На тревожные строки «А если завтра не настанет, И снег не стает с наших век?» звучит ответ: «Но Санта-Кроче, как Титаник, Всплывает в двадцать первый век» («Флоренция».)
Санта-Кроче, как известно, одна из самых больших францисканских церквей 13 века и один из лучших образцов готического стиля в Италии. В ней расположено 16 капелл, и каждая — произведение искусства, в стенах этой церкви упокоены самые знаменитые люди Италии: Галилео Галилей, Никколо Макиавелли, Микеланджело Буонарроти, Джоаккино Россини, Эрнико Ферми, Гуильермо Маркони, Михаил Огинский и другие. Искусство выступает как защита и гарант сохранения мира, но история «Титаника» бросает другой отсвет на смысл ответа. Председатель Флорентийского общества в России Петр Баренбойм пишет в послесловии к книге «Тоскана на Нерли», что чувство безверия в гуманизм не может победить, пока существует Флоренция. Но само существование перестает быть аргументом во времена, когда духовные ценности утрачиваются, а смыслы существуют только в плоскости потребления. Что может остановить угасание времени? Неужели только угроза всеобщности смерти?
Тема смерти важна для поэта, потому что смерть дает смысл жизни или ставит перед необходимостью его осознания. Переживание смерти- тема, повторяющаяся не раз в книге, и ее трактовка очень отличается от привычной мрачной или тревожной подачи авторами. Это смерть, легко переживаемая («Как хорошо, я улетаю, Пока, родимые, пока») и оказывающаяся сном в финале, либо смерть как последний дар усталого Пегаса , срывающегося в опрокинутый закат, либо прощание с Арахной, в гекзаметрическом ритме которого объявлено почти священнодействие:: «Я увижу величие духа- Как ты, отпустив якоря, в свой последний полет оборвешься… Лети, умирай на лету, стань покоем, закатом и ветром!» Мотив переживания смерти сродни обряду инициации, и кратность переживания соответствует кратности взросления и восхождения еще на одну ступень роста.
Интересно, что описание смерти нередко дано как наблюдение со стороны за собой. В стихотворении «Когда я по лунной дороге уйду» расставание с жизнью не есть смерть, оно дано в тональности потрясающей свободы, тревожной немного, но радостной:
Когда я по лунной дороге уйду,
Оставлю и боль, и любовь, и тревогу,
По лунной дороге, к незримому Богу
Искать себе место в беспечном саду ,
По лунной, по млечной..
Оборот «когда я уйду» вводит будущее время, однако далее вступает в действие настоящее:
И лёгок мой шаг,
Пустынна душа, этим светом омыта,
По лунной дороге, вовеки открытой,
Легко, беспечально, уже не спеша,
Уже не дыша…
И мой голос затих.
Два пса мне навстречу дорогой остывшей,
И юный – погибший, и старый – поживший,
И белый, и рыжий. Два счастья моих.
В следующей строфе в элегической тональности уходящего возвращается будущее время:
И раны затянутся в сердце моём,
Мы вместе на лунной дороге растаем –
Прерывистым эхом, заливистым лаем.
И всё. Мы за краем. За краем. Втроем.
Тут надо перевести дух. Самое волшебное стихотворение. Как от другого Понтия Пилата. Праведного. Даже не буду пытаться понять то потрясение, которое я всегда испытываю, читая его. Только о логике движения времени: будущее, настоящее в будущем, когда даруются утраченные ценности («два счастья моих», собаки, преданностью которых проверяется сущность человека, его душа), возвращение в будущее (исцеление, «и раны затянутся в сердце моем»), а затем — взгляд вслед себе уходящему: «мы вместе на лунной дороге растаем». Смерть в вечности превращается в жизнь вечную. В художественном мире Яна Бруштейна нет деления на жизнь здесь и там, на одно после другого. Другая жизнь уже вплетена в каждый момент этой жизни. И то время. которое мы ждем, оно уже рядом.
Смерть лишь замедленная разлука, а попытки выжить непрестанны, и каждый, как голиаф, вступает в единоборство со временем, ведет свою сансару. И жажда смысла – жажда полноты жизни: «Без смысла нет причины больше жить». И так же, как Флоренция –мечта давала силы жить, так и творчество возвращает её: «Но рвет бумагу неподвластный свет…» И рубятся швартовые, вырываются из земли вцепившиеся корни, дом, как парус , гудит и готовится отплыть туда, где только Бог, Ветер и Судьба…
Муслимова Миясат