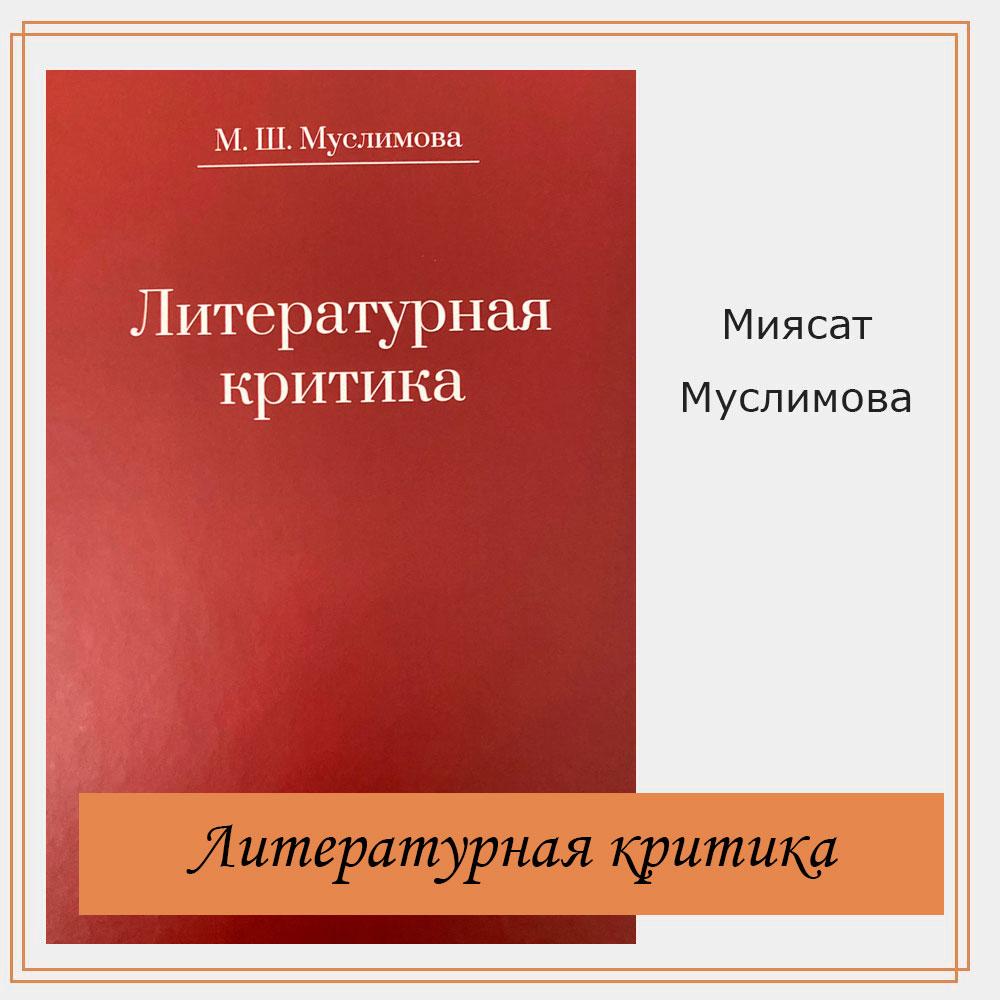-
Жанр: проза
-
Язык: русский
-
Страниц: 198
АРАБЕСКИ
ИНОЙ МИР
Посмотрел в кружку: кипятильник плавает Венецией, пузырьки со спирали выпрыгивают в воду, как водолазы с борта лодки, чай будет сладок и пахуч, красно-карминного цвета. Пришли два молодых человека, глаза красные, рукопожатия обволакивающие: наркоманы, гомосексуалисты, незнакомый мир, просят послать message в другой мир, за океан. За окном на улицах туман, вытянутые силуэты, меж деревьев проходят живые цитаты из Гофмана и Шамиссо — вот иной мир, какого вам еще нужно? Пошлость начинать новеллу с описания природы: XIX век. Соснора иногда начинает с ландшафтов, делает вид, что его это не касается, он не боится пошлости: нобелиат, балтиец, меня многие в мире знают, — знали, все многие уже там, где кущи и несъедаемые плоды.
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ
РЕКА ВРЕМЁН
Проза малых форм
Нальчик
2005 г.
СОДЕРЖАНИЕ
|
АРАБЕСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
|
|
|
СПИСКИ УТРАТ
Январиада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Венок Навкратидский, или апрельские мерцания . . . . . . . . . . . . . . . 49 Флора: майский букет . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ночная стража: июль . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Имперский месяц август . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ноябрь: неполный список утрат . . . . . . . . . 102
|
|
|
ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
Пригородный поезд . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Поверженный кумир . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Разрозненные фрагменты из записок составителя антологий . . . . . . . .142 |
|
|
ОТЧЕТЫ ДВОЙНИКОВ
Математические шишки . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Вспоминая наши даты . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Сон в беззвездную ночь . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Перчатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Прогулка под дождём . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Женщина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Сибирский водопроводчик . . . . . . . . . . . . . .161
Как негр на Арбате . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Двойник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Беседы блаженнейший зной . . . . . . . . . . . . . 181
Город Нальчик . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 191
|
|
АРАБЕСКИ
ИНОЙ МИР
Посмотрел в кружку: кипятильник плавает Венецией, пузырьки со спирали выпрыгивают в воду, как водолазы с борта лодки, чай будет сладок и пахуч, красно-карминного цвета. Пришли два молодых человека, глаза красные, рукопожатия обволакивающие: наркоманы, гомосексуалисты, незнакомый мир, просят послать message в другой мир, за океан. За окном на улицах туман, вытянутые силуэты, меж деревьев проходят живые цитаты из Гофмана и Шамиссо — вот иной мир, какого вам еще нужно? Пошлость начинать новеллу с описания природы: XIX век. Соснора иногда начинает с ландшафтов, делает вид, что его это не касается, он не боится пошлости: нобелиат, балтиец, меня многие в мире знают, — знали, все многие уже там, где кущи и несъедаемые плоды. Здесь — только свои: человеки, а они ничего не знают. Начинают знать тогда, когда им расскажешь или покажешь. Так устроены. На автобусной остановке пожилая женщина спрашивает, в каком направлении можно уехать с этой остановки. Не знает, что у нас правостороннее движение, а ведь не приезжая. Экспонат музея народного творчества. Туда ходят народники и плачут. Антинародники заходят за злобой. А мы в нем просто живем. Еще одна пошлость: завершать написанное эффектной концовкой. С этим можно бороться только одним способом: вовремя ставить точку. Точка. Конец.
ГОД 1999 ОТ Р.Х.
Странный это год, 1999-й от Рождества Христова. С одной стороны — год Пушкина, год русского человека во всем его размахе и мощи, — Гоголь: «Пушкин — это русский человек, каким он будет через двести лет». А с другой стороны — год 100-летия Лаврентия Павловича Берия, демона русского cикофантства и надзора.
Юбилей Берии возникает словно для того, чтобы напомнить, что они всегда шли ноздря в ноздрю — русская свобода и тайный сыск, русский гений и обужающие его рамки государственной деспотии. Не случайно первыми пушкинистами de facto и de jure были поэт Василий Андреевич Жуковский и шеф 3 отделения корпуса жандармов Леонтий Васильевич Дубельт, вместе разбиравшие после гибели Пушкина его бумаги.
ПОДАРОК ШТАТУ Т.
Доехал до корпункта за 87 коп., билет в троллейбусе стоит 1 руб., мелочи не было, протянул кондуктору 50 руб. — посмотрела на них как на диковинное послание, в троллейбусах и трамваях своя система денег — медная, это в такси — бумажная, кондуктор прочла послание, спросила, сколько есть мелочи, честно признался: 87 коп, сумма ее удовлетворила, протянула взамен билет за 1 руб. Так и доехал, как Бегемот на закорках «Аннушки», поглаживая билетом бороду. Придя, быстро сделал сообщение об обстреле автомобиля BMW и гибели его пассажиров в горах возле Верхнего Ларса, отправил в контору, почти как Алекс Юстасу, на мгновение почувствовал себя актером Вячеславом Т. в роли героя советских школьников и женщин штандартенфюрера Ш., прослезился собственной нужности и стал слушать радио. Сообщение сперва передали с ссылкой на агентство, после — без всяких ссылок — соб. инф. Позвонил К. с радиостанции «Братство», он ничего не знал, что делается у него под носом, надиктовал ему в диктофон. К. сказал: «Это самый опасный у нас участок дороги — между Верхним Ларсом и Чми», еще сказал, что проезжал там два дня назад, когда вывозили из Грузии духоборов, но тогда колонна — 3 автобуса и 33 грузовых «Камазов» — шли в сопровождении БТР. Логика цифр требует чтобы БТРов было 333, понятное дело, такое количество брони могло запугать любое бандформирование, даже самого Сада.Ху. Пришел М.-junior, надо передать срочное сообщение в штат Т.: посылка получена. Интересно, что присылают людям из Америки: шифроблокноты? микропленку? симпатические чернила в пузырьках? или — о, глупыши! — доллары? М.-junior посмеялся со мной вместе, но все же раскололся: действительно, фотопленку и доллары, но их вытащили на почте. Захотелось утешить, всё-таки почти как родственник, на глазах рос, пока мы с его папашей водку пили, предложил ему написать своему американышу, что, мол, мы, жители славного города Н. — столицы К.-Б. республики, государства в составе РФ, хотели бы отправить им, жителям далекого южного штата Т., безвозмездно, в подарок, памятник героям-комсомольцам, именуемый в просторечьи «Фантомасом». Американыш у нас во время последних летних вакаций все причитал, что у них в городе нет памятников и бюстов, и по сравнению с нами они, мол, жутко обделены по части монументального искусства. Насчет передачи памятников Новому Свету прецедент известен: французы им статую Свободы, мы — Устремленного в будущее, а что до его художественных достоинств, так ведь и ст. Свободы не всем сразу показалась, тоже споры были. Главное, идеологические нарекания исключены: у них нечто вроде развитого социализма, у нас — загнивающий из-за недостатка витаминов капитализм, на фиг нам комсомолец такого роста, а у них он в самый раз будет. М.-junior разрумянился от мысли, что сможет сделать приличный подарок заокеанскому другу. И мне приятно, что полезен людям.
ЖИЗНЬ В ТУМАНЕ
Дни неправдоподобной для календаря жары, — вмиг исчезли с улиц демисезонные пальто и куртки, по бульварам начали фланировать летние пиджаки и гавайские рубахи, украшением улиц вновь стали мини-юбки, а на открытых водоемах уже готовились к открытию купального сезона, — сменились привычной порой туманов. Заезжий красно-полосатый цирк «Колизей» приземлился инопланетной тарелкой на площади позади стадиона. В клочьях тумана в космической тарелке исчезают посетители цирка. Они переносятся в неведомый городским властям мир. Молодой кинорежиссер по фамилии Феллини записывает свои первые впечатления для будущего фильма. Из тумана проступают ветки деревьев. Медленно, словно стада коров, ползут по мокрым мостовым автомобили. Промокшему полицейскому кажутся подозрительными все люди, находящиеся в этот час на улице.
ВО ДНИ ТОРЖЕСТВ
Особенно ущербно во дни торжеств народных. Горожане со счастливыми улыбками на помятых лицах снуют по городу с полными авоськами нехитрой закуси, а ты недоумеваешь: к чему все эти винегреты? холодцы? московские салаты с колбасой? Где пиры духа? Где воздушные пируэты софизмов и апорий? Куда уехал цирк Романа Якобсона? Флоре приснился сон, что ее поместили в больницу для душевнобольных, где стали колоть сильнодействующими лекарствами, от которых она моментально заснула, — ей приснился сон, что она стала императором Чжуан Чжоу и вместе с ним размышляла, кто она (он) на самом деле: император-философ, которому снится бабочка, или бабочка, которой снится Чжуан Чжоу, т.е. она сама, но тогда почему она бабочка, а не кузнечик или божья коровка. Когда Флора проснулась, она увидела вокруг совсем другие лица, отличные от тех, что ее окружали при поступлении в психушку. Она спросила доброхотов про меня, ей сказали, что я был здесь (в смысле: там), но поскольку она спала несколько лет, то уехал куда-то, не оставив адреса. От страха Флора проснулась уже по-настоящему и отправилась на кухню пить воду и курить длинные сигареты. Посмотрела в холодильник: из него вылетела бабочка! А из зеркала на нее глядела бородатая физиономия китайского философ-императора: с праздником вас, дорогая!
ПОЧЕРК
Нет у меня почерка, как у героя Шамиссо не было тени, слова записываются не скорописью, а закорючками, фрагментами букв, осколками знаков, каллиграфия руинного мира, ежедневный ужас школьных уроков чистописания, только успехи в математике и родной речи спасали падающие ряды палочек и нераспустившиеся бутоны букв, затухающие волны в написании согласных, неразличимость гласных. Увеличительное стекло выхватывает часть строчного ландшафта: он не столь устрашающ, как без окуляров, в росчерках пера, наклонах букв, их сопряжении и отталкивании чудится перекличка с рукописями главного гения России, оригиналы их хранятся в Доме на набережной адмирала Макарова, золотой запас нашей словесности, конечно, двести лет разницы отражаются в написании букв на бумаге, а разница между золотым веком литературы и временем фальшивых драгметаллов просвечивается в содержании строк, но есть общее: мы русские люди, у нас одна родина — Россия, одни кумиры и герои, и это отражает увеличительное стекло.
ТЕНЬ ШЕКСПИРА
Клуб читателей Монтеня возглавляет яснополянский старец, в спешке шекспировского побега из дому, — не любил стратфордца, плевался, видимо, видел себя в кривом зеркале его зеркал, — не взял с собой книг, просил потом дочь прислать ему Монтеня и Плиния, я в этом клубе всего лишь младший читатель, осенними тусклыми вечерами поглощающий свободную мысль в стране, где мысль есть государственная собственность.
ОТВЛЕЧЕНИЯ
Молодые люди: он весь какой-то наклоненный вперед, а она откинутая назад, как верх спортивного авто. Идут рядом, разговаривают. Угол между их торсами на уроках геометрии называют прямым. Слова их должны быть перпендикулярны, они могут либо сталкиваться, либо притягиваться, но не могут течь параллельными потоками. А это печально, потому что простое, житейское счастье символизирует параллель, а не прямой угол. И перекрестная рифмовка юных тел останется всего лишь еще одним воспоминанием об этой осени. Другой параллельный мир — компьютерные карточные игры. Когда начальник лагеря товарищ Дынин ловил на неспортивном поведении пионеров моего призыва, они всегда в качестве предпоследнего аргумента предъявляли потрепанную колоду. В картишки, мол, дуемся. «А, понятно», — делалось разумно товарищу Дынину. (См. культовый фильм реж. Эл. Климова.) Временами кажется, что вовсе не зазорно встретить последнюю минуту данной параллели за перекладыванием «мышью» валетов, дам и королей. Все-таки галантное общество, строгая иерархия чинов и никаких поползновений на пространство чужого чувства. Все наши занятия всего лишь отвлечения от мыслей о готовящейся встрече, считал Паскаль. Из них не самое худшее — разглядывание осени.
МЕЧТА О ДОБРОМ БАЛЕТМЕЙСТЕРЕ
В Российской империи так уж заведено: придет к верховной власти лейб-гвардеец — расставит всюду в государстве своих семёновцев и преображенцев. Сменит его лихой полицмейстер — в державную игру вступают мастера сыска и надзора. А коли настанет черед днепропетровских — вскорости все канцелярии заговорят с приятным южнорусским акцентом. Ничего с этим не поделаешь: традиция-с!
Остаётся только мечтать о тех прекрасных временах, когда воссядет на престол в белокаменной некий добрый балетмейстер из очень Большого театра. Каких тогда танцоров расставит он по городам и весям нашим! И превратится матушка-Россия из государства аморфного и византийского в классическую хореографическую сюиту!
Глядишь, и мы с вами ещё попляшем в кордебалете! А народ вместе с прохожими, каликами перекатными и клакерами, глядя на наши па-де-де, дружно возрадуется и закричит: «Брависсимо!»
«Ага, а плохим танцорам станут отрывать то, что вечно мешает плохим танцорам,» — замечает Флора. «Зато они смогут хорошо петь в хоре!», — быстро парирую я.
Она взяла за обыкновение подглядывать через плечо за тем, что я пишу. И, как всякая женщина, стремится разрушить любую идиллию. Обычно я закрываю глаза на её проделки. Но сейчас не могу ей этого позволить. Ведь дело касается судеб страны.
ДЕВУШКИ-ХОХОТУНЬИ
Ждал Флору, она не шла. По дороге шли девушки, хохотуньи, им покажешь удилище, они хохочут: маленькое; им расскажешь про математику, про квадратный многочлен, они недоумевают: разве и такие бывают? В детстве нехорошие мальчики, те, с которыми не разрешалось водится, пели: мальчик — мал, мальчик — глуп, он не видал больших залуп. Про кого они пели? Не про тебя, тебя не замечали, ты был на обочине, негромкая фраза в контексте двора. Они пели про себя, им казалось, что главное в жизни — большая залупа, нацеленная в такую же большую красную вагину, баллистическая ракета, летящая на Америку. Дух милитаризма витал над нашими дворами и подвалами, ещё были живы безногие инвалиды последней войны, разъезжавшие по улицам на дощечках с колесиками из шарикоподшипников. Мальчишки подражали им, делали самокаты на подшипниках, они ужасно скрипели и сыпали искрами, когда герои дворов и улиц летели на них с заасфальтированных городских горок.
ЗАКАТ ЕВРОПЫ
Трагизм современной европейской ситуации не в действиях НАТО, не в позиции Милошевича, не в «гуманитарной катастрофе» косоваров, а прежде всего в том, что народы Европы, — просвещенные! свободолюбивые! воспитанные в духе гуманизма! — спокойно наблюдают, как на их глазах и при их молчаливом согласии убивают таких же, как они, европейцев, и при этом нормальное человеческое чувство протеста против убийства себе подобных заменяется квазиинтеллектуальными дискуссиями о правомочности или ошибочности действий той или иной стороны.
Произошла чудовищная метаморфоза европейских ценностей, замена подлинных ощущений, мыслей, чувств, верований и устремлений фантазмами масс-медиа, виртуальными ценностями общества потребления и псевдосвободами «открытого общества». Этим и воспользовались стратеги и идеологи Альянса, в силу своего положения и образа жизни, давно уже переступившие «атлантический порог», отделявший старую Европу от смердящей от мирового обжорства Америки.
Это конец европейской цивилизации! Закат Европы из теоретических выкладок философов и писателей выплеснулся на площади и улицы ее городов, поразил ума и сердца ее обитателей.
КОМПЕНДИУМ ПРОТОКОЛИСТА
Книгу назвал «Компендиум протоколиста», название нравится, рукопись красивая, отнёс её в 3,14издательство, директор не дурак, спросил, что значит «компендиум», объяснил толково: краткое изложение какой-либо теории, в д.с. моих взглядов на мир, время, человечество, по-привычному — публицистика и опыты в прозе, вырезанное из газет, журнальных разворотов и еженедельных столбцов за декаду переломных лет. Директор сказал: будем смотреть добрыми глазами, пошутил, обменялись рукоприкладством, другие редакционные чины про название не спрашивали, сразу рекомендовали название изменить, (а м.б., еще и автора?), советы принимаются только на бланках почтовых переводов, в противном случае присланные или нашептанные материалы администрацией рукописи не рассматриваются. Звонит редактор: назначен на подготовку, прочитал дважды, по прочтению размышлял (первый читатель!), что-то заменить, последний раздел расширить, подумать всё же над названием, яволь, герр принтерфюрер, мы хоть и гении, и состоим на особом учёте у вечности, но ценим непредвзятый взгляд, готовы работать над собой, над рукописью, над девушками. Готовим второй вариант: через два интервала, в строке 65 знаков, с положенными абзацами и отступлениями, исправления и добавления за счет администрации рукописи. Совершаем второй крестовый поход в 3,14издательство, снова обмениваемся рукоприкладством, редактор говорит, что через две недели рукопись можно запускать в производство. Проходит год — двадцать четыре раза по две недели! — рукопись лежит все там же: в шкафу редакции многострадальной русской литературы. Вот и ходи после этого по редакциям и 3,14издательствам, верь — доверчивый! — словам людей, связанных с изготовлением печатной водки. Нет, только в обществе близких по духу — олимпийцев, нобелиатов, карменсит и мукомолов, — можно вкушать спокойствие и отдохновение.
МЕЖДУ СЕВЕРНЫМ И ЮЖНЫМ ПОЛЮСОМ
Старуха-попрошайка барражирует между крупным гастрономом и комплексом правительственных зданий. У неё большие квадратные очки с толстыми увеличивающими стеклами, в платке и в этих очках — она вылитый лётчик-ас времен первой большой войны. Она медленно заходит на прицельное бомбометание, бомбит водителей крупных чиновников и прилично одетых ротозеев. Придерживается мичуринских принципов: нельзя ждать милостыней от природы, взять их у неё — наша задача.
За перемещениями старухи из своего окна наблюдает местный диктатор. Он не берет даже разрывающуюся от напряжения трубку прямого провода. Он думает о том, что его жизнь мало чем отличается от промысла этой старухи, разве что побираться приходится не на улицах и площадях, а в коридорах и кабинетах державной власти. Вечером он глушит накатившуюся тоску и злобу бодрящим напитком масс.
Протоколист, заносящий в летописи хронику этих дней, пишет о постоянном пунктире в линии нашей судьбы. Образы диктатора и безвестной старухи служат полюсами того магнита, между которыми протекают всеобщие дни и недели.
Окраина России. Тоска. Конец тысячелетия.
ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД
Хрустальный город непонятно какого века: мы — бывшие ученики специальных и общедоступных школ — считаем, что еще продолжается ХХ век, ведь всякий десяток должен завершаться десяткой, но никак не девяткой, потому что если будет так, то когда-нибудь очередной десяток завершится уже не девяткой, а восьмеркой, потом семеркой и т.д. Придет в негодность десятичная система исчисления, а вместе с нею навсегда исчезнет Бог, и наступит великая тьма, — мы против. Церковь же пышно празднует наступление нового века и нового тысячелетия — миллениум пришел на нашу землю! — две тысячи лет назад волхвы увидели звезду над Вифлеемом! — чудо свершилось!
Академия наук России принимает соломоново решение: 1. Третье тысячелетие от Р.Х. наступает 1 января 2000 г.; 2. Те, кто не признает христианской традиции летоисчисления, могут считать началом третьего тысячелетия 1 января 2001 г.
Господа книжники и фарисеи, как и две тысячи лет назад, ставят перед нами дилемму: хотите спасти Бога — отрекитесь от Него. Кто из нынешних жителей хрустального города готов пожертвовать собою и своим добрым именем во имя Грядущего Спасителя?
Новое Евангелие раскрыто на чистой странице.
СВЕТСКАЯ БЕСЕДА
Раннее теплое утро. Мусорка в центре городского квартала. С трёх сторон она отгорожена железобетонным забором, словно некое экологическое гетто.
Внутри резервации идет своя жизнь. У большого металлического контейнера встретились три обитательницы дна. Опираясь на его погнутые края, как на стойку бара, бомжихи неспешно завтракают найденными на помойке съестными дарами и ведут светскую беседу.
О чём они говорят? Что обсуждают? Какие вопросы мучают тех, кого вообще никакие вопросы уже не должны беспокоить? Обмениваются ли впечатлениями о прошедшем вечере и перспективах новой ночёвки? Толкуют о палатках, в которых принимают пустую посуду? Или спорят о последних коллекциях домов моды Нины Риччи и Пако Рабана? А может обсуждают тёмные строчки Мандельштама или Вячеслава Иванова?
Не спеши получить ответы на эти вопросы. Ведь это только вопрос времени — когда ты присоединишься к ним.
ПРОГУЛКА С АНГЕЛОМ
Мириады росинок усыпали траву на заброшенном стадионе. Они есть и на разбросанных на поле и окрест него пластиковых стаканах, бутылках, пакетах от сладостей и чипсов, обрывках газет, кусочках кожи и лоскутах неведомых тканей.
Икринки росы сверкают, переливаются, колышатся, дрожат — изумрудный мир первых дней творения, живой прообраз моря людского, низинный ландшафт раннего апрельского утра.
Мы с собакой проходим по беговой дорожке стадиона, как Господь Бог и сопровождающий его ангел.
ЧТО ТАКОЕ ВСЕ-ТАКИ ЛИТЕРАТУРА?
На Нобелевском симпозиуме 1991 года Иосиф Александрович Бродский, будучи уже сам отмечен высшей литературной наградой, высказал предположение, что литература есть не что иное, как хроника того, как у человека накапливаются неприятности и как он им противостоит.
При этом он отметил, что свидетельством таланта писателя является его словесная несовместимость с какой-либо устоявшейся идеологией.
Ещё он там развил любимую им мысль У.Х. Одена о том, что некоторых Господь простит только за то, что хорошо писали. Для литературы собственно важнее не нравственный выбор, а эстетический, стилистический, сказал Бродский.
Последнее положение особенно важно для русской литературы, литературы лжепророков, как назвал ее однажды в сердцах отец Павел Флоренский. Кстати, эту мысль Бродского выделил и другой обитатель литературного Олимпа — Чеслав Милош, описывая нью-йоркское отпевание последнего русского нобелиата.
ТЮРЕМНЫЙ ДОМИК
Дом изначально был задуман как тюрьма, не как многоквартирное общежитие человеков, а как место заточения семейств и их чад. Коллективный бред архитекторов, планировщиков местности, строителей и городских депутатов, раздававших ордера ошалевшим обитателям бараков и вчерашним батракам, поверившим очарованию городской власти и получившим в знак ответной любви каморки под лестницей.
Вода поступает по трубам не каждый час, существует какой-то график, который неизвестен никому из людей, чинов и ангелов, известных обитателям дома. По этому графику пускают воду. Если оставить под краном пустое корыто, ванночку или ведро, то ёмкость когда-нибудь все-таки наполнится водой, это и будет подтверждением существования графика. А в более общем смысле — внутреннего распорядка, правил поведения, системы поощрений и наказаний.
С электричеством проще: его вырубают, когда по телевизору должны показывать оперу или фильмы Бергмана, а включают — когда начинается футбол, хоккей или концерты, посвященные дню милиции. Однажды по ошибке пустили по проводам ток в период трансляции шахматного матча Каспаров-Карпов, тогда перегорели все лампочки в подъезде. Больше таких беспорядков не было.
Газ в полном объёме подается почти всегда в обеденное и ужинное время — это считается большим подарком народонаселению от властей города, и потому вручается обычно в дни месяца, соответствующие числам Фибоначчи, что должно свидетельствовать не только о красоте и торжественности переживаемого жилищеобитателями момента, но и отражать его математически точную выверенность во времени.
Городской транспорт объезжает этот дом и соседние дома-близнецы за три квартала. На соседних улицах останавливаются только (бес)шабашные водители микроавтобусов, именуемых в отчетах о красивой жизни горожан маршрутными такси. И останавливаются они только для того, чтобы набить салоны этих машин человечиной до сверхнормативов карцеров предварительного заключения, обеспечивая тем самым плавный и безболезненный для сознания обитателей дома переход от мест постоянного проживания до рабочих мест привычной трудовой зоны.
В таком тюремном домике я могу выдержать от силы три дня, а моя милая матушка проживает в нём постоянно. На её замечания о том, что я несколько сгущаю краски, расписывая жизнь незванскую в нашем райском рабочем районе, я всегда отвечаю примерно следующее: мы, маменька, прежде всего, реалисты, и как положено реалистам повествуем одну лишь правду, какой бы суровой или, наоборот, радужной она не была. Просто мы по-другому пишем слова и отдельные фразы, рассказывая ими о том, что вам и так хорошо известно. И делаем это исключительно для вашего читательского удовольствия и прилежания, а также некоторого, извиняюсь за выражение, интеллектуального роста.
А что касается философических замечаний типа того, что и в тюрьме можно жить, то с этим и спорить как-то даже неприлично человеку, пережившему ХХ век. «Всюду жизнь» назвал картину на подобную тему живописец-передвижник Ярошенко. Очень уж она понравилась в своё время лобастому младшенькому сынку смотрителя учебных заведений одной из поволжских губерний, вот он и забабахал нам всю эту жизнь.
КНИГИ ДОЖДЯ
Жизнь без книг в городе без вывесок и надписей на заборах. С утра идет дождь. На веревке вторые сутки мокнут белая рубашка и полотенце для рук. По телевизору показывают Олимпийские игры. Жаждущим рекордов и славы предлагается бегать в пространстве замкнутого стадиона. За хорошую беготню дают жетон и немного денег. Если бегать всю жизнь, можно скопить много денег. Это олимпийский девиз. Второй тоже известен: главное участие, не победа. Остроумец непременно добавил бы: и не «москвич», и даже не «волга». Мы не царские поручики, чтобы так острить. Мы — олимпийцы, не динамовцы, а гётевцы, участники отборочных соревнований за место в вечности. В нашем телевизоре нет ламп, триодов, микросхем и прочей проволоки. В нем — свеча. Будда Нам Чжун Пака сидит перед его экраном. Не будем его тревожить глупыми вопросами про результат незавершившегося матча. Лучше тихо выйдем на улицу. Там по-прежнему идёт дождь. Если долго в него всматриваться, капли начнут принимать форму букв. И тогда можно будет читать книгу дождя, книгу деревьев, книгу намокших автомобилей.
КУЛЬТУРА-СУБКУЛЬТУРА
Случайно стал свидетелем того, как девочки-студентки института искусств сочиняли поздравительный адрес своей подруге. Одна писала, а вторая ей диктовала: «Поздравляем, короче, с днем рождения! Желаем всего самого конкретного…».
По этому случаю можно было бы, конечно, разразиться дежурной диатрибой по поводу уровня развития как самих студенток, так и всей культуры-субкультуры последней империи периода миллениума. А можно было бы, учитывая гуманистическую традицию отечественной словесности, наоборот, отметить в качестве позитивной тенденции тот факт, что девочки из сельской местности тянутся к городской культуре и перенимают, в частности, ее язык, довольствуясь, на первой стадии, к сожалению, лишь его низовыми проявлениями.
Мне же почему-то представился рядовой профессор Сорбонны или Геттингена, случайно подслушавший наши разговоры о Бодрийаре или Дерриде. Не покажемся ли мы ему старшими братьями этих девочек-студенток? И что по этому поводу он черканет в своем ноутбуке?
ТОСКА ПО БОГУ
Живший в Германии в самый мрачный период ее новейшей истории русский художник Алексей фон Явленский считал, что большое искусство может создаваться только с религиозным чувством.
В одной из своих поздних статей он писал, что художник, доступными ему средствами, должен выражать то божественное, что есть у него в душе. «Произведение искусства — это видимый Бог, а искусство — это тоска по Богу», — считал Явленский.
МАКОНДО
В начале осени дождь шел непрерывно в течение месяца. Как-то войдя в большой лифт Дома печати с мокрым зонтом, я поздоровался с находившимися в нем знакомыми и сказал, ни к кому особо не обращаясь: «Макондо!» Коллеги из различных редакций сделали вид, что не расслышали — им показалось, что я выругался.
Я рассказал про этот случай в телефонном разговоре дочери. Она понимающе похихикала, но попросила напомнить, откуда это — Макондо. Ей я мог ещё оформить скидку — все-таки другое поколение, и «Сто лет одиночества» для них не были столь важной книгой, как для нас. Но в лифте со мною поднимались люди примерно моего возраста. Наверно, все-таки дело в национальных культурных предпочтениях, подумал я, чтобы не думать ни о ком плохо.
Некоторое время спустя я перерассказал данный эпизод своему товарищу-журналисту, человеку моего возраста и того же культурного слоя. «Ты знаешь, а я уже не помню, откуда это», — честно признался он. И тогда мне стало по-настоящему страшно: если такие вершинные произведения мировой литературы, как роман Маркеса, забываются современниками через несколько десятилетий после выхода в свет, то какая же жалкая судьба ждет наши бедные творения. Кто их вспомнит через год-другой?
УЖ ЛУЧШЕ ПОСОХ И СУМА
Ящики письменного стола вывернуты, бумаги перемешаны, у некоторых блокнотов оторваны обложки, не хватает многих страниц, папки свалены в кучу — что они искали? мое сокровенное слово? скрытые цитаты из Монтеня или Паскаля? третье послание к Фессалоникийцам? Оскверненные бумаги лежат как поруганные девы, прикрывшись рогожей.
Дух сикофанства и надзора витает над этой местностью. Ее обитатели ведут дневники наблюдений, обмениваются слухами и ночными звуками, мечтают о шапке-невидимке и служебных сапогах-скороходах. Впрочем, не лишены творчества: истории про доброго папу-следователя, вора — сына прокурора, соседскую бабушку — резидента шести вражеских разведок.
Венец комендантского творения — ночной допрос: кто у них начальник веры? а начальник жанны? мариимагдалины? не врать: Его никто никогда не видел! И тут же: кто был главным военным советником в Анголе? с какой базы вылетали на задание? какие были запасные варианты на случай неявки «родственника»? «помилуйте, ко мне всё это не имеет никакого касательства.» «к Нему будешь обращаться за помилованием! мы не раздаем милостей от природы, взять их у нее — наша задача!»
Вдохновенная каллиграфия режима: составление каталога оплошностей и прегрешений, зарисовки мест невстречи, игра в бисер архивных карточек, записи мнимых чисел, дактилоскопия иррационального мира.
Спасение только в побеге, уходе в одиссею, в монастырь, на синай. Открывается путь странничества. Уж лучше посох и сума, говорил тот, который для себя все-таки предпочел пулю.
БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДОВАНИЯ
Случайный взгляд на тротуар: весь бордюр забрызган синей краской. «Непорядок», — отметил некто, временами пробегающий вдоль, а чаще поперек, сознания. Иду дальше. Через несколько метров — снова пятнышки синей краски. Он же: «Что такое?»
Заставил-таки, шельмец, присмотреться повнимательнее. Ба, да это же первые маленькие синие цветочки выползли из-за каменной ограды на дорогу, поближе к людям. Они и там, и там, и тут, и вот здесь — везде! Весна, блин, граждане, пришла!
Пришлось вынести благодарность своему постоянному оппоненту. За проявленную бдительность и уважение к смене времен года. С занесением пива «Солодов» над раскрытым ртом.
РОДСТВО ДУШ
Моя бабушка, гимназистка образца 1912 года, всю жизнь была большой поклонницей литературы. Даже в преклонном возрасте, уже после смерти деда, с которым они прожили душа в душу, как старосветские помещики, более пятидесяти лет, бабушка предпочитала проводить свободное время не в компании старушек перед подъездом, а в соседнем сквере с книгой. Поскольку ее рабочим кабинетом всегда была кухня и читать она умудрялась даже в процессе приготовления пищи, книги всегда заворачивались в бумагу. Причем, газетные полосы Маруся не терпела, -пачкаются! — требовала для обертки книг бумагу светлых тонов, кальку или, на крайний случай, «миллиметровку».
В последние годы, перебирая книжные шкафы в поисках нужного тома, я часто натыкаюсь на прочитанные бабушкой книги. Их легко узнать по оставшимся бумажным оберткам, которые то ли забыли снять, то ли умышленно оставили в надежде вновь перечитать понравившуюся книгу. Одна из таких книг — сборник стихотворений крестьянского поэта Спиридона Дрожжина в малой серии «Библиотеки поэта».
Помню, с каким удовольствием Маруся читала его немудренные строки. Некоторые, особо понравившиеся ей стихотворения, бабушка зачитывала мне вслух. Мне же, увлекавшемуся тогда Рильке, Сен-Жон Персом и Элиотом, чтобы не обижать бабушку приходилось поддерживать разговор о достоинствах поэзии русского крестьянина. И лишь спустя многие годы я узнал, что обожаемый мною Райнер Мария Рильке восхищался Спиридоном Дрожжиным и даже провел у него в гостях неделю во время своего второго путешествия по России. Есть, оказывается, известная фотография, где они запечатлены в обнимку в деревне Низовка Тверской губернии.
Литературоведы пишут, что лишь экзальтированной любовью Рильке к России можно объяснить столь странную привязанность представителя высшего европейского интеллектуалитета к второстепенному крестьянскому поэту нашего любезного Отечества. Мне же сдается, что в данном случае речь должна вестись не столько о любви божественного Райнера, как называла его в письмах Цветаева, к России и ко всему русскому, сколько о родстве душ двух христианских поэтов.
Собственно, и рассказ о бабушке Марусе был затеян с тайной целью на примере родства наших с ней душ доказать этот нехитрый тезис. Однако изоморфные методы доказательств не считаются убедительными для составителей академических антологий. Посему остается только надеяться, что они могут быть востребованы в качестве таковых при составлении очередных скрижалей для Того, который подарил нам Слово для всевозможных, в т.ч. и неакадемических бесед. И полагать, что при личной встрече Он шепнет мне адресок в тамошнем Интернете, по которому я смогу продолжить с Марусей прерванный разговор о русско-западноевропейских литературных связях.
БЕГ ПО КРУГУ
Испустишь дух вот так вот вдруг, по глупости, от неравномерного чередования пива и водочки, и предстанешь перед очами Господина Б. старым грязным пьяницей. И поместит он тебя туда, где коротают вечность клошары, винопийцы и доступные им девицы. И ведь никак не объяснишь ему в тот момент, что по поспешности ошибочка может произойти: что был ты каким-никаким, а всё-таки мыслящим тростником, шумел на ветру времени, раскачивался в сторону демократии, свободолюбия и гуманизма.
В такие минуты внутреннего прозрения обидно становится за себя и за Господина Б. Обидно, что из-за недоразумений чисто физиологического характера может сорваться волнующий диалог между вами, между, так сказать, субъектом и объектом почитания. И тогда даешь себе слово впредь потреблять что-либо одно — либо водочку, либо пиво. И что самое поразительное в таком зароке — иногда сдерживаешь данное самому себе слово! И в такие периоды искренне веришь, что Господин Б. отмечает где-то там у себя твоё усердие и прилежание, берет его на заметку в своем невидимом миру гроссбухе и, возможно, будет более снисходительным в случае будущей оказии.
Однако подобное успокоение духа неминуемо приводит к новому потреблению упоительной смеси. А утром снова тебя душат слёзы стыда и боли за возможную ошибку Того, кто никогда не ошибается. Такой вот порочный круг получается.
ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ
В книге «101 история дзен» рассказывается о Тэтсугене, преданном почитателе дзен, предпринявшем первое в Японии переводное с китайского издание буддийских сутр. Он собирал для этого пожертвования, путешествуя десять лет по стране, равно благодаря и тех, кто дал сотню золотых, и тех, кто опустил в пожертвенницу мелкую монетку.
Когда он насобирал нужную сумму, вышла из берегов река Удзи, а потом настал большой голод. Тэтсуген все собранные деньги потратил на спасение людей от голодной смерти, и принялся собирать снова.
Во второй раз, когда он был близок к осуществлению своей мечты, страну охватила какая-то эпидемия. И Тэтсуген снова отдал все собранное им на помощь людям.
В третий раз он двадцать лет собирал средства на издание сутр. Книга печаталась с деревянных клише тиражом в семь тысяч экземпляров, что по тем временам было грандиозным предприятием.
Японцы говорят своим детям, что Тэтсуген трижды издавал сутры, и что два первых издания даже превосходят третье.
ПОЕЗД КИМА ЕХАЛ ПО РОССИИ
На балконе соседнего дома стоял парень и мочился на прохожих с двенадцатого этажа. В первых числах месяца жара спала, но её последствия длились.
По главной улице разгуливал карлик с выпученными глазами. Он был одет в армейские одежды. И хотя на форме не было знаков различия, милиционеры, как законопослушные граждане, отдавали ему честь. Длинноносый олигофрен лизал мороженое и предлагал девочкам поиграть с ним «в больничку». Те шарахались от его седой щетины. Графоманы спешили в редакцию журнала «Литература либо жизнь». При встречах друг с другом они театрально потрясали килограммами рукописей. Близнецы Кока и Кика выделывали на площади свои привычные трюки по материализации духов героев контрреволюции. Фалалей пристроился метродотелем в подпольном кафе для нелегальных торговок золотом. При встречах предлагал зайти к ним отведать лагмана. «С кокаинчиком», — подмигивал он. Вся рота железных дровосеков была в сборе.
Зато куда-то пропал картезианец, прогуливавший на проволоке двух ужасного вида животных. Мы ещё спорили с Флорой, гиены это или шакалы. Однажды наш пес Котя чуть не сцепился с этими существами. Он, как обычно, полез к ним знакомиться, а они расценили его действия как прямую агрессию. Пришлось Флоре проводить миротворческую операцию с выносом собачки на руках из зоны конфликта.
Как ваша фамилия, спросила меня вахтерша Дома печати. «Вудворт или Берстайн, точно не помню. Запишите любую», — сказал я, проходя мимо нее походкой героев «уолтергейта».
А по России ехал поезд председателя Ким Чен Ира. Художник А. на встрече творческой интеллигенции республики К.-Б. предлагал запретить знаковую живопись. А моих друзей К. и Ц. сослать на Соловки. По телевизору рекламировали пиво «Солодов». В штате Миссиcипи умерла Юдора Уэлти.
СМЕРТЬ ОТВРАТИТЕЛЬНА
Венецианец Джакомо Казанова, ставший легендарным благодаря своим галантным похождениям, был выдающимся писателем XVIII века. Впрочем, он был и выдающимся мыслителем, ученым, инженером и дипломатом своего времени. Современники не в полной мере ценили эти качества Казановы, считая его обычным искателем приключений. А позднейшие интерпретаторы и вовсе представляли венецианца ранним изданием поручика Ржевского.
Словно предчувствуя, что потомки будут довольствоваться убогим мифом о его насыщенной необычными событиями жизни, на склоне лет Джакомо Казанова написал свои знаменитые «Мемуары». Можно сколь угодно долго спорить о других талантах и достоинствах легендарного венецианца, но в его несомненном литературном даре легко убеждается всякий читатель этой прекрасной книги. В ней можно найти настоящие перлы мудрости. Например, он пишет, что смерть отвратительна, потому что она разрушает разум. Так мог написать только очень большой писатель и человек эпохи Просвещения.
ЗАВЕРШАЕТСЯ НАША ЭПОХА
Под вечер огромная темная туча появилась над городом, как кепка-аэродром над головой безумца. В просвет между тучей и окрестностями хлынуло солнце. Золотистый свет в одно мгновение превратил заоконные виды в причудливые ландшафты Клода Лоррена, облагородил облупившиеся стены домов, покрыл сусальной позолотой деревья и высветил девушек призывного возраста. Разнокалиберные птичьи стаи совершали последний облёт подконтрольных им территорий парков и площадей. На фоне типовых параллелепипедов и авторских многогранников их оптические волны выглядели книжными иллюстрациями к произведениям романтиков. Пока ещё блеклая, словно завернутая в целлофан, луна спешила занять своё место на небосклоне. В споре с Артуром Кларком о возможностях техники Клайв Льюис и Толкиен утверждали, что польза от машин исчерпывалась приготовлением трубочного табака и транспортировкой читателей в Бодлинскую библиотеку. На улице мне повстречался знакомый мальчишка пяти лет. «Что это у тебя?» — спросил он. «Сумка». «А что ты в ней носишь?» «Различные бумаги и книги». «А что такое книги?» У мальчика много электронных игрушек, он всегда хорошо одет, по видику смотрит специальные подборки лучших американских мультиков. Только о книгах никто ему никогда ничего не рассказывал. Конец века плавно переходит в конец тысячелетия. Завершается эпоха читателей.
КТО-ТО ДОЛЖЕН РАЗБИРАТЬСЯ В ЗВЕЗДАХ
В любой дыре хоть кто-то должен разбираться в звездах, писал когда-то Фрост. В нашей дыре столько человек считало, что они разбираются в галактиках, что я часто со своим телескопом не мог протиснуться к небосводу сквозь частокол подзорных труб штатных наблюдателей. Соотечественники Фроста со свойственной им непосредственностью и инфантилизмом бомбят братскую Югославию, утверждая на Балканах прочный мир и торжество прав человека. Мусульманин К. говорит, что не спал всю ночь, недоумевая, почему наши корабли и доблестные ВВС не начали маневры перед носом натовских вояк. А бывший управляющий международными делами новой России по ящику недоумевает, почему мы опять остались в стороне от цивилизованного мира и не разгребаем жар руками для стратегов с Потомака. Гнусь национального позора и разложения разлита в атмосфере этих дней. От нее не спасают ни водка, ни коньяк, непотребный дух перебивает только пиво. В четвертую ночь налетов сербы сбили самолет-невидимку «Стелс», что в переводе на человеческий означает «звезда». В их дыре тоже нашелся кто-то, кто разбирался в звездах.
РЕКА ВРЕМЁН
Река времён бурлила по главной улице. Нам — пальмирцам, — не привыкать к наводнениям. Но перебраться с этого берега, где антисухо и температура по Фаренгейту, на тот, где молочный фатерланд, все равно, что попасть в будущее. Гость из будущего, наоборот, стремился в настоящее по пояс в воде. Его чуть не сбила проплывавшая мимо машина. Еще несколько девушек, приподняв мини-юбки, штурмовали будущее. За ними пристально наблюдали любители уличных наблюдений. Северные пальмирцы, дети мои, пел старый акын. Уважаемый, помогите пересечь разбушевавшийся Рубикон.За букет червонцев нанял авто чтобы миновать перекрёсток. В гарсоньерку попал, не замочив подметок, — истинный пальмирец! «Вот, что значит ум против грубой силы», — любил повторять в таких случаях однокорытник по факультету имени Мариуполя. Попил чаю с водкой по старому ямщицкому обычаю. Потом стал названивать в Пальмиру. Не для того, чтобы сообщить о достижениях в преодолении водных преград. А исключительно для того, чтобы узнать о результатах преодоления воздушных просторов. Никто не отвечал. Стал смотреть телескоп. Там вихлялся мин-херц иностранных знаний. Захотелось ущипнуть его за зад. «Содомит», — вынесла промежуточный приговор Флора. Не стал его оспаривать, приказал вместо приговора вынести ещё одну рюмку водки. И ёще раз сблизился с народом. Без пятен ложного стыда листал антинародное искусство Луизианы. Рукотворная пальмира возникла на берегу моря в 1958 году. В эту эру добрая мамаша отправила меня с ранцем за спиной в первый класс «Д» (антиумники!) СШ N 10 далекого города А. Оригинальный подарок братского, — сорок тысяч братьев! — эльсинорского народа школьнику гиперборейской равнины. Завершено строительство храмовых сооружений в памятном 1991 году. Надо было нам, дорогая Флора Грант, не защищать БД, а эмигрировать в Луизиану[1]. Полотна Корнелиуса, Алеши Энского, златовласки Пидерсена, красавцы Ветчинкина и Джифарса, объекты Эраста и Большого Билля, летатлины Малдера, японский камнепад. Живопись — это нечто среднее между искусством и жизнью, сказал один из них. «Когда и твои работы вывесят на берегу, будем считать, что искусство сравнялось с жизнью», — сказал по телефону Андрею К. «А когда поедем в деревню?» — спросил он. «Когда на смену циклонам придут антициклоны». И снова набирал Пальмиру. Как персонаж газетного эпоса. Алиса все-таки ответила: «Турболёт задержали!». А кто задержал, не сказала. Пришлось гадать: экскурсоделы, сбытчики памятного, таксёры, ночные портье, сервировщики столешниц, хранители валют, гандольеры — все могли быть причастны. Впечатления словами не передать, сказала Алиса. Придется посылать на местность К., он напишет виды и ландшафты, реалист. Впрочем, он и там будет писать деревню. Известное дело: приват-доцент нашего факультета живописал там путешествия по деревням в поисках живой воды. «Папашу-то видела?» «Видела.» » И туфельку целовала?» «Целовала!» «И что?…» «Хочешь спросить, велел ли он что-нибудь передать тебе?» «Трепещу загадывать.» «Сказал, чтобы не злоупотреблял альфой и омегой.» «Мудрофилией и древнепромыслом?» «В прямом — водочкой и пивом! Особенно, когда переплываешь реку времен». С того берега ей не было видно, что омеги сегодня не было совсем. Но молодость была уверена, что она всегда права.
ИНОПЛАНЕТНЫЙ РАЗУМ
Последний раз инопланетянина я видел несколько лет назад в коридорах «Кабардино-Балкарской правды». Зеленое существо с двумя головами и четырьмя лапами-присосками бродило между кабинетов и вполне внятно бормотало: «Дожились! Уже НЛО никого не интересуют!».
На него никто не обращал внимания. Завершился календарный год, и журналисты строчили отчеты с итоговых коллегий министерств и ведомств.
Раньше в этой редакции несравненно больше внимания уделяли загадкам окружающей природы. Редактор Зайцев лично наблюдал в небе шестерку летающих тарелок, выстроившихся над городом в виде звезды Давида, о чём известил коллег на планерке. Знаменитый уфолог Кострыкин не вылезал из кабинета Аркадия Дмитриевича Волосова. Саша Шульгин регулярно приносил снимки с семинаров контактёров.
Ко мне самому несколько раз заглядывал инопланетянин из Чегемского района. Он всякий раз предлагал новый план спасения СССР. А я, занятый сочинением своих сочинений, неизменно отшучивался: мол, это государство ещё нас с вами, папаша, переживет. И только после рокового пикника в Беловежской пуще понял, насколько был самонадеян и близорук, игнорируя голос внеземного разума. Стал названивать в Чегемский район, чтобы хоть как-то остановить начавшийся распад Союза. Но инопланетянина и след уже простыл. Улетел к себе в Альфа-центр, сказали.
Можете себе представить, с какими чувствами я бросился навстречу новому гражданину Вселенной. У меня было о чем ему поведать: тут тебе и необъяснимые странности в поведении тогдашнего начальника государства, и маниакальная агрессивность атлантистов, и постоянное игнорирование меня нобелевским комитетом, и конвеерное отключение электричества в районе «Искож», где проживает мама. Поле для приложения инопланетных сил было обло, озорно, огромно, стозевно и разве что только не лаяй. Но пришелец не захотел со мною разговаривать. Сказал, что уполномочен вступать в контакты только с представителями официальной прессы. Сколько не втолковывал ему, что контора, в которой служу, является информационным агентством и имеет во всем мире реноме объективного издания, он четырьмя лапами-присосками стоял на своем: все неофициальные издания в стране — жёлтая пресса. «Понапишите про нас такого, что куры на смех поднимут!» — синхронно бубнили две его головы. С тем и расстались.
Пришлось закрепить свои впечатления на бумаге, чтобы не только потомки обезьян, но и двуглавые зеленые существа поняли наконец: журналисты из независимых изданий тоже могут быть объективными и беспристрастными.
ВСЕ КРАСКИ СЕНТЯБРЯ
Сентябрь и горы вблизи. В небе соревнуются облака и разноцветные воздушные шары. Особое внимание публики привлекают аэростаты «Желтая подводная лодка», голубой «Пивной бочонок «Балтика» и ёще один, выполненный в виде огромного пакета с собачьим кормом «Pedigree».
Она в длинной красной юбке и короткой кожаной куртке. Прогуливается среди публики под ручку с подругой. Сзади они похожи на красный воздушный шар и поддерживающий его тёмный телеграфный столб. Трудно отвести взгляд от вольной аэронавигации красного в золотистом пространстве осеннего города.
«Нет, это не воздушный шар. Это скорее персик, — говорит кто-то рядом, — Созревший персик.»
В садах моей родины уже поспели фрукты. И проходит ежедневный фестиваль воздушных шаров.
НОЧНАЯ ПОЕЗДКА
Как-то ночью товарищ увлек меня в поездку на Петроградскую сторону. Из нашего общежития в Гавани Васильевского острова в другое университетское общежитие.
Что ему нужно было там в столь позднее время, совершенно выветрилось из памяти. То ли он хотел запастись конспектами перед экзаменами, то ли застать скрывавшегося днем должника, то ли выяснить отношения с тамошней Карменситой — не помню за давностью лет. Помню лишь, что по каким-то соображениям рационального характера я остался на улице, не пошел с ним в само общежитие.
Стояла довольно теплая для северной столицы зима. С тёмных небес летел снег крупного помола. Все обозримое пространство было погружено в покой и безмятежность. Даже редкие авто не нарушали тишину улиц. Прогуливаясь перед общежитием, я вышел на набережную Малой Невы. Открывшийся вид — покрытые белыми шапками гранитные тумбы и парапеты набережной, деревья в скупом рождественском убранстве, желтые уличные фонари, вдали огоньки Тучкова моста, темнеющие на том берегу здания, за фасадами которых творилась русская история, — зачаровал молоденького студента. Нашедший меня по следам на снегу товарищ еле уговорил возвращаться в родные свояси.
Казалось бы — случайная ночная поездка двух лоботрясов. А на поверку вышло — оставшийся навсегда в памяти зимний вид неповторимого города. Ничего не бывает в жизни случайного. Надо только уметь читать подаваемые ею знаки.
ОСТАВШИЕСЯ ДАРЫ
Перечитать стихотворение дважды, сперва про себя, потом вслух, чтобы ощутить во рту солоноватый вкус свежести и свободы. Выпить зеленого чаю Hilltop. Проверить перо (шарик?) новой ручки: «как превратился в даоса, — вот загадка». Вспомнить: цивилизатор бредил антидаосами. И тут же уточнить: любовался учителем Куном и фалангами цзяофаней. Записать аргументы спора: даосы ранили сирого из малых сих? а эти, строевики, с серпами? нет, меня искать среди пьяных монахов и фей! третий слева, в кепке. Улыбка во весь рот, взор к небесам, портфель с записками и выписками раскачивается справа. С годами походка стала как у старшего Ф. Основоположник двигался по Невскому весь перепачканный мелом. Путь пролегал из другого Фонтанного дома в аудиторию N 66. Мы приветствовали: «Добрый день, Дмитрий Константинович!» «Опять занятиями манкируете, молодые люди?» — любопытствовал основоположник. «Следуем в Лавку стихов!» — признавались мы. «Тоже касталийское занятие», — выносил вердикт великий магистр гармонии. Записать в ежедневник: можно ли рассматривать вердикт как напутствие? Подчеркнуть тремя линиями для памяти. Пересчитать оставшиеся дары: несколько книг стихотворений и прозы, китайский чай, туман в волосах Флоры, улыбка маленькой собаки, признавшей в тебе хозяина, расцветшее у железной дороги дерево. Потом отложить перо. И уже спокойно наблюдать, как город за окном заполняется спецназовским газом.
СПИСКИ УТРАТ
ЯНВАРИАДА
Роскошный подарок к Новому году — коллекция городских туманов.
От памятника местному партайгеноссе осталась только вскинутая в приветствии рука да небольшая часть мраморного постамента. Это мог быть памятник Кутузову у Казанского собора, или статуя Марка Аврелия возле Капитолия, а может быть, фигура адмирала Нельсона на Трафальгарской square. Всё зависело от параметров вашего воображения.
А за выплывающей из клубов тумана колоннадой Правительственного дома чудилось здание Эскуриала в Мадриде или Большого театра в первопрестольной.
На грани веков всё перепуталось, и некому сказать, что постепенно холодея, всё перепуталось и сладко повторять: «Россия, Лета, Европея…».
Петарды, ракеты, шутихи, стрельба одиночными и очередями, трассеры — весь этот балаган за окном продолжался часа два, без перерывов и технических сбоев. Впору было заткнуть уши и уставиться в мерцающий всеми цветами радуги телевизионный люк. Моментами хотелось вскочить и прижаться спиной к несущей конструкции здания, только бы быть подальше от окон.
«Что же не радуетесь празднику, странный вы человек? Как Новый год встретишь, так его и проведешь,» — недоумевала слегка разрумянившаяся дама, протягивая свой бокал с шампанским чтобы чокнуться.
«Вы совершено правы: новогодние впечатления накладывают большой отпечаток на дальнейший ход событий», — ответил ей, вспоминая новогоднюю ночь 1995 года в зелёном Царьграде.
Сообщают, что наступил год синей крысы. До этого, помнится, были года красного быка, черной обезьяны, белого попугая, ядреной вши…
Перед Новым годом все об этом только и говорят. Обсуждают, что в соответствии с новым тотемом надо подавать на стол, в каком наряде женщинам встречать появление очередной зверушки.
Невольно складывается впечатление, что страну уже оккупировали китайцы или японцы. И население в соответствии с требованиями оккупационных властей прикидывает, как следует вести себя, чтобы не прогневить новую администрацию.
Будто и не было тысячелетней истории России, петровских ассамблей, дворянских балов, рождественских выступлений футуристов, акмеистов, поэтесс с серебряными голосами. Будто и сами мы никогда прежде не встречали Новый год с «Советским шампанским», салатом «Оливье» или селедкой «под шубой».
Или в новогоднюю ночь действительно приоткрывается завеса над будущим, и во всю ширь проглядываются судьбы нации в новом тысячелетии?
По утрам пробуждение, как с похмелья, с мыслей о Флоре. Как она там одна в холодном космосе первого месяца? И только опасение не выглядеть посмешищем в её раскосых глазах удерживает от неимоверного желания позвонить ей немедленно.
А потом параноидальные заботы трудового дня крепостного корреспондента невольно отодвигают на задний план мысли о Флоре. И только вечером дома опять возникает её тень. И тот царственный жест, которым она сбрасывала с плеч лифчик перед тем как шагнуть в вечность, нирвану, любовь.
Медленно идёшь по улице, настроение паскудное, видеть никого не хочется, сердце болит. Всё вместе называется – возвращение от врача. Но врача никто не видел. Он назначил назначенное время, но сам не явился на приём ни через полчаса, ни через час. И вот ты идёшь по улице, и мысленно плачешь о своей сиротской судьбе.
А тут из подворотни выглядывает Фалалей, как всегда в армейском картузе. Увидел тебя и бросился навстречу, как к родному. Поздоровались с ним за руку, как полагается, а он и говорит: «Что-то давно тебя не видно было? Работал, наверно? Ты там, смотри, новый гимн сочини, чтобы слезу у бюрократов прошибал! На слова Пушкина! Чтобы пенсии всем повысили на сто и более процентов! Человечество ждёт решений!»
Похлопал тебя по плечу, словно напутствуя на работу славную, на дела хорошие, потом отдал честь и под звуки одному ему играющего оркестра парадным шагом направился обратно в подворотню.
А у тебя подсохли невидимые миру слёзы, настроение изменилось, сразу стало как-то непривычно тихо и легко, и сердце вроде бы перестало колоть. А ведь, казалось бы — всего лишь повстречался с городским дурачком.
Предчувствие не обмануло старого волка. Сразу после Р.Х. в 0 часов 35 минут грохнул взрыв перед зданием Сената. Да так грохнул, что повылетали стекла не только из сенаторских кабинетов, но и всех зданий в округе. «Скорее всего, хулиганы баловались», — поспешили заявить полицейские и гражданские начальники, опасаясь, как бы это не отразилось на намеченных вскоре президентских выборах.
Он же передал на ленту о возбуждении уголовного дела по 205 (терроризм) статье и прибытии в город бригады столичных сыщиков.
И снова протоколист попал в чёрный список местных властей. Впрочем, его оттуда никогда и не вычеркивали.
Во сне просыпаюсь в больничной палате. Вполне приличная одноместная палата из разряда тех, что в обкомовских больницах предназначались для номенклатурки второго ранга.
Но под кроватью совершенный бардак: окурки, обрывки бумаг, куски засохшей грязи, огрызки сыра, яичная скорлупа. Та же картина на подоконнике. Это вызывает дикое раздражение. Появившаяся невесть откуда Флора пытается успокоить меня и начинает наводить порядок.
Но волна поднявшегося раздражения уже не утихает и вскоре выплескивается в фонтан крови из горла. Флора подставляет эмалированный тазик, и мы с ней наблюдаем, как он споро наполняется багровой, а отнюдь не голубой жидкостью.
Тут в палате появляется мой хороший приятель Б. и предлагает пойти подышать воздухом. Все наши хвори от нездорового образа жизни, надо больше двигаться и дышать свежим воздухом, говорит он.
Мы с ним выходим в больничный двор. Здесь солнце, высокие серебристые тополя, степенно прогуливающиеся по аллеям больные и их родственники.
В одном из больничных зданий работает кинотеатр, и Б. тянет меня в зрительный зал. Фильм уже начался: на экране появляется та самая больничная палата, которую мы только что покинули, несколько похудевший больной, Флора. Далее следует вспышка раздражения, но кровь из горла идет уже не столь мощным потоком.
Потом опять возникает Б., повторяется наша прогулка по больничному парку, и мы снова оказываемся в кинотеатре. Опять демонстрируют тот же фильм. Но больной на экране выглядит ещё более измождённым, а кровь из его горла идет куда менее слабым потоком.
И с каждым новым показом этого страшного и странного кино видно, как прогрессирует болезнь, как все более беспокойной делается Флора и более красивым становится пейзаж больничного двора.
Требуется огромное усилие воли, чтобы разорвать этот чудовищный круг, и проснуться, наконец, уже окончательно, не в больнице, а дома, в своей холодной постели.
Она держит меня на расстоянии вытянутого уда.
Б.д.Т. — претендент в нобелиаты, любимец кумиров, последний будетлянин и проч., — начинал вполне по-советски. В первом его сборнике можно прочитать такое:
Мы овладеваем
токами
и молотками стукаем…
Мы спорим о жизни Марсовой,
о графиках, исчислениях,
в библиотеках массовых
мы штудируем
Ленина…
Конечно, год издания книги — 1962 г., предъявлял свои требования к поэтическим текстам: для того, чтобы прошли впоследствии славянские древности, их надо было припудрить пролетарской бронзой. Но всё же, всё же, всё же…
На книге Б.д.Т. его автограф: «Беле с воспоминаниями о прекрасном гусе». Книгу мне дала почитать дочь покойной Белы. Она меня тоже кормила прекрасным рождественским гусем. Это была наша единственная встреча с Б.д.Т. в реальности № 2.
Все остальные встречи, беседы, длинные споры, ссоры и примирения происходили исключительно в реальности № 1. Но, впрочем, они давно уже стали предметами университетских факультативов.
Казалось бы, что в этом необычного: пришел к человеку в гости и увидел у него над диваном портрет Че Гевары? У людей всегда что-нибудь висит над диваном — репродукции «Незнакомки» Крамского, фотографии Гагарина или Хемингуэя, гипсовые маски или стереоколонки. Отчего же я так разволновался? Почему же портрет команданте не дает мне покоя?
Потому, что это знак — мы одной группы крови. Мы либо вместе воевали, либо одновременно передавали сводки с полей локальных войн, либо вместе готовились защищать правое дело.
И ещё это знак того, что мы не предали идеалов юности. Куба — да, янки — нет! И Вьетнам — да, и Ангола, и Эфиопия, и Германская демократическая республика.
Команданте Че учил не коммунистической ортодоксии, не борьбе с инакомыслием, а свободе, равенству и всемирному братству. И мы на всю жизнь остались выпускниками полевой школы Эрнесто Гевары де ла Серны, известного как команданте Че.
На почте встретил бытописателя К. Он сказал, что с удовольствием прочитал мою последнюю книгу. Им с женой она в целом понравилась. «Там есть несколько моментов, близких нам», — сказал К.
Интересно, какие же это моменты? Про то, как бывшая красавица копается в мусорном ящике? Или про то, как во ВГИКе уестествляют переводчиц? А может быть, про надвигающееся сумасшествие? Но уж точно, не про встречу с ангелами.
Второй взрыв прозвучал через десять дней после первого. На сей раз взрывчатку подложили в столовом помещении жандармерии. Было воскресенье, и пострадал только шеф-повар. Его сразу же отвезли в больницу.
Почерк бомбиста был тот же самый: подвальное помещение, направленный взрыв, выбитые в жандармерии и соседних домах стекла. Злоумышленник явно не хотел больших разрушений и жертв, а пытался только продемонстрировать кому-то свои возможности.
Власти, естественно, объявили, что причиной взрыва стали неисправные газовые баллоны на служебной кухне.
«Следует ждать третьего крика петуха», — подумал протоколист.
Алиса прислала посылку с книгами: «Избранное» Сен-Жон Перса, два больших тома Пятигорского, «Истина мифа» Курта Хюбнера, кирпич Кузмина в «Библиотеке поэта» и две книги новых переводов Рильке. Совсем неплохое лекарство от зимней скуки и тусклых коротких дней.
Разночинцу достаточно рассказать о прочитанных книгах, и биография готова, писал когда-то Мандельштам. Сейчас достаточно хотя бы просто упомянуть полученные книги.
В годовщину смерти Бродского по телевидению демонстрировали дока-фильм, в котором Евтушенко рассказывал зарубежным студентам-славистам апокриф о некоем секретаре сельского райкома партии, который якобы помогал Бродскому в ссылке публиковать стихи в местной газете.
Если бы Бродский мог услышать об этом, он бы перевернулся в гробу, поскольку для него Евтушенко, как писал Довлатов, был человеком другой профессии.
Впрочем, и сам Довлатов перевернулся бы в гробу, узнай он, сколько новых сюжетов для «сольных» заметок появилось в конце столетия.
Эту зиму пережить — не поле перейти.
Ночь. Под окнами на улице шумят дети. Они стаями толпятся возле дверей ресторана в ожидании подвыпивших гостей. Когда те выходят на воздух с дамами, им может что-нибудь обломится. А пока они согреваются дурашливыми потасовками. Гоняются друг за дружкой с криками:
— Я твой труп буду таскать по городу!
Толстой бы к ним вышел. Стал бы заниматься с ними, грамматику, может, какую-нибудь современную для них сочинил, с картинками из «Плейбоя» или «Пентхауза» и с морализаторскими текстами, почему это плохо смотреть в столь юном возрасте. А я? Что я могу сделать? Почитать им стихи Сен-Жон Перса? Бо-цзюи? Или пересказать тезисно философические письма Чаадаева? Не пошлют ли к матери, чады?
Вон писатель Астафьев косил под графа, к нему Ельцин в Сибирь накануне выборов приезжал, как к старцу Зосиме, совета и благословения просить, так этот Виктор Петрович тоже стал с детьми заниматься. Пришел в сельскую школу и давай им стихи древних китайцев шпарить по памяти. Ли Бо, Ду Фу, тот же Бо-цзюи. Одни названия стихотворений чего стоят — «В лодке читаю стихи Юаня Девятого», «Я огорчен весенним ветром», «Покидаю цветы», «В опьянении перед красной листвой», «В дальнем зале дворцового книгохранилища».
Дети смотрят на него, недоумевают, какие такие китайцы? — челноки что ли? — тогда причем здесь одинокие гуси, летящие на юг, все эти крики обезьян, яшмовые вазы с цветами, бесконечные прощания на заставах, а где пуховики, слаксы, термосы? Полный абзац вышел.
Обиделся В.П., не стал больше просвещением низов заниматься, переключился на верхи. Но тоже, честно говоря, результатов особых не добился. У нас же, что вершки, что корешки — всё просветителю не сладко.
А мне уж тем более — не фронтовик, не совесть нации, даже трояк на опохмелку не тому Рубцову давал, — чего уж мне-то зимой из дому вылезать? Нет, лучше сидеть у камелька, записывать маргиналии в тетрадку и не выдавливать из себя раба по капле, а по капле наполнять кубок дней.
Только когда раздался третий взрыв, разворотивший виллу чиновника по особо важным поручениям, но не причинивший вреда ее обитателям, появился на свет указ о борьбе с анархо-синдикализмом, религиозным экстремизмом и антиглобализмом.
Местные Шерлоки Холмсы, вернее, старшие инспекторы Лэйстреды бросились искать злоумышленников. А бомбист, сделав свое дело, залёг на дно. Он отправил послание, — сумейте прочитать его, господа!
Властям придется учить язык террористов. Этот, может быть, главный язык рубежа столетий.
В это же время в амстердамском городском музее Стеделик арт-террорист Александр Бренер малевал на картине Малевича зеленой краской знак доллара. В полиции сей «перформанс» он объяснил противодействием коммерциализации искусства.
Раньше этот гадёныш гадил перед картиной Ван-Гога в московском музее им. Пушкина, дрочил пипиську на стройплощадке Храма Христа Спасителя, забрасывал банками с краской посольство Белоруссии и выделывал прочие злодейства, которые, пусть и с брезгливым чувством, но подробно хронометрировались солидными изданиями. А ему только того и надо было!
А надо было с Бренером поступить просто: подвесить за причиндалы, и пусть часами изображает бесплодие своего искусства, — высказал в приватной беседе наше общее мнение художник К., большой знаток Малевича.
Однако у искусствоведов на сей счет бытовало свое мнение: «Но для Бренера осознание фатальной вторичности своего искусства, как и осознание ограниченности тела в его возможностях, входит в правила игры. Это является рефлексией на неизменное восприятие при взгляде извне большинства явлений русского искусства как банальных. Маниакальное измерение своего пениса у Бренера, конечно, инсценирует русскую травму сравнения: художник выступает ее добровольным симптомом. Симптом — это и есть роль такого художника». (Е. Дёготь «Новые неудачники» журнал «Искусство кино» № 10 за 1996 г.)
И все достижения этого месяца можно перечислить на одном пальце одной руки: программа «Время» однажды открылась сообщением протоколиста.
Несмотря на все мои старания и усилия, мы с Флорой всегда оказываемся по разные стороны. Хотя бы — одного и того же презерватива.
Русский интерпретатор пишет, что Мишеля Фуко интересовала борьба индивидуума с господством «культурного бессознательного». В поздних работах он активно противопоставлял культурному тоталитаризму системы деятельность социально отверженных индивидуумов: безумцев, больных, преступников и, прежде всего, художников и мыслителей типа де Сада, Гёльдерлина, Ницше, Арто, Батая и Русселя.
Он высказывал мечту об идеальном интеллектуале, который, являясь аутсайдером по отношению к современной ему «эпистеме», осуществлял бы её деконструкцию, указывая на её слабые места и изъяны общепринятой аргументации. «Я мечтаю об интеллектуале, который ниспровергает свидетельства и универсалии, замечает и выявляет в инерции и требованиях современности слабые места, провалы и натяжки её аргументации, который постоянно перемещается, не зная точно, ни где он будет завтра, ни что он завтра будет делать», — писал Фуко.
Администраторше гостиницы «Интурист», стоящей на самом берегу совсем не бурного Терека, что-то во мне не понравилось с первого взгляда.
— Горячей воды у нас нет: авария, — сразу же заявила она в ответ на мое радостное «здрасьте».
— Ничего, помоюсь холодной, — бодро отпарировал я.
— Но у нас и отопление не работает, — добавила она.
— Это уже хуже. Но, надеюсь, в номерах не минусовая температура? — продолжал я всё еще бодрым тоном.
— Я туда не поднимаюсь. А вообще места у нас дорогие.
— Это тоже не страшно, все равно контора заплатит. Главное чтобы телефон работал.
— Телефоны есть в каждом номере, но работают ли, неизвестно.
— Ничего, лично проверю!
— Ладно, — сдалась, наконец, администратор, — Паспорт-то хоть у вас есть?
— Разумеется.
— Давайте его сюда. Он будет лежать у меня, пока вы не уедете.
Получив, наконец, ключи и найдя на 13 этаже нужную дверь, я первым делом включил свет в номере и посмотрел на себя в зеркало.
Красная от недельного пребывания на ветру и холоде рожа, несколько всклокоченная борода, но главное — глаза. Глаза человека, ушедшего от смерти, и теперь знающего о жизни нечто большее, чем обитатели теплых московских квартир. Человека, для которого слова «бомбежка», «снайперы», «незаконные вооруженные формирования» и проч. уже никогда не станут всего лишь фоном для застольной беседы или послеобеденного смакования сигары.
Этот животный блеск в глазах, видно, и уловила администраторша гостиницы на берегу Терека.
Лёва Т. говорил, что его французский приятель отметил, что всем нам присущ один недостаток: мы всегда думаем о негативном, ожидаем от судьбы только плохого. «А вы попробуйте думать в другом направлении, м.б. что-то у вас и изменится к лучшему», — советовал сердобольный француз.
Но у нас вряд ли это получится: апокалиптическое мышление, стремление к Царствию небесному, как к высшей справедливости. К тому же, если все думают о Родине и при этом поминают только плохое, что же хорошего из всего этого может выйти. Вот и получается — родина или смерть, расстрельные списки, чистки, гибель в горящем скиту.
Возле последней турбазы была настоящая пурга, выл ветер, в глаза сыпали соль снежного помола, подняли капюшоны, но и они мало защищали от холода. С Горы ссыпались стаи лыжников, подъёмники работали, но подниматься желающих не было, все бежали вниз, гонимые тенью мужичка в заячьем тулупчике, — ни зги не видно, барин! — надо было тоже поворачивать вспять, в лес, в протоптанную колею. Но Флора хотела кататься, и дулась, что не отнял лыжи у сыновей К., холод на неё не действовал, нос синий, кашляет, в глазах якобинский блеск: обещал — сделай, не можешь — зачем обещал?
Как только зашли в лес, стало легче думать и сразу осенило: в отсутствие лыж можно кататься на салазках, привел примеры из сытого сибирского детства, мол, и тогда, несмотря на все достатки и излишества, не брезговали прокатиться с горки на салазках. Попутно рассказал про круги замороженного молока, как их несут с базара под мышкой, разрезанное на секторы молоко, и ещё про бочки с солеными грибами: грузди, лисички, волнушки (насчет последних не загнул ли? память все-таки в тепле не та, что на морозе, в Сибири).
На Флору подействовало благотворно, она направилась на помойку. Возле университетских коттеджей (один снесло лавиной, с южного склона, такого в принципе быть не могло, но случилось, погибли люди, Андрей Юсупов через сутки столовой ложкой откопал в лавине девушку, её спасли, мою заметку публиковала «Комсомолка») была свалка пустых ящиков, банок из-под пива и проч. Флора нашла там картонный ящик и попросила меня порвать его на салазки. Получились 2 салазок, одни дал ей, другие взял с собой, про запас, на смену. Флора уселась на салазки и стала отталкиваться ногами, ехала с горки по лыжне зигзагами, ноги у нее слишком длинные, мешали равномерному скольжению, её мотало по сторонам. Она, естественно, выразила недовольство не собой, а салазками. Пришлось самому сесть на вторые салазки и показать ей как ездят «на самом делом». Спортивная натура, она сразу же стала соревноваться, она может быстрее, сильнее, краше и выше, — сталинский сокол в юбке, в смысле, в джинсах, что с неё возьмешь? Пришлось кататься на пару, сзади бежали лыжники, кричали освободить лыжню, мы вскакивали, прыгали в стороны, проваливаясь по колено в снег, потом отряхивались и снова катились.
Люди в разноцветных лыжных комбинезонах с любопытством смотрели на двух придурков, спускающихся к посёлку на обрывках картона. Одна лыжница резко затормозила, узнала Флору, вытащила из куртки блокнот, попросила автограф. Флора царственным жестом черканула что-то в блокноте и, возвращая его, пожелала «счастливой колеи» лыжнице. Настроение у неё явно улучшилось, остаток дороги она напевала что-то на мотив своей любимой «Барселоны», одновременно подражая Фредди Меркури и Монсерат Кабалье.
А по посёлку на следующий день поползли слухи, что богема теперь катается исключительно на салазках.
ВЕНОК НАВКРАТИДСКИЙ, или АПРЕЛЬСКИЕ МЕРЦАНИЯ
Художник-модернист Г. утверждает, что создание настоящего концептуального произведения, будь то литературный текст или живописная композиция, возможно лишь при следовании определенным принципам и идеям. Мне же представляется, что проблема заключается не столько в идеях и людях, сколько в резервах свободного времени и знании современного фольклора.
У нас возникает небольшой спор, в результате которого художник Г. удаляется в свою мастерскую. Оставшись один, вытаскиваю из-под дивана старую пишущую машинку, вставляю в нее чистый лист бумаги. И начинаю.
Первым среди концептуалистов вспоминается Лев Толстой, предпринявший попытку полностью запечатлеть свой день. При помощи слов, образов, с привлечением воспоминаний о мыслях и чувствах. Зафиксировать на бумаге единственный день, самый обыкновенный, с точки зрения календаря.
Художественная задача необыкновенно проста: подробно описать всё, что с тобой происходит в течение рядового дня. Однако Толстому она оказалась не под силу.
Шестичасовая сводка новостей по ТВ: продолжается извержение Этны, ракетами «Алазань» обстрелян вертолетный полк в Цхинвали, тело переданного азербайджанской стороной армянина было заминировано, в бостонском марафоне победила бегунья из Петербурга. Несколько раз Миткова упомянула наше агентство.
Мою информацию не разу не упоминали по ТВ. Только по радио и на газетной полосе. Разумеется, это не причина для всемирной тоски. Но легкий привкус горечи появляется.
Завтра 22 апреля 1992 года. Раньше обязательно связали бы этот день с главным большевиком. Теперь же это обыкновенная страстная среда. Sictransitgloriamundi! (Так проходит слава земная! — лат.)
А ведь он написал «Апрельские тезисы»! Это был единственный доступный ему род мерцаний.
Постепенно мерцания приобретают тяжеловесный характер. Вероятно, это объясняется невидимым присутствием монументального Толстого.
Мерцания становятся фундаментальными. Вместо фунта ментальных.
Галчинский: «Если бы у меня было одиннадцать шляп».
А одиннадцатую шляпу ветер пусть сорвет с меня
на Висле,
Потому что одна краковская поэтесса сказала обо
мне такие слова:
«Это голова не для шляпы. Монументальная голова!»
(Пер. Л.Мартынова)
Лучшее средство при неудачах, дурной погоде и тоске — чтение польских поэтов. Коньяк и польские поэты примиряют с неудобствами в путешествиях по собственной жизни.
В соответствии с литературными канонами надо бы писать — водка. Но от нее болит голова.
Только коньяк: прохладненский, дагестанский (пряный), армянский («три звездочки», обычно продавался в «верхнем» гастрономе только 31 декабря) и др.
И польские поэты: Константы Ильдефонс Галчинский, Юлиан Тувим, Ивашкевич (то стихотворение, где он обращается к другу, живущему в парижской эмиграции), Чеслав Милош (сплошная апологетика скитальчества). А ещё — Павликовская-Ясножевская, Броневский, Харасимович.
Они тоже были несчастны и бездомны. И страдали от мыслей о Родине. Как и ты. В твоей ситуации, сказал бы художник-концептуалист Г.
Темнеет, хотя под вечер небо немного прояснилось. Прошел дождь, которого не заметил.
Сегодня выходил на улицу один раз: купить газеты. Больше там нет ничего интересного.
Разве что иногда встречаются длинноногие существа, именуемые девушками. Но для них ты уже старик. Или еще хуже — дядька: неопрятный, грузный, с плохой прической, в старых башмаках. Уличная декорация с газетами под мышкой.
Днем приходила соседская девочка. Хотела занять денег и для этого спрашивала тещу. Той не было. Согласилась объяснить свою нужду мне. Когда дал ей пять рублей, обрадовалась и сказала, что обязательно вернет. Я сделал вид, что страшно рад, что оказался хоть чем-нибудь полезен.
Эти дети (она и сестра), а также из мать считают меня нелюдимом. Сидит целыми днями дома. Нельзя всласть попользоваться телефоном. И вообще — малоразговорчив, замкнут, взгляд не лучится.
И не ведают они, как устал я от благоглупостей родных палестин.
Эти нескончаемые пустые разговоры в очередях и транспорте, где каждый пытается казаться на пять порядков лучше, чем есть на самом деле. Но стоит только обернуться не по его, как сразу наружу вырывается фонтан злобы, словно из незатухающей скважины.
Только чтобы не видеть каждый день персонажей советских Каприччос, я бы согласился перебраться на необитаемый остров.
Мой школьный товарищ Атешек мечтал разучиться говорить, чтобы не общаться с совками. Он закончил философский факультет ЛГУ. Работал рабочим-термистом на Ижорском заводе.
Несколько лет назад мы случайно встретились. Разговаривать было не о чем. Он сказал: «Ты делал большую карьеру, чем я». Тогда я служил в «Кабардино-Балкарской правде». Видимо, на него подействовало название отдела — идеологический (я был единственным беспартийным в идеологическом отделе партийной газеты). Но все равно: стоило ли работать термистом, чтобы так говорить?
Мерцания должны быть краткими. Только так можно запечатлеть откровения. Разматывание образа, его словесная обработка, убивают правду. Остается одна литература.
А мерцания — это запечатленные мгновения истины.
И вообще, любое творчество — это игра со временем. Попытка его остановить, забежать вперед, назад, законсервировать понравившийся отрезок, присыпать его сахаром или перцем.
Бесконечные игры со временем.
Подходит собака и становится на задние лапы. Она хочет играть. Сегодня целый день сижу за письменным столом и не обращаю на нее внимания. Оставляю без внимания и на этот раз.
Собака лезет под диван и выползает оттуда с копеечкой в зубах. Кладет монетку у моих ног. Преданно смотрит в глаза и ритмично стучит хвостом по полу. Приходится взять ее на колени.
Пишу эти строки с собакой на руках.
Дама с горностаем. Писатель с дворняжкой. Милиционер с фуражкой. Персонажи нашей портретной галереи.
Бедная собака, она чуть не свалилась на пол, когда подсматривала, как меняю лист в машинке.
Болезнь горла заставляет искать тетрациклин. Для моего фарингита это лучшее лекарство. Обычно у меня в каждом углу хранится его по облатке. Но недавняя хворь жены поглотила все запасы. Пришлось довольствоваться полосканием раствором бикарминта.
Через час-другой горло опять напомнит о себе.
Пока же с освобождением от неприятных ощущений приходит мысль, что для нашего брата болезнь горла так же обычна, как ревматизм (или артрит?) для балерин. Во всяком случае, между писательством и нездоровым горлом есть какая-то связь.
Когда-то по этому поводу собрал целую коллекцию имен. Сейчас в памяти всплывают только печальный образ Венечки Ерофеева да портрет Фолкнера с суперобложки «Литпамятников».
Сергей Аверинцев в соображениях о сущности иконы говорит, что она есть изображение божественности, просвечивающееся через человеческую природу.
Греческое слово «икона» означает образ, отображение, подобие, изображение.
«Вещи явленные суть воистину иконы вещей незримых», — учил в пятом веке Дионисий Ареопагит.
По словам Гёте, все преходящее есть лишь подобие.
На языке теологии каждое творение рук Божиих — есть «икона».
Мерцания — икона того, что в обиходе называют искусством и жизнью.
Вечерняя прогулка с собакой — обязательный ритуал завершающей части суток.
На перекрестке возле нашего дома, освещая округу, горит единственный фонарь. При приближении к перекрестку одинокие фигуры прохожих, светлые стены домов, группы обнаженных деревьев выглядят декорациями к некоему спектаклю.
Пока подбираешь ему название — «…Фонарь. Аптека»? «Палата № 6»? «Вечный град»? — сам становишься частью декорации. А став частью, не замечаешь целого.
Сцена поглощает тебя, как поглощает ночной парк собаку.
На полпути из одного ресторана в другой подвыпившая компания обсуждает, куда подевалась сумка одной из девиц.
В ночной тишине раздается хорошо артикулированный голос: «Когда знаешь, что идешь на пьянку, не бери с собой сумку!»
Это более опытная подруга делится советом с молодой разгильдяйкой, только ступающей на путь ночных забав.
И странная эта фраза, долетев до тебя, мгновенно примиряет с действительностью, с улицей, с человеческой массой. Ее подлинность гарантирует защиту от дурацких обвинений в отрыве от народной жизни, в бесплодных скитаниях по Библиотеке, дружбе с душевнобольными (с Глебом и Иванычем).
— Неправда, — можешь сказать всем. — Я знаю жизнь. И могу любому дать важный совет.
— Какой? — спросят все.
— А такой: если идешь на пьянку, не бери с собой сумку. А коли уж взял, положи туда бутылку водки, тогда никогда не потеряешь ее.
Ночной выпуск «Вестей»: в Москве за доллар дают 150 рублей, президент Наджибулла бежал в Дели, закончился очередной съезд народных депутатов России — ничего не произошло.
Опять упомянули наше агентство. На этот раз его информацию опровергло постпредство Азербайджана. Но в отличие от предыдущего это упоминание не вызвало кризиса самолюбия. И не потому, что «НЕГУ» помянули в негативном ключе, а потому, что пришло понимание: или — или.
Или поиски информации. Или проза и сюжеты для кино.
Сержант…
Воинское звание, до которого ты дослужился. Ты был последовательно: рядовым, младшим сержантом и, наконец, стал сержантом. Это твой предел.
Где-то в архивах Министерства обороны хранится личное дело, где определен твой предел — сержант. Никакие твои дипломы и известные достижения в области составления поэтических антологий не позволят выйти за него.
С общественной точки зрения это весьма целесообразно: у каждого должен быть предел, отпускаемой ему власти.
Тебе определили — сержант, командир диверсионной группы. И сделали вид, что забыли. Почти двадцать лет никуда не вызывают, ничего не приказывают взорвать или уничтожить. И это разумно, очень разумно: можно только гадать, куда направит свою диверсионную группу командир, закончивший университет и вгиковскую мастерскую Фигуровского.
В чём-чём, а в знании жизни ребятам из Минобороны тоже нельзя отказать.
Ночь приходит незаметно. Как старость. Как слабость. Как пустота.
Ей еще предстоит обогатиться сновидениями, возней невидимок на кухне, скрипом тормозов на улице, поллюциями, запахом сердечных лекарств.
Но это все будет потом, когда она созреет, сконденсируется, заматереет.
Пока же это слабое существо, без воли, без хребта, без почек. Солнце без тепла. Кровать без матраца. Чай без заварки.
Ночь — как прекращение мерцаний.
Ночь — естественное завершение дня.
То, что не удалось сделать Толстому, никогда не удастся сделать и тебе. И никому.
Бесконечность нельзя разместить на пронумерованных страницах.
Но ее можно, как говорят математики, экстраполировать, то есть воссоздать целое по его частям. Совершенство экстраполяции зависит от точности выбора контрольных точек. По-нашему — мерцаний.
У Анакреонта есть стихотворение:
По три венка на пирующих было:
По два из роз, а один —
Венок навкратидский.
В примечаниях к тому «Античной лирики» (БВЛ, издательство «Худ. лит.», 1968 г., тираж 300 000, цена 1 руб. 29 коп.) сказано, что об особенностях навкратидского венка никаких сведений нет, т.е. никому не известно, из чего он делался, как выглядел, для чего его надевали. Ничего неизвестно.
Никто не может сказать, символом чего являлся венок навкратидский. Но то, что к нему применимо греческое слово «икона» — несомненно.
А коли так, почему бы не возложить его на чело и не отправиться на пир?
Пусть на ком-то будет по три венка. По четыре. А на иных, как на Брежневе медалей — по пять и более. Тебе достаточного одного. Навкратидского венка.
ФЛОРА: МАЙСКИЙ БУКЕТ
Мне скучно! Пусть приходит Флора.
Пьер Ронсар
Туркин в наставлении молодым драматургам писал, что существует всего 36 (прописью — тридцать шесть!) сюжетов, и все произведения являются лишь комбинаторными спряжениями их.
Почему же в личной жизни мы выбираем не самые лучшие из них? Неужели нельзя удовлетвориться хотя бы теми четырьмя, что выделяет Борхес: об обороне и штурме укрепленного города, о возвращении домой, о поиске неведомого и, наконец, о самоубийстве Господина Б.? Конечно, в таком случае всегда найдется некий станционный смотритель, который запишет твою жизнь бронзой на скрижалях.
Но разве это будет более простой выход из положения, чем тот, которым теперь приходится заниматься тебе — повествовать бесхитростным слогом свою замысловатую одиссею?
Печаль моя светла…
Как бы не так! Печаль моя темна, кареглаза, горбоноса и лунолика. Печаль моя словно бы сошла с гравюры Хокусая и материализовалась в пространстве сизых предгорий.
Она держится от меня на расстоянии чуть большем вытянутой руки. А чтобы не возникало сомнений в ее подлинности, временами проступает на фоне ста видов на Фудзияму. Или тревожит слух еле слышным шелестением своих юбок, нечаянным трением колготок или ночным постукиванием каблучков. А бывает — щекочет ноздри запахами Сони Риккель.
Ким Бессинджер признавалась, что целоваться с Мики Рурком — всё равно, что лобызать старую пепельницу. И что же? Вы думаете, это подействовало на большинство моих современников, завороженных их слюнявыми ласками в фильме «9 с 1/2 недель»?
Ничуть не бывало! Из всех любителей кинематографа только я один после этого бросил курить и стал чаще одного раза в день чистить зубы. Со стороны могло показаться, что именно мне предстояло сменить Рурка на круглосуточной вахте возле тела Бессинджер! Так нет же! Просто всему причиной была излишняя впечатлительность, присущая моей натуре.
Ибн Хазм в «Ожерельи голубки» пишет, что мысли женщин ничем не заполнены, исключая сношения и побуждений к ним, любовных стихов и вызвавших их причин, а также любви со всеми ее проявлениями. Причем, располагает плоды женской мысли именно в такой последовательности. «У них нет дела, кроме этого, и они не созданы ни для чего другого», — авторитетно заявляет арабский знаток нравов своего времени.
Зато мужчины — иное дело, отмечает Ибн Хазм. Они делят свое время между наживой денег, близостью к султану, стремлением к науке, заботами о семье, тяготами путешествий, охотой, всевозможными ремеслами, ведением войн, участием в смутах, перенесением опасностей и устроением земель.
— Она же безголовая, как Ника Самофракийская!
Во сне оказываюсь в родной стихии — герилье.
Партизанский отряд прячется в сельве от правительственных войск и американских рейнджеров. Здесь находится заброшенная двухэтажная вилла, построенная в колониальном стиле. На ней мы и скрываемся, полагая, что буйная тропическая растительность не позволит засечь нас с воздуха ни самолету, ни вертолету, а о том, чтобы проехать к вилле на бронетехнике, не может быть и речи.
И все-таки церэушники находят способ обнаружить партизан. Они через спутник под разными углами посылают сигналы на окна заброшенной виллы. И делают это до тех пор, пока на их мониторах не возникает изображение субкоманданте в фиделевской фирменной куртке и с кубинской же сигарой в руке. Субкоманданте вместе со своей подругой — нашей переводчицей, — потягивают матэ за столиком под сенью баобабов. По этому поводу оперативники и аналитики CIA устраивают настоящее ликование, со всеми положенными у них в подобных случаях выкриками, типа «Й-е-е-с» и «Мы сделали это!».
Мы же с другими партизанами выступаем в роли подсматривающих за подсматривающими — или, если угодно, независимых наблюдателей! На своём компьютере, установленном на этой самой вилле, мы видим всё, что происходит за тысячи километров от нас, в Лоэнгли.
«Вот теперь-то и начнётся второй тайм», — говорю товарищам по оружию, прежде, чем проснуться на другом материке и в совершенно других погодных условиях.
А окончательно проснувшись, тянусь к радиоприемнику, узнать, как там дела у субкоманданте и всей нашей группы.
И никогда, — о, боже! — никогда мы не прокатимся вместе по городу на одном велосипеде. Ты никогда не будешь сидеть спереди меня на раме, а я не буду бешено крутить педали и орать от счастья во всю глотку песни восточных славян. И твои распущенные волосы не будут щекотать мне подбородок и лоб. А мои колени не будут как бы случайно касаться твоих разгоряченных бедер!
Ничего этого не будет: ни велосипеда, ни пахнущего поцелуями майского ветра, ни завистливо глядящих нам вслед подростков, моралистов и калек, ни вращающегося вокруг нас солнечного города.
Мы слишком стары (и слишком устали, — добавил бы русский Пьеро) для велосипедных прогулок на свежем воздухе.
Мы ездим на свидания на случайных такси, чтобы затруднить работу соглядатаям.
По дороге в сад меня сопровождают толпы едоков картофеля. Словно сошедшие с ранних полотен Ван-Гога, они разбредаются с автобусной остановки по своим садовым участкам.
Если этих людей с водянистыми глазами, выступающими вперед челюстями и свисающими ниже колен руками имел в виду Вольтер, когда говорил, что надо возделывать свой сад, то я отказываюсь от почётного звания вольтерьянца. А вместе с ним от садового участка в престижном пригороде и возможности иногда погреть старые кости на солнышке.
Мне нравится вкус ее клитора.
Есть несколько известных способов избавиться от несчастной любви. Прежде всего, рекомендуется завести новую любовь, а если быстро этого сделать не удастся, то надо постараться забыться в смене женщин, в надежде, что их суммарные прелести затмят образ коварной дамы сердца. Но последний путь не ведет к полному искоренению душевной смуты. И вот почему. Все дамы, принадлежавшие некоему субъекту, образуют своеобразный математический ряд. Каждый член — какая милая инверсия! — данного ряда хотя и отличается в чем-то от других, но в тоже время, поскольку находится в общем ряду, обладает и множеством сходных свойств. Кроме того, ни один член математического ряда не может кардинально отличаться от общей формулы ряда, следовательно, ни одна дама не может полностью затмить предыдущую, последующую, минус третью и т.д., она может принести забытье только на время, отведенного ей периода, и не более. Так математика мстит Дон-Жуану.
— Я не помню, про Медею ты мне рассказывал, или этот, как его?…Эврипид?
Хеэ-но суке Таиро-но Садабуми по прозвищу Хэйдзю изобрел собственный способ избавления от несчастной любви. Был он отпрыском родовитой японской семьи, внуком принца крови. А ко времени случившегося с ним любовного несчастья еще и начальником стражи Левых ворот императорского дворца, составителем поэтической антологии «Хэйдзю-моногатари», красавцем, пользовавшимся благосклонностью большинства придворных дам.
Однако госпожа Дзидзю, фрейлина Левого министра, упорно отвергала его ухаживания. «У него до этого были романы с многочисленными женщинами, но такой злой, насмешливой особы ему не встречалось. Ведь как-никак она отвергла Хэйдзю, известного своей красотой и любовными приключениями. Обыкновенно большинство женщин, стоило им услышать его имя, с готовностью покорялись ему, и не было ни одной, которая обращалась бы с ним так сурово, как эта», — пишет Дзюнъитиро Танидзаки, из романа которого «Мать Сигёмото» мы позаимствовали данный пример. Хотя его можно также встретить в антологиях «Кондзяку-моногатари», «Удзисюи-моногатари» и даже в новелле Акутагавы Рюноске.
Натерпевшись от госпожи Дзидзю всевозможных оскорблений и уколов, Хэйдзю решил отыскать в ней какие-либо изъяны, которые бы помогли развеять чары холодной и насмешливой красавицы. Конечно, подумал он, она по-настоящему красивая женщина, но то, что она выделяет по утрам в результате естественных процессов, вряд ли отличает ее от простых смертных, и если удастся выкрасть ее ночной горшок, то его содержимое непременно вызовет отвращение.
Хэйдзю подкараулил служанку, выносившую по утрам из покоев ночные горшки, и заставил отдать ему о-мару фрейлины. Когда он открыл крышку, благоуханный запах, напоминающий запах гвоздики, ударил в нос. Внутри о-мары он увидел золотистую жидкость и какое-то вещество темно-желтого цвета. Обезумевший Хэйдзю исследовал содержимое ночного горшка, и понял, что жидкость была соком гвоздики, а твердое вещество — не иначе как бататом и благовонием, настоянным на соке подснежника, — эта смесь была вложена в полую рукоятку большой кисти и выдавлена в о-мару.
«В таком непростом деле проявить подобную изобретательность, замыслив еще сильнее очаровать мужчину! Какое изящное остроумие, эта женщина поистине не может быть земным существом», — воскликнул пораженный Хэйдзю. Он уже не мог отказаться от нее, и тоска его стала еще более невыносимой, пишет Дзюнъитиро Танидзаки. После этого случая госпожа Дзидзю становилась все более высокомерной и жестокой, и, в конце концов, несчастный Хэйдзю занемог и умер в страданиях.
Стоит отметить, что некоторые старые авторы склонны видеть за действиями госпожи Дзидзю тень коварного Левого министра Сихэя, а драму Хэйдзю рассматривают как оборотную сторону любовного треугольника.
Все участники нашей экспедиции занимаются определенными изысканиями: она исследует общественное мнение, я — штудирую топографию её ложбин и холмов, они — изучают моё времяпрепровождение. Поэтому всех нас, в самом широком смысле, можно считать исследователями и даже учеными разных направлений.
«Ученые твари», — бормотал незнакомый мужичонка, отходя от специализированного (были такие в наше время!) магазина, где ему объяснили, что интересующие его напитки продают только после 14 часов (и такое тоже было!).
— Ты меня совсем не слушаешь. Ты где пребываешь?
— В этом месяце? В мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок, как писал когда-то один чувак. Потом ему дали «нобеля» и все стали на него молиться.
О Флоре писали многие литераторы на самых разных языках, не только я один со своим скрипучим и колючим. Так, что все разговоры о моем стремлении заретушировать ее облик и пустить общественность по ложному следу, следует относить по разряду досужих домыслов. Все обстоит совершенно не так.
Эзра Паунд, например, так описывал свои впечатления о встречах с ней:
Ребятишки в драных одежках,
Внезапно осененные необычной мудростью,
Прекращали свою возню, когда она проходила мимо,
И кричали ей вслед с плоскодонок:
«Guarda! Ahi, guarda! ch»e be’a!»
(Глянь-ка, глянь, какая красавица! — итал.)
Фолкнер сообщал следующее: «Она с пятнадцати лет одной своей походкой распаляла в округе всех мужчин моложе восьмидесяти лет».
А Веня Ерофеев черканул без затей: «30 лет, а выглядит как цветочек, как блядиолус какой-нибудь». После моего указания на неблагозвучность последней фразы, Венедикт Васильевич извинился, сославшись на действие кориандровой, и поправился: «Добродетель ее подвергается частым нападениям по причине миловидной наружности. Но она, эта белая голубка, скорее умрет, чем запятнает свое оперение».
После этого мы с ним соорудили коктейль «Слеза комсомолки» и незамедлительно выпили за наших голубок, то есть комсомолок, в смысле — б.комсомолок, в общем, за неувядающие цветочки. Короче, за Флору и весь цветник нашего сада. Стоя. До дна.
На этом месте должен был находиться фрагмент, содержащий размышления автора о тоталитарных коннотациях слова «кончать» (в смысле — эякулировать), равно как и всех его синонимов в русском языке. Но по просьбе чувствительных особ противоположного пола он был снят внутренним редактором на этапе подготовки рукописи к печати.
Однако в тексте полного собрания сочинений автора предусмотрено восстановление всех когда-либо сделанных купюр, вне зависимости от того, когда, кем и с какой целью они были произведены. В конце концов, мы же филологи, говорила в подобных случаях Анна Андреевна Ахматова.
— Всю неделю, что меня не было в городе, шёл дождь?
— Да, я заказал природе траурную мессу по случаю вашего отсутствия!
Две радуги проложили над городом воздушный мост. Под ним снуют люди с черными зонтами и, шурша шинами и разбрызгивая по сторонам дождевые потоки, катят чёрные автомобили. А занятый своими мыслями Господин Б. проходит по небесному мосту, не замечая устремленных к нему глаз бродячей собаки.
В дальний аэропорт нас подвозил занимавшийся частным извозом беженец из южных параллелей.
— Муку запасайте, сахар и масло, — учил он нас по дороге, — А мясо, овощи, фрукты — дело второстепенное. Будет мука и сахар — выживете!
— Так, ведь, у нас, слава Господину Б., спокойно!
— Не успокаивайте себя. Если они уже за вайнахов взялись, не остановятся, пока весь Кавказ не подожгут.
Во Флоре поражает ее умение сохранять невозмутимость в самых пикантных ситуациях. Предметом особой ее гордости является не очаровательная внешность, не умение вести непринужденную беседу со всяким в той или иной мере достойным того, не обширные познания в гуманитарной сфере, и даже не постоянная веселость, впрочем, более обусловленная прекрасным здоровьем, а именно способность управлять своими страстями, оставаться внешне спокойной в любой самой пиковой ситуации.
Вот уж воистину — «в горящую избу войдет, коня на скаку остановит». И что самое поразительное, ни капли русской крови нет в этом осколке горных пород. А певец и выразитель державного духа проводит лучшие часы своей жизни в её обществе, пьет с ее губ воспоминания о татарских всадниках, половецких плясках и давних скитаниях по этой же местности поручика П.
Монтень писал, что если в тебе воспылает буйное и неудержимое желание, то постарайся излить накопившуюся жидкость в любое подвернувшееся тело.
Чтобы не становиться рабом своего желания и не совершать ещё более безрассудных поступков, — специально разъясняю тем, кому нужно всё разъяснять. Вот только не знаю, должны ли они тоже безоговорочно следовать советам классика. Или это исключительно наша прерогатива, — переписчиков старинных книг, составителей антологий, каллиграфов компьютерных сетей и путешественников по винным картам.
И ещё очень славно днем целоваться с Флорой на скамейке перед Правительственным домом. На зависть всей чиновной братии посадить ее к себе на колени и считать поцелуи, коими она расплачивается за проигрыш в старинную любовную игру «сапожок».
— Вы не верите в судьбу, дорогая? Не замечаете того, что она постоянно сводит нас вместе?
— Я верю в судьбу! И именно поэтому не могу поверить, что она позволяет себе столь необдуманные поступки!
Сьюзен Зонтаг пишет о режиссере Алене Рене, что он знает всё о красоте. Но его фильмам недостает внутренней энергии, прямоты адресации. Они не достигают дна — идеи ли, эмоции ли, вызвавшей идею к жизни. А это именно то, что входит в обязанность всякого великого искусства, отмечает исследовательница.
А с него что возьмешь? В смысле — вечного, чистого, гуманистического и общероссийского. Если он уже в первый вечер умудрился написать фломастером на её заднице: «Мои комплексы неполноценности гораздо ужаснее ваших, дорогая Флора!».
Представляете, какого размера была эта грифельная доска?
Все мы хотя бы однажды были именинниками. Но будем ли мы ими ещё раз, известно лишь Господину Б.
Когда мы с собакой гуляем в скверике Свободы, встречаем молоденьких студенток-медичек, спешащих на занятия в университет. Они бурно делятся впечатлениями:
— Нам так понравилось на улице Матросова! Вот где живут настоящие мужики — обязательно подойдут и приколятся! Мы теперь будем ездить сниматься только на улицу Матросова!
Вот, уважаемые дамы, ключ к решению многих ваших проблем: в трудную минуту поезжайте на улицу Александра Матросова. Специально искать там никого не надо, вас самих найдут и постараются сделать счастливыми. Кто-нибудь да бросится грудью на трепетную амбразуру. Надо только не противиться своему счастью.
В старости я буду молить Господина Б., чтобы он не делал из меня посмешище, волочащееся за каждой хорошенькой юбкой.
Буду просить Его быть снисходительным к моим сединым и длинному амбулаторному списку. А посему выпускать на охоту только за совсем уж откровенными мини-юбками.
— Ни фига себе, — сказала Флора, увидев у меня на столе стопки философских журналов, — Ты, в самом деле, всё это читаешь?
— Ага. Ведь философия — это рок-н-ролл нашего времени.
— Впервые слышу. Почитай мне что-нибудь.
— Ну, если так хочешь…
Я стал перебирать журналы, открывая их на заложенных страницах.
— Вот, нашёл. Статья профессора Кнабе о постмодернизме. Кстати, Георгий Степанович читал лекции у нас в институте.
— Если бы я знала, кто это, то поздравила бы тебя. Или выразила соболезнование. А так — промолчу и сделаю умное лицо.
— Он крупнейший специалист по Древнему Риму. Но в последнее время много пишет о современной культурологической ситуации.
— Как говорится: почувствуйте разницу?
— Не совсем. Скорее, находит что-то общее в случаях распада империй… Ты слушать-то будешь?
— А что я, по-твоему, делаю?
— Ну, так, слушай: «Весь грандиозный период в истории культуры от Достоевского и Ницше до Леннона и Саган завершился событием, вышедшим далеко за свои реальные политические рамки и приобретшим масштаб исторический и философский — майскими баррикадами 68 года в Париже.»
— 68 года какого века?
— Нашего: двадцатого!
— Господи, меня тогда ещё на свете не было!
— Там родились три взаимосвязанных импульса, которые, попав вскоре на философский факультет Франкфуртского университета, обрели генеалогию и контекст и превратились из трех импульсов в три идеи, изменившие если не современный мир, то его философское самосознание и положившие конец единой тональности послегегелевских умонастроений.
— Что значит «послегегелевских умонастроений»?
— Веры во власть разума, торжество формальной логики. Слушай дальше:»Первая из трех идей состояла в том, что окружающая капиталистическая действительность, неприемлемая и отрицаемая, представляет собой не что-либо новое, созданное переживаемым временем, а закономерный итог исторического развития Западной Европы на протяжении, примерно, последних трехсот лет. Суть и итог этого развития были вскоре охарактеризованы как «безусловное, неограниченное господство: 1. свободного от этического измерения естествознания, 2. всемогущей «большой» техники, 3. разрушающей окружающую среду промышленности, 4. чисто формально-правовой демократии». Соответственно дальнейшее движение к миру, если не лучшему, то по крайней мере выносимому, требовало освобождения от этого комплекса, который получил наименование die Moderne -«модерн», и мыслимо было лишь в рамках альтернативной к нему системы, следовательно — die Post-Moderne, «постмодерн».
— А вторая?
— Вторая идея состояла в том, что революционное отрицание капиталистического миропорядка, отождествляемого с «модерном», принадлежит этому же миропорядку. И капиталистический «модерн», и опыт борьбы с ним сливаются в глобальности своих претензий, своей картины мира и рецептов ее исправления, тем самым — в невнимании к отдельному, данному, всегда неповторимому человеку, следовательно — в господстве над ним глобальных схем и, значит, в насилии над ним. Далее он пишет, что ещё Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно в «Диалектике Просвещения» (1947) …
— Не вижу связи между 1947 и 1968 годами?
— Впервые «Диалектика Просвещения» была издана сразу после войны, но тогда осталась почти незамеченной. Второй раз её переиздали после событий 1968 года, и все поразились ее актуальности. Так, вот Хоркхаймер и Адорно утверждали, что логика, лежащая в основе просветительского радикализма, есть логика господства и подавления. Страсть к господству над природой породила страсть к господству над человеком, что могло привести, в конце концов, к кошмару самоподавления. Бунт природы, в котором они видели единственный выход из тупика, должен был быть понятым как бунт человеческой природы против гнетущей силы чисто инструментального разума и его господства над личностью и культурой.
— Бунт человеческой природы — это мне понятно.
— Не сомневаюсь. Третья идея заключалась в том, что традиционная высокая культура несет указанную унифицирующую всеобщность в себе, растет из истории, к этой унификации приведшей, и потому репрессивна по свой сути. Усмотрение в ней престижной ценности есть черта всё того же тоталитарного общества «модерна».
— Значит, когда ты заставляешь меня слушать «Волшебную флейту», ты подвергаешь меня репрессиям? Я это всегда чувствовала! Но не могла выразить.
— А вот как выразил это оксфордский профессор Терри Иглтон:»Мы переживаем сейчас процесс пробуждения от кошмара модернизма, с его инструментальностью разума и фетишизацией тотальности, и перехода к плюрализму постмодернизма — этому вееру разнообразных стилей жизни и разнородных игровых кодов. Наука и философия должны освободиться от своих грандиозных метафизических претензий и взглянуть на себя с большей скромностью как на ещё один возможный набор текстов».
— Вот это классно: «с большей скромностью»!
— Далее Кнабе делает вывод: «Постмодерн несёт в себе признание исчерпанности моей культуры, но не самой культуры, сознание того, что великая гуманистическая традиция Европы тебя, кажется, обманула, а иной тебе не дано, но не означает исчезновения ни принципа культуры, ни принципа будущего, предполагает серьёзность и мучительное раздумие над тем, что будет дальше.» Ну, как тебе?
— Прикольно! Слушай, дай мне что-нибудь почитать.
Примерно так состоялось вступление Флоры в закрытый клуб читателей Монтеня и Фуко. А недавно она уже стащила у меня «Письмо и различие» Дерриды.
НОЧНАЯ СТРАЖА: ИЮЛЬ
Ангелов я видел только однажды. Это было накануне моего сорокалетия, весной. Мы с художником Г. стояли на углу Кабардинской возле здания редакции еженедельника «Северный Кавказ», где я тогда служил. Было еще довольно прохладно, и люди ходили в демисезонных пальто или зимних куртках. А эти трое мальчишек, — я их сперва принял за обычных мальчишек! — были одеты не по погоде легко: в чем-то похожем на тренировочные костюмы. Они шли по направлению к нам со стороны автобусной остановки, из толпы уличных зевак их выделяла некая отрешенность, неторопливость движений и несвойственная весенней поре чистота одежд. И, конечно, лица — белокожие, с выпуклыми лбами, тонкими чертами и ясными бирюзовыми глазами, — сразу обратили на себя мое внимание.
Самое удивительное было в том, что, похоже, их видел только я один. Даже художник Г., увлеченно рассказывавший о своих концептуальных проектах, не заметил их и тогда, когда они почти вплотную подошли к нам.
«Всё не так плохо, как кажется», — сказал один из них, поравнявшись со мной. «ОН тоже начинал с нуля», — сказал другой. «Ты должен видеть всё, что видят все и думать так, как не думает никто», — сказал третий. «Но почему именно я?» — спросил я. «Потому, что только ты видел все мои работы, и можешь адекватно описать их», — сказал художник Г. «Но я, собственно, не об этом…» — сказал я. «Какой ты все-таки несобранный! — воскликнул Г., и дружески похлопал меня по плечу, — Ничего работа над каталогом заставит тебя по-иному взглянуть на мир!».
Между тем вестники уже сворачивали за угол, бежать за ними с расспросами было бессмысленно. Надо было просто готовиться к следующей встрече.
Июльская ночь на Кавказе многослойна, тревожна и притягательна как «Черный квадрат» Малевича.
Как на холсте 1913 года, в ней присутствует всё: сон и явь, утверждения и отрицания, тишина и грохот небес, коварство и любовь, песок и кровь, время и бытие, дерзновения и покорности, древние греки и современные латиноамериканцы, кошки и собаки, перси и лядвия, ложки и вилки, собрания сочинений и разрозненные рукописи, лодки и плоты, шепоты и крики, лекарства и примочки, короли и капуста, овощи и плоды, эмали и камеи, города и веси, горы и долины.
Пенал комнаты с распахнутой балконной дверью — слуховой аппарат, направленный в шум и ярость ночи. Стетоскоп, приставленный к чреву беременной новым днем вселенной. Локатор, шарящий по спутанным волнам летнего эфира.
И человеку слышится: кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новгороде, в разлуке есть высокое значенье: любовь — есть сон, и рано ль, поздно ль пробужденье, а должен, наконец, проснуться человек, весь же англосаксонский мир, как и управляемый коммунистической доктриной Восток, находятся под влиянием идеала Просвещения, то есть под влиянием веры в осуществляющийся посредством человеческого разума прогресс культуры, за минувшие сутки федеральные войска девятнадцать раз подвергались обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований, трое военнослужащих убито, четверо получили ранения, ответным огнем уничтожено семь боевиков, я ему сказала «нет», я согласна только на до-ре-фасоль-ля-си-до, политика привлекает тех, чей оргазм — некачественный, ущербный, прерванный или преждевременный, ходил инкогнито по Невскому проспекту…
«Черный квадрат» — апофеоз одиночества, бездомности и отщепенства.
С некоторых пор русская литература вызывает у меня аллергию: бесконечные слезы и жалобы на всех и вся, и эта дикая, ничем необоснованная и необъяснимая, почти языческая вера в благосклонность Создателя к России, — вот, собственно, и вся история русской литературы в самом кратком изложении. Отец Павел Флоренский в разговоре с современником назвал ее литературой лжепророков, и сетовал, что не знает, что детям посоветовать для чтения.
Конечно, все это идет от толчка, полученного ею в довольно молодом возрасте, в XIX веке, когда «она покатилась по наклонной плоскости с тем неизменным окончанием, когда, докатившись до нуля, она берется в кавычки: студент привез «литературу» (Набоков). Однако, если приглядеться, то и по обеим сторонам от «толчка» в глазах зарябит от картин ущербности таланта на Руси — от мучений Василия Кирилловича Тредиаковского, стаскиваемого в «холодную», до того странного факта, что двух наиболее крупных писателей нашего времени зовут уж как-то совсем «по-бахтински» — Саша и Венечка.
Есть, есть некая ущербная запятая в нашей литературе и тех людях, которые занимаются ею.
С уходом женщины жизнь русского человека прекращалась только в XIX веке. Уже прочитан «Вертер». Составлена инструкция по выживанию: а) затопить камин; б) пить (карта вин многостранична — от фалернского, лафита, шато д’икема до «Горного дубняка» и коктейля «Смерть натуралиста»); в) непременно купить собаку. Еще неплохо взойти по северному склону на Западную вершину Эльбруса, спуститься на плотах по реке Китой или отправиться на охоту в район Мезени или Кимжи.
Со временем открывается и масса других, давно забытых отвлечений: сыграть в «пирамидку» на бильярде, посмотреть зональный чемпионат по мотогонкам, походить до усталости в ногах по авторынку, сделать в квартире ремонт, расписать пульку с молодыми поклонниками Милорада Павича или позвонить ночью Иванову в Омск чтобы узнать точное время — дома все часы стоят, соседи еще спят, а у них из-за разности часовых поясов уже рассвет, и Иванов, наверняка, начищает ваксой туфли перед выходом в город за газетами, и будет только рад утреннему звонку.
Но наиболее действенным способом избавления от постоянных бессонниц и разговоров с самим собой является рапорт с просьбой о командировании в Чечню, Таджикистан или Сербию. Именно так поступил Алексей Кириллович Вронский после гибели Анны.
ОБРЕЗКИ ВЕРЕВОК — 1[2]
…камень, о который она споткнулась лежит у меня на столе возле увядшего гелиотропа.
Пушкин о Керн.
Американское идеологическое идиотство, сменившее идиотство русское, — это и не хуже, и не лучше русского, а просто другой пример культурного клиширования. И в данном случае я хочу заметить, что советские идеологические клиширования выполняли очень серьезную культурную функцию — они были культурным феноменом, а не только
Данный раздел обязан своему названию некой ассоциации с одной историей из старой школьной хрестоматии по английскому языку. Там был рассказ о старушке, которая никогда ничего не выбрасывала. У нее, например, была специальная коробка с надписью на крышке: «Обрезки веревок, которые нигде нельзя использовать». Когда на моем рабочем столе накопилось множество листиков с выписанными на них случайными цитатами, я подумал, что лучшего названия для этой коллекции бессмыслицы придумать невозможно
политическим.
Александр Пятигорский в беседе с преподавателями Тартусского университета.
Русский постмодернизм реализуется по преимуществу как визуальная эклектика или проживание своего собственного ужаса репрессивной культуры.
Андрей Ковалев в газете «Сегодня»
Я всегда утверждал — и проверил это на опыте, — что лучшим снотворным средством является сон.
Марсель Пруст в романе «По направлению к Свану»
…Бог шел на риск, создавая человека.
Архимандрит Зинон в «Беседах иконописца»
Мы оцениваем благородство двух друзей, исходя из того, кто их них способен на большую жертву ради другого. В девятнадцатом веке один философ сказал: «Пусть вашей целью будет всегда любить больше, чем любят вас; не будьте в любви вторым». Когда дело касается людей, мне иногда удается выполнить эту заповедь, но в моих отношениях с преданной собакой я всегда оказываюсь вторым.
Кондрад Лоренц в книге «Человек находит друга»
Четыре тысячи шагов. Эта цифра почему-то завораживает и заставляет остановиться посреди комнаты. Откуда она взялась? Разве кто-нибудь вел подсчет шагов? И с какого момента начался отсчет? С того, как выключился телевизор? Или с того, как на пол упала книга, и стало понятно, что дальше скользить глазами по строчкам бессмысленно?
Считать шаги — удел политкаторжан или жуликов, томящихся в околотке. Узникам любви пристало считать поцелуи. Четыре тысячи поцелуев! Трепетных, свежих, нежных, страстных, горячих, лукавых, сладких, восторженных, слюнявых, с засосом, по-французски, по-русски (троекратно), по-еврейски (шестикратно), по-папуаски, по-братски, с вишенкой, с жевательной резинкой, прощальных, вокзальных, партийных, флотских, черноморских, крымских, кавказских, славянских, смирновских, полюстровских, с заглотом, с чувством, с толком, без остановки и не переводя дыхания.
От четырех тысяч поцелуев, дорогая, твои губы превращаются в рупор любви. Толпы горожан замедляют шаги, чтобы запечатлеть в своей памяти уходящую эпоху наших поцелуев. А мы машем им с трибуны носовым платком с пятнами губной помады и кричим на два голоса: «На следующих выборах голосуйте за любовь!».
В основе всех наших несчастий лежат женская глупость и мужская самонадеянность. Без ударов о рифы море житейское пересекают только люди без пола. Мы же обречены на рифы, мели, штормы, циклоны, цунами и прочие немилостливые дары Южных и Северных морей любви.
Женщина гораздо ближе к природе, биению материальной жизни, биохимическим тайнам бытия, чем мужчина. Это порождает иллюзорное представление о приближенности ее к Создателю. «Чего хочет женщина, того хочет Бог», — любят повторять галантные кавалеры.
При этом как-то упускается из виду, что Бог — прежде всего Слово, Дух, Путь, а не завлабораторией по производству человечков. Укорененность женщины в материальной плоскости лишает ее возможности в полной мере улавливать музыку сфер, различать Его голос в волнах вселенского эфира. Не случайно в большинстве мировых религий священнослужителями могут быть только мужчины.
И поступки женщин надо судить по законам природного мира, а не с позиций проявления божественной воли. Когда уходит женщина — это не козни небесной канцелярии, а волевой поступок красивого животного. И воспринимать его надо так же спокойно, как принимаешь сезонные явления природы. И не звонить ей по ночам. Не тревожишь же ты своими звонками грозу, радугу, солнце или северо-западный ветер.
…как забытый на ярмарочной площади продавец помидоров.
Несмотря на то, что площадь покидают последние машины, увозящие лоточников с нераспроданным товаром, он продолжает привычное дело. Расставляет по росту гири, протирает тряпкой весы и прилавок, раскладывает помидоры горкам и увенчивает их наподобие флагов ценниками. Однако никто уже не интересуется его товаром. Запоздалые зеваки не удосуживаются даже бросить взгляда на труды последнего продавца.
Вскоре он остается на площади один. О ярмарочных страстях напоминают только горы мусора да перекатываемые ветром клочки бумаги, обрывки упаковок и целлофановых пакетов. Среди остатков торжища горделиво разгуливают вороны и копошатся стайки неугомонных воробьев.
Продавец помидоров огибает прилавок, и, став на место покупателя, начинает придирчиво отбирать помидоры в пластмассовое лукошко. Затем взвешивает их, убирая лишние и добавляя новые, пока стрелка весов не установится в идеальном положении. Только после этого он выворачивает содержимое лукошка в ящик, и возвращается на свое место за прилавок. Потом снова выходит на место покупателя и повторяет всю процедуру еще раз. И еще раз. И еще, пока все помидоры с прилавка не окажутся в ящиках.
Завершив дело, продавец садится на пустой ящик, и, подперев голову руками, устремляет взгляд в землю, в почву, на которой можно вырастить хороший урожай помидоров. Для этого рассаду высаживают рядами на 60-70 сантиметров ряд от ряда, и от 20 до 60 сантиметров друг друга в ряду. Ряды размещают по шнуру, а места лунок заранее намечают палочкой. Перед посадкой рекомендуется бросить в лунки по горсти перегноя. После высадки помидоров, их следует привязать к прочному колышку длиной 1-1,5 метра. Затем обильно полить и на ночь укрыть полиэтиленовой пленкой. А дней через десять провести первую подкормку коровяком (ведро коровяка на десять ведер воды).
Определив по солнцу, что время обеда давно прошло, продавец помидоров принимается за трапезу. Он тщательно протирает тряпкой угол обитого железом прилавка, расстилает на нем свой халат и раскладывает на нем шеренгу из помидоров, предварительно протерев каждый рукавом халата. Разгрызаемые крепкими зубами помидоры сверкают на солнце рубиновыми звездами Кремля, червонными знаменами пионерских дружин, пунцовыми пятнами юношеского стыда, алыми парусами Грина, гранатовыми прелестями шахны, кумачовыми косынками ударниц первых пятилеток, киноварными красками Матисса, карминными бликами икон, шарлаховыми губами любимой.
После обильного обеда не грех и вздремнуть. Продавец перетаскивает ящики поближе к прилавку, образуя из них баррикаду. Причем, в основание ее укладывает ящики с нераспроданными помидорами, а сверху наваливает пустую тару. После чего изготавливает себе под прилавком лежак из перевернутых вверх дном ящиков. И забравшись на него, мгновенно засыпает. Ему снится огромное поле, усеянное кустами томатов.
Порыв холодного ветра приносит с улицы запах паровозной гари.
Во сне мы путешествуем в поезде — мама, Алиса, я и чей-то грудной ребенок. У нас несколько чемоданов и баулов с вещами, собака и гусь в плетеной корзинке, судя по всему, мы — беженцы, и возвращаемся, — проснувшись, я это точно помню, — в Прохладный. Видимо, этот городок на равниной части Кавказа, ставший пристанищем для нашей семьи после возвращения из Сибири, и особенно двор, в котором мы жили несколько лет, в пору, когда все были живы, относительно здоровы и благополучны, — Алиса даже посвятила этому двору одно из лучших своих школьных сочинений, — навсегда остались в глубинах сознания некими символами земного рая.
Однако поезд проезжает Прохладный без остановки. С нарастающим ужасом я наблюдаю, как за окнами вагона проплывают железнодорожный вокзал, ремзавод, почта, базар, кладбище, новостройки. Я не могу понять спокойствия своих спутников. Алиса, ничего не замечая, играет с гусем. Собака, мой верный спутник в скитаниях по Кавказу, даже не смотрит в мою сторону. Одна мама замечает мое состояние, и говорит спокойным тоном, укачивая заплакавшего ребенка: «Ничего страшного, возвратимся попутным поездом со следующей станции». Но я не могу ждать следующей остановки, бросаюсь в тамбур.
Вместо вожделенной станции оказываюсь в музейном зале, напоминающем галереи Эрмитажа. Со стен смотрят картины любимых художников — Рембрандта, Рубенса, Матисса, Кес ван Донгена, Веласкеса. Но сейчас мне не до них. Не глядя по сторонам, пробегаю анфилады залов в поисках выхода. И, наконец, нахожу главную лестницу.
Спускаясь по лестнице, которая внезапно превращается в эскалатор подземки, попадаю на неизвестную станцию метро как раз к отходу поезда. Вбегаю в вагон и оказываюсь рядом с толстым негром. Он внимательно смотрит на меня и неожиданно заявляет: «У меня нет предрассудков — я ненавижу каждого!». «В таком случае поцелуй уд у Салмана Рушди!» — отвечаю ему и выбегаю на первой же остановке.
На улице меня окружает пестрая толпа молодых людей, вооруженных бейсбольными битами и клюшками для гольфа. Что это студенты Сорбонны, участники уличных боев 1968 года становится ясно по их разговорам, одежде, годаровским панорамам утренних улиц и той необыкновенной свободе, что даже во сне переполняет легкие. Студенты приветствуют посланца страны социализма и предлагают вместе направиться в Одеон, где будет выступать Кон-Бендит.
Внезапно налетает полиция, и бросает всех нас в зарешеченные фургоны. В полицейском участке мощные лампы освещают меня, как какую-нибудь эстрадную звезду. Похожий на пожилого Габена старший чин говорит: «За вмешательство во внутренние дела нашего государства вы будете высланы из страны в 24 секунды. Без права перевода ваших книг на французский!». «А рукописей?» — хочу спросить у него, но меня уже волокут к двери и вышвыривают пинком под зад из милой, доброй свободолюбивой Франции. Страны Монтеня и Монтескье, Ренуара и Сезанна, Ромена Роллана и Ромена Гари, Жан-Люк Годара и Франсуа Трюффо, родины гуманистов, просветителей, учителей человечества, а значит и моих учителей. «Прощайте наставники и новые друзья!» — кричу я в пустоту.
После солнечной Франции оказываюсь на темной узкой улочке какого-то маленького городка. И только по огромным маршальским звездам на небе, по силуэтам домов и деревьев, по многослойной темноте и темному многоголосию ночной жизни до меня постепенно доходит, что нахожусь на Кавказе, и более того — в Прохладном. И радость от осознания этой мысли быстро заглушает, возникшую было, горечь отлучения от колыбели гуманизма.
В полном одиночестве прохожу мимо школы, церкви, кладбища, и приближаюсь к базару. Здесь — народное гуляние: горят разноцветные фонари и факелы, в небо взлетают петарды и шутихи, торговые прилавки уставлены праздничными угощениями, за ними веселые люди с бокалами в руках. Все мне что-то кричат, приветствуют, протягивают выпивку и бутерброды. Я никак не могу понять, что здесь происходит, по какому собственно поводу гуляют эти милые, добрые, жизнерадостные люди. «Неужели, ты ничего не знаешь?» — спрашивает неизвестно откуда появившаяся Алиса. И не дожидаясь ответа на свой вопрос, бросается мне на шею: «Твоя книга получила Гонкуровскую премию! Все тебя поздравляют!». «Постой, постой, какая книга?» «Ну, вот эта, которую все сейчас читают!» «Но она же еще не дописана!» «Так, просыпайся, папочка, быстрее, и пиши!»
— Какое кино вы намерены снимать? Что-нибудь в духе Тарковского? — спросил известный западный продюсер, с которым друзья устроили мне встречу во время его визита в Москву.
— Почему именно в духе Тарковского? — от неожиданности я не нашел ничего лучшего, как вопросом ответить на вопрос.
— Все ваше поколение русских кинематографистов инфицировано его гением, — разъяснил продюсер, раскуривая сигару.
— Нет, мне кажется, нет… Я хочу снять фильм, в котором переплетались бы реальность и сны, фантазия и конкретные детали быта, действовали узнаваемые исторические персонажи и никому неизвестные, но очень дорогие мне люди. Словом, максимально воссоздать духовную атмосферу нашего времени…
— А разве не тем же занимался Тарковский? Вспомните «Зеркало», «Ностальгию».
— Возможно, но он жил в несколько иное время. И, кроме того, у меня будет жесткое фабульное кино!
— Что лежит в основе фабулы?
— Поиски спецслужбами пропавшего ученого, причастного к созданию нового вида оружия.
— Его крадут американцы, евреи, мусульманские экстремисты?
— Да, арабы.
— Понятно. Вы антисемит?
— Вы имеете в виду, имею ли я что-нибудь против арабов?
— Евреев, черт побери, — рявкнул продюсер, — Антисемитизм — это когда против евреев.
— Но ведь арабы — тоже семитское племя, и поэтому антисемитизм…
— С такой кашей в голове вам трудно будет снять хороший фильм. Тем более на нашей студии, — продюсер углубился в папку с бумагами, давая понять, что время аудиенции истекло.
Обычно когда по утрам, пропахший запахами дешевой водки и случайных женщин, ты открывал глаза, заранее содрогаясь от мысли, что необходимо продолжать существование при температуре в тридцать шесть градусов, единственное в мире существо искренне радовалось твоему пробуждению. Это была Джоля — чемпион мира среди собак по троеборью — веселости, игривости и любви к тебе. Ты гладил ее улыбающуюся морду и мысленно благодарил Создателя за четвероногого посланника, ежедневно примиряющего с действительностью.
После нелепой гибели Джоли утренние пробуждения все больше стали напоминать приготовления осужденного к казни. Казнь не всегда влечет за собой мгновенную смерть. Бывает, сперва отрубят руку, потом другую, а через месяц примутся за ноги, а то еще могут всыпать тысячу плетей и выставить на съедение птицам, или попросту посадить на росток бамбука, — фантазиям палачей и судей нет предела. А могут подвергнуть наказанию, как в твоем случае: осудить на полное одиночество.
А насчет того, что я ограничивал ее свободу, категорически возражаю. Я всегда приподнимался на руках, позволяя ей совершать колебательные, вращательные, возвратно-поступательные, поперечно-продольные, прямолинейные, наклонные, а также реактивные, броуновские, пионерские, национал-демократические и даже, — о, мой известный плюрализм! — радикал-националистические движения.
Просто надо было уметь распоряжаться своей свободой передвижения, милочка!
В романе «Дар» мать Годунова-Чердынцева говорит, что первую в своей жизни книгу не для девиц (кажется, то были новеллы Мопассана) она прочитала во время свадебного путешествия.
XIX век в России был временем гармонического развития личности. В ходе школьного образования и знакомства с окружающим миром, юный человек получал такое количество знаний, которое было необходимо для всего жизненного пути. Этому в немалой степени способствовало разумное распределение получаемых знаний по возрастным категориям. Что, в свою очередь, было обусловлено господствовавшей уверенностью в разумной организации жизни, в ее поступательном движении к прогрессу, и возможностью человека влиять на любые отклонения от магистрального вектора этого движения. Говоря по-иному, идеалы Просвещения, внедренные в российскую жизнь, гармонизировали ее. И даже линейка в руках Николая I, прокладывающего по карте маршрут железной дороги между Петербургом и Москвой, может служить своеобразным символом этой гармонии. А известная дуга в районе Бологое, появившаяся в результате непроизвольного попадания на карту очертания царского пальца, прижимавшего данную линейку, всего лишь подчеркивает особенности российской действительности и российского Просвещения.
В ХХ веке, с двумя его мировыми войнами, господством тоталитарных режимов, невиданным прежде развитием промышленных технологий и средств массовой информации, нарушился процесс гармонического развития личности. Не только в России, но и в других странах обеих полушарий, идеалы Просвещения потерпели крах, уступив в общественном сознании место политическим манифестам, финансовым рейтингам, рекламным проектам и прочим симуклякрам технотронной эпохи. Жизнь утратила присущие ей прежде векторы поступательности, разумности, целесообразности, ценности труда, знаний, совестливости и проч. В массовом сознании она представляется неким лабиринтом со множеством дверей, которые ведут к мгновенному успеху — банковскому сейфу, политической карьере, спортивному пьедесталу, лестнице в Каннах, розовой попке Мадонны (очень, кстати, характерный символ изменения общественного сознания — ни одной шансонетке в прошлом веке и в голову бы не пришло выбрать подобный артистический псевдоним).
Следствием порушенной гармонии развития стали комплексы современного человека, выражающие его неуверенность перед жизнью: гипертрофия интеллекта, повышенный интерес к экзистенциальным проблемам, религиозный фанатизм, бред национализма, похоть сексуальности и проч.
ОБРЕЗКИ ВЕРЕВОК — 2
Всю жизнь Розанова мучили евреи.
Зинаида Гиппиус в воспоминаниях.
Всласть поесть, всласть наговориться, всласть потрахаться — существуют ли в природе лучшие способы времяпрепровождения?
Генри Миллер в романе «Тихие дни в Клиши».
Бальзак был одним из наших надежнейших информаторов.
Ганс Эрих Носсак в романе «Дело д’Артеза».
В этой стране два варианта: или работать, или пить. Теперь возник еще и третий, для тех, кому не на что пить — политизироваться.
Борис Краснов в газете «Аргументы и факты».
Отсутствие перспективы на православной иконе, этот знаменитый золотой фон … просто-напросто точная передача иерусалимского полдня: полное отсутствие тени, знаменитое сияние, золотой пиленный фон, не дающий света… Все это еще одно доказательство того, что православная икона, иконопочитание возникли на базе духовных воспоминаний первых иконописцев.
Юрий Милославский в «Независимой газете».
Если Нуйкин писатель, то кто тогда я?
Эдуард Лимонов в «Комсомольской правде».
Почему у мужиков всегда хуй стоит по утрам?.. И все они хотят этот свой хуй колючий засунуть в тебя. Впихнуть, затолкать. И им даже безразлично, как ты реагируешь. Самая эгоистическая ебля с их стороны по утрам. Днем, вечером и ночью совсем иначе ебутся!
Наталья Медведева в книге «Мама, я жулика люблю».
Сексуальное удовольствие от текста прельстительно за неимением лучших источников. Для рудиментарного интеллигентского мышления заумный текст, конечно, более морален, чем вибратор из секс-шопа. Но ситуация использования и того, и другого до непристойности идентична. И не является ли успех Деррида свидетельством необратимого демографического кризиса?
Алексей Панов в «Независимой газете».
… как сбитая машиной незнакомая собака.
Брошенная хозяевами на произвол судьбы, она умирала посредине мостовой в клубах пыли, поднимаемой встречными потоками машин. И все последние минуты своей жизни била хвостом по асфальту, словно просила у кого-то прощения за свою неловкость и поспешность.
… как одинокое дерево посреди равнины.
Вынужденное проводить свои дни в изгнании, отчужденное от родных и близких из растительного мира, оно притягивает к себе все стихии — зимние штормовые ветры, испепеляющий летний зной, удары града, молнии, ливни.
В списке № 200 «Леса» Сэй-Сёнагон упоминает рощу Ёкотатэ — «Вдоль и поперек». Это странное имя невольно останавливает внимание, но ведь то, что растет там, и рощей, кажется, не назовешь, пишет она. Зачем так называть одинокое дерево, недоумевает Сэй-Сёнагон.
Затем, дорогая фрейлина, что только в роще Ёкотатэ можно обрести покой и забвение. И только под ее сенью можно укрыться от всех напастей мира.
… как пенсионер, подглядывающий за купальщицами.
Манон и Жюстина нежатся на траве после долгого купания в реке. Рыжеволосая Манон раскинулась на спине, подложив руки под голову. Ее влажный купальник не скрывает, а скорее подчеркивает то, что не нуждается ни в каких знаках препинания. Белокурая Жюстина лежит на животе, помахивая в воздухе розовыми пятками.
Скрывающийся в зарослях жасмина представитель сурового поколения Тараканов подглядывает за девушками в бинокль. Его «цейс» выхватывает волнующие детали их физического развития.
«Ух, ты… Ах, ты поганка… Буквой «зю» её, и пусть орёт, сколько влезет, потом сама благодарить будет… А лучше с двумя сразу, как на фронте… Нет, сердце уже не выдержит… Мы для них победу одержали, а они выёживаются… И пахнут водорослями…»,- бормочет Тараканов, вытирая носовым платком периодически накатывающуюся слюну.
А Манон тем временем рассказывает о своих субботних приключениях:
— Свадьбу Милены праздновали в ресторане. Я сразу же обратила внимание на бармена. Он тоже с меня глаз не сводил. Такой темный, со сросшимися бровями, похож на итальянца. Когда пошли танцевать, я ему кивнула, пошли, мол. Он плечами пожимает: не могу, на работе. А я уже выпила, завелась. Ладно, думаю, поглядим сейчас, как ты за работу держишься. И верчу перед ним задом. Мужики с ума начинают сходить. Один даже за гульфик держится. Бармен тоже не выдержал, шлепнул рюмку и — в круг. Тут медленную музыку поставили, стали мы танцевать вместе. Свет потушен, некоторые пары целуются. Мой бармен прижимается животом, чтобы я почувствовала его напряжение. А я деликатно так отстраняюсь: нет, нет, что вы, разве я подавала повод? Он не выдержал, двумя руками меня за бедра стиснул и прижал намертво к себе. Я чувствую, как его рыбка трепещется. Он меня стал целовать, а сам рукой под юбку лезет. Я ему тоже гульфик расстегнула, и сперва через трусы погладила. Потом уже под резинку поднырнула. Только по контуру колокола пальцем провела, он как загремит. Я руку моментально выдернула, о его рубашку вытираю. А он уже, бедненький, соображение полностью потерял, шепчет:»Ещё, умоляю, ещё!». А я ему спокойно так говорю: «Молодой человек, научитесь повелевать своими чувствами». И пошла к столику, где меня Эмиль уже устал ждать…
Больше терпеть эту муку Тараканов не в силах. Он с шумом выползает из кустов и решительным шагом направляется к бесстыдницам.
— Мы могли бы поехать ко мне, — говорит он ничего не понимающим девицам, — Музыка, фрукты, шампанское… Поставим Вертинского… Лиловый негр вам подает манто…
— Что происходит? — недоумевает Манон.
— Кажется, гражданин нас клеет, — отвечает Жюстина, с интересом разглядывая Тараканова.
— Не думайте, я заплачу… У меня есть деньги… Я получил пенсию … Какой поэт построил ваши ноги — две бесконечно длинные дороги?.. — бормочет Тараканов.
— Что с ним? — спрашивает Манон.
— По-моему, жар. Доподглядывался, старый пень, — констатирует Жюстина.
— Вуаеризм — не болезнь. В Советском Союзе шестьдесят четыре процента населения были склонны к нему… Поедемте… Я возьму такси…
— Нам лучше уйти от греха подальше, — говорит Манон.
Девушки начинают собираться.
— Да, да, мы возьмем такси… А потом в вечернем дансинге, где колыхается джаз-банд… — Тараканов пытается помочь девицам собрать вещи.
— А вот это — совершенно излишне, дедушка, — Манон вырывает из рук Тараканова свою косынку, которую он пытался положить ей в сумку.
— А мне его жаль. Забавный, чокнутый старикан, — говорит Жюстина.
Она достает из кошелька крупную купюру и протягивает ее Тараканову:
— Выпейте за наше здоровье! Это примирит вас с действительностью.
А Манон на прощание советует:
— И научитесь повелевать своими чувствами!
Девушки уходят. Пенсионер Тараканов остается один, с банкнотой в трясущейся руке. «Зачем же мы победу в мае одержали? .. Как не хватает слов, как не хватает ласк… Товарища Сталина на вас нет…»- шепчет он.
Бодрийар писал, что в мире, утратившем интерес к политическим дебатам, сексуальному освобождению, органическим болезням и традиционной войне сложился специфический класс феноменов, которые он назвал «сверхпроводниками» — это терроризм, травеститы, СПИД, электронные вирусы и проч. Про его мнению, эти болезненные проявления защищают человека от чего-то худшего, как неврозы не дают развиваться его безумию.
Компьютерные вирусы не позволяют дойти до предела коммуникации и информации, то есть до смерти. Наркотики позволяют хотя бы на время выйти за пределы сверхрационального мира. Террористические акты выплескивают накопившуюся на периферии общества энергию потенциальных гражданских войн. А СПИД не дает дойти до тотальной потери личности в глобальном промискуитете.
В целом же, отмечает русский комментатор французского философа, феномен «сверхпроводников» доказывает удивительную живучесть того огромного микроба, который называется человеком.
ОБРЕЗКИ ВЕРЕВОК — 3
Искусство, то есть то, что воспринимается как нечто, обретающее форму на наших глазах, есть на самом деле роскошь, которую не следует принимать слишком всерьез, когда треть населения планеты умирает от голода.
Питер Гринуэй в журнале «Искусство кино»
Читать Довлатова может даже идиот.
Марина Ремизова в «Независимой газете»
Берегись, сволочь, мы встретимся в моей будущей пьесе.
Август Стриндберг в письме
Я давний поклонник Сталина и не устаю им восхищаться, ибо никто на свете не уничтожил столько коммунистов, сколько он.
Индро Монтанелли в «Московских новостях»
Сын сапожника, кончивший университет, — вот что такое русская интеллигенция.
Влас Дорошевич в очерке о наших духовных предтечах
Сколько я себя помню, меня всегда преследовал страх смерти. Мысль о том, что я умру и тем самым перестану быть, что я войду в ворота Царства мрака, что существует нечто, чего я не способен контролировать, организовать или предусмотреть, была для меня источником постоянного ужаса. И когда я вдруг взял и изобразил Смерть в виде белого клоуна, персонажа, который разговаривал, играл в шахматы и, в сущности, не таил в себе ничего загадочного, я сделал первый шаг на пути преодоления страха смерти.
Ингмар Бергман в книге «Картины»
Больше всего я любил просыпаться от того, что женщина сосала мне хуй. Нет слаще пробуждения! Так, наверно, каждый день пробуждаются святые, ангелы и прочие счастливцы, проживающие в раю.
Михаил Армалинский в рассказе «Независимость от Ё»
Вероятно, философская элита наряду с наркоманами и слабоумными принадлежит к той немногочисленной части населения, которая отнеслась к исчезновению мировой «системы социализма» без всякого энтузиазма и не увидела в этих событиях ничего «исторического».
Александр Якимович в «Иностранной литературе»
Пойдем в луга готовить пунш.
Венедикт Ерофеев, естественно, в поэме «Москва-Петушки»
Путешествующие в пустыне, чтобы не потерять направление движения, выкладывают из камней стрелу, указывающую путь на завтра.
Когда за окнами забрезжил рассвет и стало возможно читать без лампы, я стал перелистывать «Отечник» Игнатия Брянчанинова в поисках одного запомнившегося отрывка, который, как мне представлялось, мог бы послужить в качестве указующей путь стрелы. В течение нескольких часов я перечитывал повести о жизни и изречениях святых иноков «преимущественно египетских, которых имена дошли до нас», а также тех, чьи имена стерлись в веках, но память о жизни, мыслях и поступках которых сохранила церковь.
Долго не находя нужного места, я начал было уже злиться на свою малопамятливость, как на меня снизошло просветление: разве может быть иным направление движения для путешествующих в пустынях духа, кроме направления «по направлению к Нему»? Разве все иные встречающиеся по пути стрелки, указатели и символы не являются всего лишь дорожными знаками различной семантики, указующими направление к Нему? И разве все наши житейские зигзаги, вынужденные остановки, взлеты, падения и крутые виражи не являются лишь эпизодами по пути к Нему?
Самым несчастным и бездомным из нас был Сын Человеческий. И может быть, поэтому он был самым любимым. Как писал последний русский нобелиат:
Представь, что Господь в Человеческом Сыне
впервые Себя узнает на огромном
впотьмах расстоянье: бездомный в бездомном.
ИМПЕРСКИЙ МЕСЯЦ АВГУСТ
Я завершила мысль,
вместив ее в три слова.
Кс. Некрасова
И новый Чикатило заглядывает в вагон.
Мы с ним долго дрались из-за того, кто лучший поэт Советского Союза. А потом вспомнили, что Союза больше нет, и, заплакав, обнялись.
Самое гнусное унижение, на которое она меня обрекает, состоит в том, что я вынужден выпрашивать ласки у других.
Стоит старухе войти в комнату, как искривляется пространство. Собака во сне рычит, когда она ночью проходит мимо нее в уборную.
Неспособность женщины на чудо проистекает из ее генетической боязни людской молвы. Женщина — не более чем зеркало общественных страстей. Но временами может превращаться в увеличительное стекло, и тогда готова испепелить все вокруг себя.
Во сне мы с товарищем — про него я знаю, что он боевой офицер, прошедший Афган, — пробираемся по крышам утреннего Мегаполиса. Мы решили вместе покончить с собой. Напоследок он хочет то ли выпить, то ли перекурить, а, может быть, собраться с духом, и присаживается на каменную тумбу. А я подхожу к самому краю крыши. И сразу же, без раздумий, без прощальных слов и жестов, бросаюсь вниз головой. И уже потом, в обволакивающем все тумане, слышу голоса. Один говорит: «Его дочка искала. Хотела что-то сказать!» Второй отвечает: «Теперь уже все равно!»
Старуха не представляет, что могут существовать отвлеченные занятия — размышления, фантазирование, сочинительство, комментарий. Для нее все это разновидности безделья. Единственный доступный ее воображению вид нематериальных действий — подглядывание. Она часами может наблюдать сквозь шторы за уличной толпой.
Во время прогулки на собаку садится бабочка. Белая бабочка сливается с белой шерстью собаки. Потом бабочка перелетает на зеленую траву. А собака долго следит за ее полетом.
Октавио Пас в эссе «Новая аналогия» пишет, что в представлении о времени в свернутом виде живет образ мира. У каждой цивилизации был особый взгляд на время: одни мыслили его как вечное повторение, другие — как застывшую бесконечность, третьи — как пустоту без дат, или как прямую линию, или как спираль. Для платоников год кругообразен и совершенен, подобно движению небесных тел, для христиан время апокалиптично и линейно, для индусов — иллюзорно, это мелькание перевоплощений. ХIХ век смотрел на время как на вечный непрерывный прогресс.
В годовщину моего ухода не будет мемориальных рок-концертов, вечеров памяти и никто из женщин не застрелится на моей могиле. Знакомый редактор на месте отведенных мне петитных строчек поставит срочное сообщение о землетрясении на Кавказе. А те люди, которых называл близкими, не смогут точно вспомнить, какой тогда был месяц. «Что-то имперское было в его названии. То ли это был июль, то ли август», — будут повторять они.
Неожиданно она садится ко мне на колени и тянется языком к мочке уха. Поцелуй невероятно возбуждает ее, она начинает ёрзать и постанывать. Пока я успеваю что-либо предпринять, она крепко обхватывает меня за спину и, задыхаясь, усиливает петтинг. Потом издает радостный вопль и безвольно откидывается на плечо, обдавая шею влажным дыханием.
Человек, обещавший написать рецензию на мою книгу, при встрече отводит глаза.
Во время телефонного разговора с министром иностранных дел южной параллели старуха врывается в комнату с криком: «Когда принесешь картошку? В доме жрать нечего!» Прекрасно понимающий по-русски, министр, услыхав ее возгласы, вежливо интересуется, не надо ли оказать мне, как это говорят, гуманитарную поддержку, ведь в России, кажется, опять голод. «Не беспокойтесь, дорогой друг, это реплика из моей новой пьесы», — успокаиваю его. «О, поздравляю! Уже репетиции! А когда премьера?» «В августе будущего года. Я пришлю вам приглашение!»
В августе умерла Мерилин Монро. Можно что угодно говорить о загадочности ее самоубийства, о причастности к ее смерти клана Кеннеди, ЦРУ, голливудских баронов, важно то, что она не могла покинуть этот мир в другую пору. В этом месяце исчезает все подлинное: красота, достоинство, музыка, любовь, надежда, вера. Не случайно наши славянские предки считали август концом года. И начинали отсчет новой жизни с сентября.
Дочери передаются комплексы старухи. Она устраивает дикую истерику из-за того, что та налила ей в чашку с растворимым кофе без меры воды. «Она хочет, чтобы я быстрее сдохла. Похоронит меня, а потом выгонит тебя из дома», — размазывая по лицу слезы, говорит она.
Мы с мамой пересекали огромную площадь прохладненского базара, когда я увидел вора. Смазливый парень в зеленой клетчатой рубашке деловито рассматривал кожаную куртку, лежавшую на краю прилавка. И пока заезжий коробейник демонстрировал покупателям другой товар, парень схватил куртку и быстро скрылся в толпе.
Прочитать у Роллана «Жизнь Вивекананды». (Пометка в старой записной книжке.)
Мы приезжаем в Прохладный, чтобы в годовщину смерти деда положить цветы на его могилу. В этом городе кладбище, церковь и базар расположены рядом. Они образуют своеобразный бермудский треугольник местной жизни. Внутри него метался вор с украденной курткой. Но его никто не замечал. Люди лузгали семечки, пили теплое вино и яростно торговались из-за перезрелых абрикосов.
Будит меня страшный трезвон наружного звонка. Оказывается, старуха подслушивала на лестнице, и от сквозняка захлопнулась дверь.
Работа газетного репортера изменяет отношения с временем. Каждые сутки превращаются в замкнутую вселенную, со своей системой координат, своими героями, происшествиями и идеями. Вчерашние ценности на следующий день девальвируются. Сознание становится дискретным. Люди мелькают перед глазами, как капли дождя за окном, оставляя след лишь в информационных сообщениях.
Дочь старухи сидит за кухонным столом, утопая в клубах табачного дыма. С годами она становится удивительно похожа на мать.
Мальчишками мы подглядывали за женщинами в соседнем дворе. Летом они любили часами сидеть на низких скамейках, обсуждая свои проблемы. На некоторых, кроме легких халатов, ничего не было. Когда они раздвигали ноги, становились видны черные влажные треугольники. Тогда сердце было готово выпрыгнуть наружу. Тогда останавливалось время.
Праздник проходил под знаком обжорства и равнодушия. Дамы предлагали устроить «завтрак на траве», однако мужчины предпочитали говорить о постмодернизме, как о конце прекрасной эпохи. Вскоре все набрались и переключили внимание на телевизор. И тогда представилась возможность уединиться с рыжеволосой красавицей, у которой, как сказал бы Момо Капор, в горле был клитор.
Ночью во время прогулки с собакой нас обогнал пьяный черкес огромного роста. Он громко харкнул. Собака от неожиданности залаяла.
— Строгая! — сказал черкес.
— Это она испугалась, — сказал я.
— А чего меня бояться? — удивился черкес.
Он опустился на колени и погладил собаку:
— Не надо меня бояться! И вообще никого не надо бояться!
За четверть века старуха была радостной только однажды. Как-то на седьмое ноября купила в гастрономе два килограмма дешевых сосисок и шептала, задыхаясь от счастья: «Вот это праздник! Настоящий праздник выдался!»
В этом месяце всегда происходит что-то невероятное. Однажды я собирался поступать в университет, а оказался вместе с танками на Вацлавской площади. Спустя много лет заключил договор с киностудией, а ее прихлопнули вместе с КПСС. И только тогда выяснилось, что мое антитоталитарное кино собирались снимать на партийные денежки. А в этом году началась война в Абхазии. Грузинские демократы вознамерились огнем и мечом разрешить проблему сепаратизма.
Шесть городов будут спорить между собой за право выдвинуть нас на Нобелевскую премию любви.
Возникновению психозов способствует неверно истолкованная идея времени. Когда представляется, что за чередой неприятностей должно последовать обязательное просветление, естественно ожидать, что чем больше передряг будет в настоящем, тем ослепительнее станет вознаграждение за них в будущем. Так происходит первоначальное накопление собственных обид и ошибок, за которым начинается период их коллекционирования, а затем каталогизации и фетишизации. Вскоре хлыст и колодки заменяют на фамильном гербе традиционные серп и молот.
Вся теперешняя жизнь старухи — постскриптум к давно ушедшей эпохе.
В штабе повстанцев особое подозрение почему-то вызвал портфель. Меня заставили его открыть, перетрясли содержимое, простучали крышки и даже ощупали перегородки между секциями. Только после этого провели к командованию. А на висевший под мышкой пистолет никто не обратил внимания.
Из операционной ее распластанное тело вывезли прямо на меня. Одна рука свисала чуть ли не до колес каталки. И только внезапно озарившая сознание мысль, что лицо не закрыто простыней, остановила готовый вырваться из груди крик отчаяния.
На каждом этаже президентского дворца сидели снайперы в бронежилетах. Сам же президент в своем кабинете слушал по спецсвязи донесения агентов, крутившихся внутри галдящей толпы. Иногда в эфир вклинивался голос начальника тайной полиции, дававший указания агентам направлять толпу на погромы магазинов и торговых лавок, отвлекая тем самым от президентского дворца.
По тому, как приближающиеся автоматчики в штатском выстраиваются в цепи, становится понятно, что действуют профессионалы. И будет за благо спрятаться за стеной, а не глазеть на них из окна.
— Не понимаю, что может связывать вас с этими людьми? Вы же русский! — воскликнул допрашивавший меня следователь.
— Любовь к свободе, мон ами, — был ему ответ.
Во вторник начался сентябрь, написал когда-то Бродский. Календарь повторяется каждые двенадцать лет. Раз в семь лет обновляются клетки нашего организма. Новые идеи возникают примерно раз в сто лет, гении рождаются чаще. Август приходит каждый год.
Придя в себя, она говорит, что теперь у нас всё …(Далее неразборчиво. — Прим. авт.)
НОЯБРЬ: НЕПОЛНЫЙ СПИСОК УТРАТ
Ужас настигает в ту минуту, когда в неопрятной женщине, инспектирующей мусорные баки, узнаешь девушку былых времен. Девушку, у которой губы всегда пахли яблоками. И пока она тебя не заметила, стараешься быстро проскочить мимо. Так начинается ноябрь: список утрат.
Ноябрь. Ранние сумерки. В доме пусто. Алиса уехала в Ленинград.
Приходит пан Чеслав, и разговор как всегда, незаметно, сползает к католицизму. Я говорю, что, возможно, беда русских в том, что в нашем представлении о загробной жизни не нашлось места Чистилищу. Только Ад и Рай, как бездонные чаши весов, склоняющие русский путь то к добру, то к злу, от вселенской любви к зоологической ненависти. Возможно, прими мы идею Чистилища это сделало бы нас более уравновешенными, более терпимыми, способными прощать не из великодушия или по необходимости, но из сострадания, сопереживания, сочувствия.
Милош улыбается, и говорит, что только соединение противоположных полюсов и породило ту бездну, что принято называть русской душой. И только такое сочетание оказалось способным выжить и осуществиться на бескрайнем евразийском пространстве.
Послеавгустовская пора оказалась временем симулякров. Президент изображает мудрого и доброго парня, не лишенного человеческих слабостей, правительство симулирует реформы, парламент — правовую деятельность, средства массовой информации — демократию, а народонаселение — жизнь.
Симулякры выползли отовсюду. На всех книжных развалах лоснятся цветные суперобложки «Скарллет» — «продолжения «Унесенных ветром», как ее рекламируют недалекие книготорговцы. Уже какой-то бесстыжий тип строчит нового «Живаго», не мало не смущаясь тем, что никакие стилистические ухищрения не смогут скрыть отсутствия второй тетради стихов Юрия Живаго. Пишутся продолжения «Братьев Карамазовых», «Мастера и Маргариты» и даже «Волшебной страны» Волкова, которая сама является продолжением американской сказки.
Выстраивается бесконечный бумажный дракон симулякров, заслоняющий от глаз все то, что еще недавно называлось литературой и жизнью.
Вместе с ноябрьскими туманами приходит бессонница, эта дьявольская разновидность бессмертия. Разум отвергает ее, как эрзац жизни, улавливая заключенное в ней безумие.
Гамлет — человек, утративший сон. Мы с ним братья. Мы потеряли свой сон золотой — Святую Русь. Сорок тысяч братьев, как говорил он.
Бессонница — это выжженная пустыня, по которой ползут бессметные стада часов без стрелок. Это книга без типографских знаков, это музыка без нот, это вода, не выливающаяся из сосуда. Бессонница — это деструктуризация жизни.
Бергман в какой-то книге упоминает про открытие психологов, согласно которому, если человеку не давать видеть сны, он сойдет с ума. Это можно объяснить только тем, что сновидения служат средством общения с Богом. Лишить человека возможности видеть сны, значит — отлучить его от Бога. А этого человек не в силах перенести.
Война в Пригородном районе представляется сперва игрой измученного бессонницей воображения. И только когда список охваченных пожаром взаимной ненависти населенных пунктов разрастается до размеров всей спорной территории, становится ясно, что кульминацией сюжета является сон разума.
«Брат, только не пиши, что это межнациональный конфликт. Это обыкновенный фашизм!» — кричит в трубку наш фотокор, выезжавший на места боев с первыми подразделениями внутренних войск. «Не волнуйся, братан, мы не пальцем деланы!» — успокаиваю его. Однако ни его фотографии, ни мои «горячие» репортажи на полосу не попадают. У меня публикуют два материала в таком виде, будто по ним прошелся БТР.
Но ночам в небе стоит несмолкающий гул от летящих на Моздок транспортных самолетов.
После передачи в агентство сводок о боях успокоение может принести только водка. Но ею нельзя злоупотреблять: через несколько часов будет новая оперативная информация.
Человек с глазами Пилата схватил меня за грудки: «Этот?» Его спутник с улыбкой Искариота ответил: «Нет, тот похудее будет!» «Жаль», — сказал Пилат, отпуская меня и, видимо, с трудом сдерживая желание дать пинка под зад.
Было это в центре Кавказе, в шумном городе, улицы которого были усыпаны стрелянными гильзами и обертками от американской жвачки и китайских презервативов.
Новым начальником пресс-центра назначили невообразимо толстого журналиста, известного радикал-демократа. Первым делом он ввел цензуру. Вторым — стал гонять подчиненных за аракой, осетинской водкой.
Я нарвался на него, когда он находился, видимо, уже в третьем состоянии: мгновенно последовал запрет на передачу мне информации по телефону. Когда же я попытался объяснить, что являюсь не совсем сычом с бугра, в ответ получил: «Да будь вы хоть самим Виталием Товиевичем, мое решение остается неизменным!» После столь грубовато-свойского упоминания нашего главного редактора, оставалось только воскликнуть:
— Salutem, generose puer, sic itur ad astra! ( Привет, благородный юноша, так идут к звездам! — лат.)
И действительно, вскоре благородный юноша отбыл обратно в первопрестольную, получив в качестве синекуры важный пост. Зато в зоне действия режима ЧП с облегчением вздохнули.
Всем воспитанникам тоталитарных систем не чужды садо-мазохистские страсти. И в этом плане я не являюсь исключением. Скорее наоборот — живая иллюстрация того, что может статься с человеком, если ему с младенчества в качестве женского идеала демонстрировать не боттичеллиевскую Весну или Елену Фоурмен в шубке, а вучетичевскую Родину-мать с огромным мечом в руке.
После Освенцима нельзя писать стихи, сказал Теодор Адорно. А что можно писать после вида разрушенных жилищ, беженцев, заложников, снайперов-террористов, обгорелой техники и неопознанных трупов?
Чтобы не сойти с ума, надо пить водку и часами слушать тихую музыку — Гайдна, Моцарта или Вивальди. А утром, проснувшись в теплой постели и убедившись, что стены комнаты не дрожат от близких разрывов, можно потянуться за давно забытыми газетами.
О чем они писали, пока лилась кровь в Пригородном районе?
В области политики. В Штатах на президентских выборах победил Билл Клинтон. 19 ноября 1992 г. в Гринвиче (штат Коннектикут) скончалась мать Буша — Дороти Уокер Буш. Ранее в Праге умер Александр Степанович Дубчек, кумир социалистов моего поколения, не доживший, слава богу, до раздела своей родины на лоскутные республики.
В области экономики. В России вследствие махинаций валютчиков курс доллара подскочил до 484 руб., соответственно, повысились цены на все товары. Началась торговля приватизационными чеками. В Москве за них давали 3,5 — 5 тыс. руб., в Ленинграде — до 4 тыс. руб.
В области культуры. В Москве прошел шахматный турнир памяти Алехина. В первом туре Гата Камский выиграл черными у Алексея Широва. Анализ разыгранного ими варианта защиты Грюнфельда поражает странной перекличкой с только что прошедшими событиями в Осетии. Разница заключалась лишь в том, что провокация, учиненная на шахматной доске, увенчалась победой.
Встречались материалы и о войне в Пригородном районе, которую упорно именовали осетино-ингушским конфликтом. Но на фоне других событий эта тема представлялась незначительной или служила в качестве острой приправы для горячих блюд политической кухни. Общество симулякров жило по свои законам.
После войны самыми значительными событиями в жизни становятся сны и воспоминания.
Бывало, проходя через центральную площадь и наблюдая мраморного истукана, указующего перстом путь народным массам, я часто говорил близким, что день, когда его сковырнут с пьедестала, станет самым счастливым днем в моей жизни. Возможно, я до него не доживу, но уж моя дочь обязательно застанет это событие, и порадуется вместо меня. И вот этот день пришел. И что же? Да, все как-то так, по-прежнему — меланхолия, скепсис, высохшие чернила…
(Из старого письма к Ученику)
Как-то нам с дедом купили одинаковые рубашки из ткани «патриотик» — грязно-серого цвета материи, напоминающей внешне саржу, но более плотной по фактуре. Рубашки эти были очень дешевы даже по тем баснословно недорогим временам, и предназначались: мне — ездить в колхоз, а деду — копаться в огороде перед домом.
В рубашках из ткани «патриотик» обычно ходили рабочие, они были как бы частью пролетарского мифа. Стоило только надеть такую рубашку, как на тебя обрушивалась вся пролетарская мифология — луганские слесари, вознесенские ткачи, дымные трубы заводов, тайные прокламации, явки, провокаторы и прочая криминально-полицейская романтика социализма. Та самая романтика, которая, кстати, и превратила страну богоискателей в государство охранников и заключенных.
И хотя мы с дедом не принадлежали к гегемоническому классу, один тот факт, что не брезговали его униформой, свидетельствовал если не о готовности к любым компромиссам, то уж, несомненно, о принятии правил игры победителей. Конечно, это пятно не омрачало существование так, как тяготила всю жизнь Цезаря связь с Никомедом. Но на каких аптекарских весах можно взвесить наши поступки и намерения?
Митрополит Вениамин описывает, как в Оптину к старцу Амвросию пришли две женщины: одна имела на душе великий грех, а вторая больших грехов за собой не знала. Выслушав их откровения, старец послал обеих к речке Жиздре. Первой он велел принести огромный камень, а второй — собрать в подол мелких камушков. Когда они это исполнили, старец послал их отнести камни на прежние места. Первая легко нашла место большого камня, а вторая не смогла вспомнить всех мест, откуда она брала камни. О. Амвросий объяснил им, что первая всегда помнила о своем грехе и каялась, и теперь смогла снять его с души, а другая — не обращала внимания на мелкие грехи и потому не смогла очиститься от них покаянием.
В прохладненском автобусе мне встретился старик в рубашке из ткани «патриотик». Его седые волосы были подстрижены «под бобрик», как любил стричься и мой дед, а большие разлапистые уши только усиливали случайно возникшее сходство. Старик сидел впереди меня, и если удавалось выбрать удобный ракурс, то создавалось впечатление, что в автобусе едет живой дед.
Старик, почувствовав, видимо, мой интерес к своей персоне, резко обернулся:
— Что, гражданин, любопытствуете? Личность изучаете?
— Вы очень похожи на одного человека…
— На которого? Я — местный житель, всех знаю.
— На моего деда!
— А как его зовут?
Я сказал, как звали деда, и добавил, что он давно умер.
— По возрасту, вроде бы, должен знать, а по инициалам — неизвестен, — покачал головой старик, — Где он работал?
— Здесь уже в последние годы жил, на пенсии. А раньше в Сибири города строил!
— Сосланный был?
— Нет, Бог миловал!
— Это хорошо! А я-то попал под бериевскую гребенку, вычесали меня, как блоху, из родных мест. И прибыл я в Сибирь не по своей воле…
Так невзрачная рубашка из ткани «патриотик» вновь приводит к непрекращающимся спорам о степени причастности каждого к делам общественным, о пострадавших, боровшихся или предпочитавших промолчать, и степени вины каждого. Но нет больше старца Амвросия, который указал бы, кому какой камень искать на берегу Жиздры.
После осенних беспорядков в Нальчике поэт К. говорил мне, что в ситуации, когда ксенофобия и фанатизм вдруг сделались нормой жизни, ему придавали силы только междугородние звонки друзей, предлагавших убежище на случай нужды.
Мне же не позвонила ни одна собака, хотя записные книжки распухли от адресов и номеров телефонов. А я ведь их всех так любил — людей и зверей.
Порою кажется, что живешь только для того, чтобы делать заметки в этой тетради. Постмодернизм в чистейшем виде: не жизнь, а регистрация жизни. И сам ты не жилец (мое почтение, Анна Андреевна!), а регистратор, протоколист, смотритель метафор.
Но самое удивительное, что в этом, и только в этом, единственный доступный нам выход. Чеслав Милош говорил как-то:
В неуклюжих попытках пера добиться
стихотворения, в стремлении строчек к недостижимой цели, —
в этом и только в этом, как выяснилось, спасение.
Ролан Барт писал, что жизнь — не что иное, как транслитерация книг. По его мысли, изменить книгу — значит изменить жизнь.
Составляя свою книгу, эти бесконечные списки утрат, путешествий, воспоминаний, пиров духа и плоти, ты тоже стремишься изменить жизнь, хотя бы свою собственную. Но поскольку никто не знает точных правил перекомпановки текста, приходится постоянно варьировать и дополнять его новыми фрагментами, всецело полагаясь на снисходительность Творца.
Поиски бумаги для перепечатки рукописи неожиданно приводят к стопке литературных журналов за 1984 год. Перелистывая их, оказываешься в совершенно забытом мире. Приводимые в оглавлениях имена авторов уже говорят не более, чем фамилии членов британского парламента. А поднимаемые ими темы и проблемы лежат в абсолютно не пересекающих сознание плоскостях. И это при том, что, как подсказывает память, в свое время журнальные книжки читались от корки и до корки, а с некоторыми авторами даже велась полемика.
Что же до тех немногих имен, которые немеркнущими звездами сияют на русском небосклоне (Грибоедов, Гоголь, Достоевский), то все статьи о них выглядят разрозненными главами общей гоголиады. И возникает такое чувство, будто эмигрантом посещаешь историческую родину.
Вторично ощущаешь себя чужаком на полях родной словесности, когда в книгах советских поэтов пытаешься найти что-нибудь пригодное для каталога художественной выставки. В доброй сотне поэтических сборников не содержится ничего такого, что делает записанные столбиком слова поэзией: ни словесной игры, ни запоминающихся метафор, ни неожиданных ритмов, аллитераций, ассонансов, ни одной веселой сумасшедшинки. Зато повсюду видны следы нездорового слововыделения, идеологических галлюцинаций, родового бреда или, в лучшем случае, тщательно замаскированной фиги в голосе.
Все писатели — и те, кто удостаивался официального признания и наград, и те, кто отсиживался в высотных подземельях, называя это андеграундом, и те, кто находился в межеумочном состоянии, — все мы выползли из лона тоталитарной культуры. И охаивать ее, отрицать, либо продолжать плавать в околоплодных водах, равно как паразитировать на продаже карикатур на былое время или делать вид, что тебя это ни в коей мере не запачкало — занятия одинаково бесперспективные. Выход из глобального кризиса только в забвении перевернутых ценностей.
Как большевизанствующая интеллигенция в свое время отринула старую культуру, точно также сейчас необходимо отказаться от наследия большевистской оккупации. Его нужно вырезать как раковую опухоль. В такой операции будет не повторение опыта «неистовых ревнителей», а естественное возвращение к законам жизни, когда минус, помноженный на минус, дает в результате плюс.
По схожему поводу Александр Пятигорский поведал из своего лондонского угла: «Любое отрицание, хотя и дает человеку эмоциональную разрядку, но вместе с тем философски его обессиливает. Отрицая, ты не можешь оставаться самостоятельным. Отрицая, ты связан с объектом так же сильно, как и тогда, когда ты рабски этот объект принимаешь. В данном случае для философского мышления очень важно, я думаю, забвение каких-то вещей, а не отрицание их. Не отрицание, а как бы внутреннее очищение твоего мышления».
Было это в старом институтском здании на Будайской. Фильм заказали на утро, и потому в просмотровом зале собрались только те из студентов, кто жил в общежитии. Фильм был французский, по курсу зарубежного кино, с Миу-Миу в главной роли.
Переводила его очень красивая молодая девчонка. Сперва она подбирала литературные эквиваленты французским терминам, сопровождавшим сцены секса, которому предавалась на экране неутомимая Миу-Миу. Но по мере развития сюжета плюнула на это неблагодарное занятие, и стала называть вещи своими именами, что придало картине новый шарм. И было встречено единодушным одобрением в среде будущих кинодраматургов.
После просмотра, как обычно, все столпились в курилке. Переводчица вышла последней и попросила закурить. Ей были предложены на выбор сигареты без фильтра и папиросы. Девушка поморщилась. Тогда чтобы как-то поддержать честь отечественного кинематографа, я сказал, что у меня наверху в комнате есть пачка «Астора». И если девушка соблаговолит подняться, то я угощу ее также и чаем, она того заслужила в борениях с французскими идиомами. «Хорошо», — неожиданно легко согласилась переводчица.
Насчет чаю я, конечно, слукавил. Но у меня имелся в наличии почти нетронутый ящик сухого болгарского вина, которым я и намеревался попотчевать гостью. «Может промочим горло?» — предложил ей, когда мы вошли в мои студенческие апартаменты. «После, — сказала девушка, и стала стягивать с себя свитер, — Где твоя кровать?» Я показал.
Потом, когда мы уже допивали вторую бутылку «Механджийского», она неожиданно встрепенулась: «Слушай, а сколько сейчас времени?» Я посмотрел на часы: «Двенадцать тридцать две…» «Ой, мне надо к часу успеть…» «Куда?» «Вниз!»
К часу мы спустились на второй этаж, где, собственно, и протекал учебный процесс у студентов заочного отделения. «У тебя сегодня еще один просмотр?» — я решился, наконец, придать некоторую определенность нашим отношениям. «Нет! Просто у мужа сейчас должны закончиться занятия. Я его на заочный экономический пристроила. Первый курс, он еще комплексует! Но ничего, привыкнет. Кино — удивительная вещь, правда?» «Правда!» — согласился я. » Ага, вон они уже выходят из аудитории. Ну, я пошла. Пока, мон ами!» «Пока!»
Больше я никогда ее не видел. В том году до конца семестра нам по программе показывали фильмы только на английском языке.
Сумасшествие начинается с всепоглощающей страсти познать сущее, выйти за пределы, ограниченные человеческим разумом. Настоящее сумасшествие — не болезнь, а застывший крик сознания о своем неосуществимом могуществе.
При получении диплома доктора gonoris causa полагалось прочитать обзорную лекцию, и ректор спросил меня:
— Так чему вы посвятите ее?
— Шумерам!
— Простите?..
— Шумеру — цивилизации древней Месопотамии!
— Но насколько я понимаю, это несколько иной предмет исследований…
— Что вы, дорогой друг. Все начинается в Шумере! «Вначале было Слово, и это слово был Бог», — придумали позднее. И сдается мне, не в последнюю очередь для того, чтобы застолбить первородство. Вы только представьте, что еще в четвертом тысячелетии до нашей эры шумеры выработали законы, исключавшие принцип «око за око» и предполагавшие выплату определенной денежной компенсации за нанесенные телесные повреждения. И когда я сегодня читаю в газетах следующий пассаж заезжей знаменитости: «Человечество постоянно усложняло свою жизнь; вместо простого принципа «око за око» — оно придумало сложнейший и медленно действующий инструмент — демократический суд», — мне просто становится смешно. Список утрат человечества надо начинать с шумеров!
— И обязательно включить в него этрусков!
— Конечно, и этрусков, и хеттов, и хазаров, и джурдженей, и прочая, и прочая, и прочая. Но открывать список все-таки должны шумеры!
— Давайте так и назовем вашу лекцию — «Список утрат», — предложил ректор.
— Прекрасно! — согласился я.
После периода бессонницы приходят сны о прекрасных городах.
В первом из них туристический автобус едет по морской набережной, которая то представляется в виде открытого песчаного побережья с редкими пальмами и набегающими барашками волн, то оборачивается парадом белоснежных особняков. За оградой одного из них появляется бассейн с роскошным фонтаном посередине. Игра водяных потоков в нем настолько притягивает к себе, что я пропускаю момент, когда оказываюсь в следующем фрагменте сна.
Теперь та же компания, что ехала в автобусе, бредет по улице ночного города. Светится реклама магазинов и увеселительных заведений, галдят встречные фланеры, призывно смеются незнакомые женщины, слепят на мгновение фарами лихие автомобилисты. А на часах — всего-то двадцать минут после полудня. «Здесь всегда так: стоит солнцу скрыться за облаками — наступает ночь», — с видом знатока объясняю своим спутникам. И словно в подтверждение этих слов неожиданно появляется солнце и перед нами открывается вид необыкновенно прекрасного города. В нем собраны здания почти всех мыслимых культур и эпох, среди которых особо выделяется строение в готическом стиле. Оно чем-то напоминает лютеранскую кирху в начале Среднего проспекта ВО, но в отличие от нее одна стена у него совершенно глухая. И на ней начертано: «Вы бывали здесь прежде, чем пришли, и останетесь после того, как уйдете».
В другом сне мы с товарищем едем на пятнистом «виллисе» по разрушенному войной городу. На нас полевая армейская форма, мы — молодые, веселые, необремененные раздумьями солдаты удачи. У меня на коленях покоится короткий десантный автомат, и время от времени я проверяю рожок — полон ли он. Сидящая на заднем сидении девушка с распущенными каштановыми волосами беззаботно смеется. Потом мы с ней вдвоем собираем разбросанные вдоль дороги деньги. Из придорожной пыли вытаскиваем пачки красных десятирублевок и какие-то иностранные банкноты. «Что это?» — спрашивает девушка. «Афгани», — отвечаю я.
А в третьем сне прогулка по старому русскому городу завершается беседой с незнакомым собеседником. Его комната обставлена во вкусе партийных бонз, с непременным кожаным диваном, зачехленными стульями, этажерками, массивными пепельницами и прочими атрибутами ушедшего стиля. Я спрашиваю у него: «Как, кстати, называется, ваш город?» «Ты разве не знаешь? — Конец», — отвечает он. Он подводит меня к окну, откуда видна внушительных размеров башня — это может быть городская ратуша, вокзал или пожарная вышка, — и на ней написано единственное слово — «Конец». Причем все его буквы обтянуты кумачом и украшены горящими электрическими лампочками. «Никогда не слышал о существовании такого города! Ты, наверно, шутишь?» — говорю я. «Уверяю тебя, Конец всегда был в нашей области.» Мой собеседник разворачивает административную карту и показывает кружок, возле которого написано — Конец. Судя по условным обозначениям в нем постоянно проживают 250- 300 тысяч жителей.
Папаша Фрейд объяснял, что смерть во сне заменяется поездкой куда-либо, нагота — форменной одеждой, а люди — домами. Причем, дома с совершенно гладкими стенами представляют мужчин, а дома с выступами и балконами — женщин. А все увиденные в сновидениях удивительные пейзажи, оружие и великолепно обставленные комнаты являются всего лишь символами гениталий. Согласно ученому венцу сны о поездках в прекрасные города могут быть истолкованы как предчувствие смерти во время полового акта. Или как проявление воли к такой смерти.
В дневнике Суворина довольно язвительно сообщается, что Краевский умер на полковнице. Она уже мертвого потом отвезла его домой. Старик Суворин волен был сколько угодно ехидничать по поводу кончины собрата по перу, но мне представляется, что то была прекрасная смерть. Если, конечно, позволительно пользоваться подобными эпитетами в данном случае. Но как бы там ни было, согласитесь, гораздо приятнее отдать концы от страсти полковницы, чем по глупости или от служебного рвения красного (белого, черного, цвет укажите сами) полковника.
Список утрат отличается от прочих тем, что никогда не будет заполнен полностью. Каждую минуту исчезает нечто невосполнимое. Уходят люди, книги, облака, поезда, животные, вода из ванной, снег с тротуара, коньяк из бутылки etc. Зафиксировать все потери — значит, овладеть бесконечностью. Но это не удавалось еще никому.
Можно только наблюдать, как список утрат разрастается, превращаясь в величественный свиток. Наблюдать до тех пор, пока сам не станешь последней строкой в нем.
Пока же продолжается месяц утрат. И чей-то голос в автобусной толчее произносит, с трудом подавливая зевоту: «Ноябрь, какая скука!».
ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
СЕМЬЯ УЗБЕКОВ
Посадка на пригородный поезд Нальчик-Прохладный задерживается. Идёт загрузка багажного вагона. Голые по пояс, потные грузчики передают из рук в руки нехитрую поклажу. Их время истекло.
Столпившиеся на перроне пассажиры нетерпеливо поглядывают на часы. В воздухе чувствуется нарастающее напряжение.
Ставлю портфель на более-менее чистый островок асфальта и оглядываюсь по сторонам. Неподалёку расположилось семейство узбеков. Живописность этой группы, состоящей из пожилого мужчины, его жены и двух дочерей — старшей с малолетним сыном и девочки-подростка, — привлекает общее внимание. На мужчине видавший виды, помятый хлопчатобумажный костюм, на голове тёмная тюбетейка. Женщины тоже одеты затрапезно. У всех у них вид людей, привыкших путешествовать в общих вагонах, ночевать на лавках вокзалов и питаться в станционных буфетах.
Их скарб состоит из потрепанного чемодана и множества мешочков и узлов. Особняком стоит потемневший алюминиевый чайник. Младшая девочка держит на веревке низкорослого пса, назвать которого дворняжкой можно только при большом воображении, ибо он ещё не полностью утратил родство с лесом и полем.
Женщины, ребёнок и собака безмятежно ожидают посадки. Зато глава семейства — само беспокойство. Он поминутно проверяет билеты, а потом подбегает к грузчикам, словно хочет их поторопить, но, ничего не сказав им, возвращается обратно.
Хочется успокоить его. Но такое чувство, оказывается, возникает не только у меня. К узбеку подходит пышная и некогда, видимо, привлекательная дама.
— Куда едете?
— В Баку, в Баку, — частит мужчина. — Потом паромом домой, домой в Среднюю Азию.
При упоминании Азии всё семейство, включая мальчонку и пса, радостно улыбается.
— Билеты есть?
— Есть, есть.
К женщине переходят мятые листики железнодорожных бумаг. Она их придирчиво изучает.
— Всё в порядке, — женщина возвращает билеты. — Сейчас здесь остановится вагон, садитесь в него и спокойно поезжайте. А бегать по перрону и мешать пассажирам не надо. Понятно?
— Спасибо, спасибо, — кланяется узбек.
Повернувшись к своим, он говорит им что-то на родном языке, и весь клан смотрит ему в рот.
Дама со снисходительной улыбкой — Азия! — возвращается к своим спутникам. Но её улыбка преждевременна. Дело в том, что билеты узбеков отличаются от квиточков пассажиров пригородного поезда. И, следовательно, среднеазиатским путешественникам надо не в любой вагон, где места даже не пронумерованы, а только в последний, который на узловой станции в Прохладном прицепят к скорому поезду Москва-Баку. Надо бы сказать об этом узбекам. Но тут протягивают состав и начинается посадка.
Семейство подхватывает пожитки и, непонятно как оттеснив других пассажиров, заполняет узлами тамбур. Они спешат, но не суетятся. Каждый знает свою роль и чётко ее исполняет. Маленький мальчик, например, тащит пустой чайник, а собака сама карабкается по ступенькам в вагон.
Когда я поднимаюсь в вагон, в тамбуре на узлах сидит девочка с собакой, а остальные члены святого семейства отдыхают в креслах.
Минут через пятнадцать после отхода поезда начинается проверка билетов. Проходя мимо узбеков, проводница лениво бросает:
— В последний вагон надо было садиться. Теперь в Прохладном придётся пересаживаться.
— Пересадка? — удивляется глава семейства. — В Баку, в Баку пересадка. На паром. Зачем Прохладный?
Проводница, не слушая его, скрывается в тамбуре.
Тогда он адресует тот же вопрос соседям, двум крепким загорелым мужикам, собравшимся, судя по их внешнему виду, на рыбалку и по такому случаю уже принявшим по маленькой. Друзья внимательно выслушивают узбека, немного спорят между собой и, перебивая друг друга, говорят:
— В Прохладном сойдешь, так? Так! Пересядешь на московский поезд, так? Так! И завтра будешь в Баку! Всех делов на пару пузырьков! Так? Так!
— Не так! — возражает мужчина. — В Баку, в Баку пересадка! Вот билеты.
— Поезд идёт только до Прохладного, так? Так! Нет, пусть он сам скажет, так?
— Так, — соглашается узбек.
— Значит, в Прохладном надо делать пересадку. Так?
— Так, так, — невольно соглашается глава семейства.
— И проводница так сказала!
Авторитет проводника, человека, облаченного в форменную одежду, окончательно убеждает узбека. Он бурно объясняет женщинам изменившуюся ситуацию, вставляя в узбекскую речь слова «Прохладный» и «пересадка».
Рыбаки, переглянувшись, — Азия! — подхватывают рюкзаки и топают к выходу.
— Счастливо добираться!
Семейство улыбками благодарит их за внимание и добрые слова.
Кажется, настало время вмешаться и объяснить, наконец, сбитым с толка людям, что им надо делать. Но опасаюсь ещё больше их запутать и решаю подождать до Прохладного.
В Прохладном они столь же проворно выгружают свой багаж, только теперь узлы и мешочки складываются вокруг тутового дерева.
Подойдя к мечущемуся отцу семейства, говорю, что им надо всего-навсего перейти в последний вагон этого же поезда. Потный мужчина глядит на меня очумело:
— Слушай, будь человеком, покажи, где последний вагон?
ДЕТИ
Начались зимние каникулы. В поезде стало заметно больше школьников. Бывает, целыми классами едут на экскурсию в Нальчик. Тогда в вагоне стоит шум, гвалт, смех. То тут то там вспыхивают огоньки песен, но быстро гаснут, поскольку больше двух куплетов никто не помнит. Удивляться не приходится — эпоха повсеместного распространения телевидения и магнитофонов.
Поначалу и этих детей я принимаю за экскурсантов. Но настораживают их грубые, не по росту зимние пальто и стандартные серые ушанки. И веселятся они как-то вполголоса, поглядывая по сторонам, точно ожидая окрика. Приглядевшись, догадываюсь, что это дети из интерната едут домой на каникулы.
Разговоры они ведут про Нальчик, откуда через час-другой разъедутся по своим селениям и небольшим городкам. Для них столица республики — что Мекка для правоверных: они ей поклоняются, но не представляют, как она выглядит. Познания большинства ограничены центральным проспектом и железнодорожным вокзалом. Одна девочка рассказывает, что каталась с отцом в парке на электрических машинках. Ей не верят.
По вагону проходит проводница. Дети смолкают и подобострастно поглядывают на неё. Между собой они называют её «вагонщицей».
Девочки вынимают общие тетрадки и начинают переписывать друг у друга слова каких-то песен. Эти тетрадки — их альбомы, средоточие духовной жизни. Сюда приклеивают картинки из журналов, фотографии киноартистов и певцов, переписывают стихи и песни. В каждой тетради есть раздел «Цитаты», где можно встретить такие перлы:
Дружба — путь к любви.
Донос — нож в сердце.
Дети — цветы жизни.
АСПИРАНТ
Зимний солнечный день. Плавно покачивается тёплый вагон. За окном мелькают марсианские пейзажи серебристой равнины с причудливо оледеневшими деревьями.
Отложив книгу, наблюдаю за сидящим наискосок бородатым молодым человеком. Он с веселым азартом покрывает формулами листок за листком ученической тетради.
Кто он? Судя по возрасту, аспирант или младший научный сотрудник. Сейчас, наверно, готовится к выступлению на кафедре или строчит реферат для специального журнала. А может быть, разгрызает давно засевшую на зубах теорему. К любопытству у меня примешиваются ностальгические чувства по своей математической юности и добрая зависть к его умению столь отрешенно работать в переполненном вагоне. Не в силах совладать с ними, встаю, чтобы бросить взгляд в его тетрадку.
К своему полному разочарованию замечаю, что мой «аспирант» решает обыкновенные физические задачки. Те несложные загадки, где по схемам требуется рассчитать характеристики электрических цепей. Выходит, на самом деле он не более как студент первого или второго курса физмата.
Улыбнувшись, возвращаюсь на свое место и думаю о том, как легко наше воображение строит воздушные замки на пустом месте. И ещё думаю о том, что кто-нибудь сейчас наблюдает за мной и тоже пытается втиснуть в готовое клише. Интересно, кем я ему кажусь?
«ОСВОБОДИВШАЯСЯ«
Поезд ещё не тронулся. Настала та лёгкая минута, когда волнения, связанные с посадкой и поиском свободных мест, уже позади, а привычная дорога ещё не успела наскучить, и можно откинуться в кресле, вытянуть ноги и помечтать о чём-нибудь хорошем. Но такое блаженство, равно как и любое другое, долго не может продолжаться.
Внезапно по вагону пробегает волна оживления. Словно по команде, пассажиры поворачивают головы в сторону входной двери. И в постепенно стихнувшем вагоне раздаётся ровный, чуть с хрипотцой, женский голос:
— Граждане и гражданки, прошу вашего внимания и участия! Недавно я освободилась из колонии, и случилось так, что осталась без копейки денег…
«Начинается трогательная история», — с неприязнью, что кто-то покушается на мой покой, думаю я и прячу ноги под кресло.
— Не могу продолжить путь в новую жизнь, — в полной тишине произносит женский голос. — Помогите, любезные граждане и дорогие гражданки, кто сколько имеет возможного!
Краткость исповеди и то достоинство, вернее, тень достоинства, с которой она была преподнесена слушателям, вызывают всеобщий интерес к пострадавшей. Я тоже выглядываю в проход.
Там собирая медь и серебро, продвигается женщина лет тридцати. Одета она в чёрную болониевую куртку и голубые хлопчатобумажные брюки, которые отечественная лёгкая промышленность упорно именует «джинсами».
— Спасибо. Дай Бог здоровьичка. Спасибо, — говорит она, принимая пожертвования.
Деньги в основном подают старики, помнящие послевоенных инвалидов и оборванных нищих. Мои ровесники предпочитают смотреть в окно или читать книги.
«Освободившаяся» приближается ко мне. Припухшее лицо и тщательно запудренный синяк под глазом не оставляют сомнений в причине постигших ее затруднений. Однако она обращается к нам за помощью, а не за проповедями трезвого образа жизни. Поэтому молча выгребаю из кармана мелочь и протягиваю ей. Даже не взглянув в мою сторону, принимает она монеты и, ни слова не сказав, продолжает свой крестный путь.
Сидящий впереди меня чубатый парень ловким движением вынимает из кошелька рубль и, прочертив им в воздухе окружность, задерживает над раскрытой ладошкой женщины.
— За что сидела, чучундра?
«Освободившаяся» замирает и мгновенно съёживается, будто её ударили электрическим током.
— По какой, говорю, статье трубила? — не унимается парень.
Со спины мне не виден её взгляд, но по тому, как отпрянул рублевладелец и с какой скоростью распрямился его пшеничный чуб, можно судить о силе ответного разряда.
Покончив с ним, женщина идёт дальше.
— Рубель-то прими, — очнувшись кричит ей вслед чубатый. — Прими рубель, слышишь?
Она его не слышит.
КОМАНДИРОВАННЫЕ
Молодые спортивного вида мужчины со вкусом растянулись в креслах, откинули их спинки и продолжили прерванный разговор.
— Я всегда две печати требую. День приезда — день отъезда! После уже вписываю нужные числа. Очень удобно! Всегда всё о’кей!
— У меня в этот раз не прорезалось. Главный отказался ставить вторую печать.
— Плевать тебе на него! Для нашего брата главным является секретарша. Ты сделай ей комплимент, подай последнюю столичную новость, и она тебе куда захочешь печать поставит. Хоть на шею!
Приятели понимающе захихикали. Потом менее везучий заметил:
— Провинция, она и есть провинция…
— А я люблю провинцию! Люди здесь хорошие. Чистые люди!
— Это точно, даже в долг дают.
— А овощи, фрукты? Природа какая?! Ты где в Москве зелень берешь?
— В универсаме.
— А я предпочитаю Тишинский рынок. Люблю, понимаешь, потолкаться среди народа, потолковать.
— Да, народ у нас славный…
— Замечательный народ! Такую войну выиграл, молодчага! Но честно скажи, смог бы жить в провинции?
— Я?! Ни за какие коврижки! Отдыхать — да, жить — никогда!
— И я пас! А почему, а? Размаху здесь нет, движение не чувствуется. А без него нет и жизни, говорили классики.
— Точно! В белокаменной я всегда в струе.
— Погоди-ка. Что там за шевеление масс?
— По-моему, билеты проверяют.
— Да?! Ну-ка, встали…Встали и пошли. Только тихо, без спешки. Улыбайся, друг, улыбайся!
И они, улыбаясь и не спеша, двинулись в сторону тамбура, подальше от приближающихся контролёров.
КАВАЛЕРЫ И БАРЫШНЯ
По пятницам вечерним поездом из Нальчика возвращаются домой на выходные жители окрестных сел и маленьких городов. В этом поезде свободных мест не бывает, везде в проходах стоят люди, а по вагонам в поисках развлечений протискиваются вереницы ребят.
Вот двое из них остановились возле девушки, уютно расположившейся в кресле с книгой в руках.
— Привет! — сказал высокий брюнет с редкими усиками на румяном лице.
— Ой, — откликнулась девушка, закрывая книгу. — Тебя не узнаешь!
— Что, постарел? — подмигнул приятелю брюнет.
— Не очень, — в тон ему ответила девушка. — Изменился просто…
— А ты думала! Скоро год, как школу закончили. Кстати, знакомься: мой друг.
Последовала церемония знакомства с пожатием рук и непременными «очень приятно».
— Где сейчас обитаешь? — поинтересовался парень, присаживаясь на подлокотник кресла.
— В педучилище. А ты? Поступал куда-нибудь?
— Не, с меня хватит и школы.
— Правильно, — подхватил его приятель. — Век живи — век учись, а дураком помрёшь!
Довольные удачной шуткой друзья весело прыснули, а девушка только вежливо улыбнулась.
— Нет, правда, где работаешь?
— Много будешь знать, скоро состаришься!
— Ну, не хочешь — не говори, — девушка отвернулась к окну.
— А может, ему нельзя распространяться? Может, это военная тайна? — вступился за брюнета приятель.
— В армию, что ли, готовишься? — девушка снова повернулась к приятелям.
— Вот ещё, — отмахнулся брюнет. — Два года терять, больно надо.
— Армия — хорошая школа, — добавил его остроумный друг, — но мы предпочитаем заочное обучение.
Они опять рассмеялись, а девушка на этот раз лишь слегка покривила губки.
— А если без хохмы, — проговорил одноклассник, наклоняясь к девушке, — вкалываю в одной конторе. Директором пока не поставили, но башли выдают нормальные.
— Скажешь тоже: нормальные, — неожиданно возмутился весельчак. — Вот раньше было дело, не спорю. А сейчас того уж нет!
— Всё равно, дышать можно, — возразил брюнет. — Я, например, скоро новый маг зацеплю. Есть на примете японский, суперстерео, обалдеть можно. Вот так-то, студентка! — он попытался её шутливо щёлкнуть по носу, но она легко увернулась.
— Музыку пригласишь послушать?
— За мной не заржавеет, курочка! — нежно поворковал брюнет.
— Курочка? — удивилась девушка. — А ты что, петушок?
Петушками в колониях называют гомиков и парень, видимо, знал это. Он, как ошпаренный, вскочил с подлокотника, залился краской и зыркнул в сторону приятеля, слышал ли тот. Тот даже если и слышал, сделал вид, что ничего не произошло. Но брюнет уже не мог остановиться. По-шукшински играя желваками, он грубо процедил:
— Ты так больше никогда не скажи!
И, обращаясь к приятелю, добавил:
— Погнали отсюда!
В ту же минуту они растворились в толпе пассажиров, заполнивших все пространство вагона.
— Дурак! — протяжно выдохнула девушка и со слезами на глазах отвернулась к окну.
Там уже мелькали огни следующей станции.
ЧЕЛОВЕК-ГЛЫБА
Человек-глыба, захвативший два кресла по другую сторону прохода, медленно повернул голову в мою сторону, внимательно изучил меня и только после этого произнёс:
— В карты играешь?
— Нет.
— Почему? — он пристально посмотрел мне в глаза.
— Не научился, — сказал я, вспомнив бесконечную череду дней, вернее, ночей, проведенных за «зелёным сукном».
— А, — видимо, его удовлетворил мой ответ, потому что он переместил взгляд на следующие ряды кресел.
Теперь и я мог его хорошо рассмотреть. Про таких обычно говорят, что они высечены из камня. Про него должно было добавить, что скульптор по каким-то причинам бросил свою работу на полпути.
Большую квадратную голову с седоватым ёжиком волос поддерживала короткая багровая шея. Лицо было темное, бугристое, с небольшим крючковатым носом. Впечатление каменной глыбы усиливали бесформенное туловище и огромные ноги, то и дело выползавшие в проход, казалось, без ведома хозяина. В мутных коричневых глазах живого монумента не отразились даже вспыхнувшие по всему вагону электрические лампочки.
Он вглядывался в лица снующих по вагону людей и по каким-то, ему одному ведомым, признакам останавливал представителей мужского пола. Спрашивал, играют ли они в карты. В ответ чаще всего следовали недоуменное пожатие плечами либо отрицательный кивок головой. Но это нисколько не обескураживало человека-глыбу. Он снова и снова закидывал удочки насчет картишек.
Вскоре на весь вагон свободным осталось только одно кресло, путь к которому преграждал любитель азартных развлечений. Всем претендентам на него, а их становилось всё больше, он мрачно объяснял, что занял место для друга.
Наконец ему повезло. Молодой розовоухий «пэтэушник» публично признался в пристрастии к карточным играм. Человек-глыба с трудом привёл себя в вертикальное положение и позволил парню протиснуться на свободное сидение. Затем вытащил из кармана засаленную колоду и долго тасовал её неповоротливыми, в мелких чёрных порезах, пальцами.
Они сыграли несколько партий в «дурака», с шумом шлёпая картами по крышке маленького чемодана, поставленного на колени «пэтэушника».
После очередной раздачи монумент неожиданно разворошил огромной пятерней приготовленные для игры кучки.
— Скучно, — рявкнул он.
И, взглянув на притихшего партнёра, грозно заявил:
— Теперь играем во вьетнамского!
— Не умею, — робко вставил тот.
— Выучишься!
Человек-глыба раздал по четыре карты и принялся путано, с ненужными подробностями и ничего не говорящими примерами, объяснять правила новой игры. Партнёр не понимал его, да и не так просто было уразуметь этот нелепый гибрид различных версий «дурака» и «ведьмы». Но в глазах учителя впервые за вечер отразился свет вагонных лампочек.
МИМОЛЁТНОЕ ВИДЕНИЕ
Поезд остановился в непредусмотренном расписанием месте. От неожиданной остановки я пробудился и выглянул в окно.
Из клубящейся за стеклом влаги выступали голые тёмные деревья. Две вороны вспорхнули с осины и, суматошно махая крыльями, пропали в густой смеси тумана и низкого серого неба. Потом показался кусок чёрного поля с пожелтевшими клочьями неубранной травы. Что-то очень знакомое было в открывшемся виде, но что именно, я никак не мог сообразить.
Вдруг из-за деревьев возникла худая старая собака. Её длинные уши, ниспадающие по краям вытянутой морды, гладкая мышиного цвета шерсть и короткий прямой хвост мгновенно придали пейзажу законченный вид.
Сомнений не было — за окном лежала Германия эпохи Тридцатилетней войны. Казалось, ещё минута и раздастся голос Опица, Логау, Гофмансвальдау или Грифиуса:
Я в одиночестве безмолвном пребываю.
Среди болот брожу, блуждаю средь лесов.
То слышу пенье птах, то внемлю крику сов…
Стараюсь разгадать прощальный бой часов.
БАРАНКА
Пригородным поездом возвращался в Нальчик. После каждой остановки в вагоне становилось теснее. Трудовой люд стекался в город к концу воскресного дня.
Устроившись поудобнее, — я вошёл когда ещё были свободные места, — читал «Казаков» Толстого. В пятый раз перечитывал то место, где Оленин, томимый предчувствием ещё не понятных ему перемен, уходит на охоту и, забравшись в лесную чащу, падает на траву у пустого звериного логова и долго размышляет о своей жизни. Какие простые и вместе с тем чудесные слова нашёл Лев Николаевич для передачи внутреннего состояния героя! Что нужно, думал я, чтобы научиться так писать? Что читать? Как жить? О чём думать?
После очередной стоянки возле меня остановилась старая горянка с двумя сумками, набитыми до краев продуктами, и наброшенной на шею связкой баранок. Уступать место не было ни малейшего желания, и я стал мысленно перебирать доводы в пользу того, чтобы этого не делать. А через минуту-другую заметил, что уже не читаю «Казаков», а ищу оправдание своему поведению. Следом пришла мысль, что размышлять о Толстом и одновременно о подобных вещах — занятия не только не совместимые, но и диаметрально противоположные.
Потрясенный этим, я моментально вскочил на ноги и принялся усаживать старуху на своё место. Сделать это оказалось не просто, поскольку она была воспитана в крепких национальных традициях и предпочитала лучше стоять, чем сидеть в присутствии мужчин. Но я всё же усадил её.
В Нальчике, собираясь выходить из вагона, она ещё раз поблагодарила меня и протянула баранку:
— Возьми, хороший ты человек.
Долго в опустевшем вагоне крутил я в руках свежую баранку, пытаясь понять, какой всё же я человек.
ПОВЕРЖЕННЫЙ КУМИР
ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
В телевизионной трансляции заседания Верховного Совета поразило выступление некоего маршала. То ли Зябликова, то ли Дятлова. Не мыслями или идеями поразил он меня, — что интересного может сказать гражданину мира советский маршал? — заинтриговал мундиром. И даже не столько самим мундиром, сколько прикрепленными к нему орденскими планками. Стройной шеренгой спускались они от левого лацкана до нижнего обшлага. Полторы сотни различного рода знаков отличия насчитал я в маршальском строю.
Если перейти к арифметике, которая по Гауссу, является царицей математики, а та, в свою очередь, является царицей точных наук, и потому арифметический подход может служить средоточием научного метода, так вот, если перейти к арифметике, то придётся признать, что доблестный маршал получал каждый квартал по ордену или медали. Другими словами, каждые три месяца он совершал какой-либо подвиг. Это ж какая героическая личность!
Тут бывает целыми днями сидишь за пишущей машинкой и высасываешь из пальца для юношества: с кого делать жизнь? А тем временем неизвестные герои целыми часами толпятся у второго, третьего и шестого микрофонов.
ДЕТОЧКА
Пятилетний мальчуган шагает по улице. Полузастёгнутая куртка сдвинута на плечи на манер приблатнённых пижонов 60-х годов.
Тут же дама прогуливает собачку. Не обращая внимания на хозяйку, мальчишка даёт собаке пинка под зад. Дама кричит: «Тебе не жалко животное?» «Молчи, фря!» — бросает ей деточка. У женщины отвисает челюсть. А он уже топает по подёрнутым ледком лужам, разбрасывая грязь ошуюю и одесную.
Его старшие брат и сестра, школьники, ушли немного вперёд. Мальчишка нечеловечески диким голосом орёт им: «Стойте, гады!» Не поворачивая головы, сестра отвечает ему на той же ноте: «Заткнись, зараза!» Тогда пацан опускается на снег под кустом калины и закатывает истерику.
Хотел написать «пьяную», но вовремя спохватился — ребёнку-то всего лет пять. Перекрестился.
УПОЛНОМОЧЕН СООБЩИТЬ
Просто поразительно, какое ошеломляющее воздействие имеют за рубежом Пленумы ЦК КПСС. Судя по нашей печати, в такие дни граждане всего мира откладывают неотложные дела, чтобы самым внимательным образом ознакомиться с материалами очередного партийного форума.
Как только представлю себе, что там происходит, меня просто переполняют восторг и ликование. Не особо напрягая воображение, вижу, как французы прерывают, не кончив, свои амурные дела, американцы в спешке покидают биржи, итальянцы отодвигают пиццу, а англичане восклицают: «Ё-моё!», — и при этом забывают добавить: «sorry». И все они, как один, бросаются к своим телекам и «телефункенам», газетным киоскам и почтовым ящикам. И, развернув с хрустом, какую-нибудь паршивенькую «Гардиан» или «Дейли ньюс» жадно поглощают сообщения ТАСС и выступления постоянных членов Политбюро.
А я в такие дни, сидя у себя на кухне и прихлёбывая грузинский чай (2-й сорт, чёрный, байховый), размышляю о том, что же руководит ими, всеми этими гражданами свободного мира. И постепенно, — от одного Пленума к другому, — прихожу к мысли, что движет ими ни что иное, как стремление разгадать загадку русского феномена. Вот уже семь десятилетий пытаются понять они, как можно придавать такое большое значение пустякам и глупостям. И сколько ещё лет мы будем обманывать себя, друг друга, огромную страну и весь мир?
И необыкновенная радость пробирает меня, что эти хваленые зарубежцы и заокеанцы, вооруженные компьютерами фиг знает какого поколения и социологическими выкладками всех шпионских служб мира, не способны уразуметь того, что мы просто-напросто валяем дурака. Уже семьдесят лет валяем ваньку, и ещё будем валять, сколько Господь позволит. Потому что Октябрьская революция воплотила вековую мечту русского человека — построить такое общество, где можно было бы безболезненно и многогранно валять дурака.
Об этом я и уполномочен сообщить. Не от имени и не по поручению. А от жалости к ним.
ГЕГЕМОН РЫГАЕТ
Пили с Таней воду на источнике «Нальчик». Рядом пристроился приезжий мужичок с юбилейной медалью в честь первого столетия младшего Ульянова и значками молотобойца пятилетки на пиджаке. Он по привычке «винтом» осушил наполненную минералкой водочную бутылку, потом рыгнул и сообщил нам: «Вкуса не почувствовал!»
Мы разговор не поддержали. Молча потягивали слегка теплую воду, я — с удовольствием, Таня — за компанию.
Мужичок наполнил бутылку снова и хорошо заученным жестом запрокинул её над головой. Вода с урчанием устремилась к нему в глотку. Закончив пить, он опять рыгнул и с удовлетворением произнес: «Нет, не почувствовал вкуса!».
Мы демонстративно промолчали и на этот раз. Тогда он ещё раз рыгнул и, пренебрежительно покачав головой, удалился.
Очень странный экземпляр homo sapiens’а! Какой вкус у воды он ожидал найти? И почему нам докладывал свои впечатления? Хотел завязать светскую беседу о сравнительных качествах «нальчика», «виши» и «карлсбадской»? Тогда зачем рыгал? Это отпугивает.
А если хотел таким образом лишний раз подчеркнуть, что гегемон всегда прав, то мы и без него это знаем. Пролетарии лучше всех разбираются в международной политике, симфонической музыке, кибернетике etc. Работать только не умеют. Рыгают.
ЛЮБОВЬ БАБУШКИ
Моя бабушка Маруся, гимназистка 1912 года, удивительным образом симпатизирует одному председателю Совета Министров, коего я считаю редкостным неумёхой и плаксой. Бабушка его отчаянно защищает и сердится на меня.
— Вот уж кому палец в рот не клади, — кивает она на мелькнувшего в телевизоре любителя одиночных заплывов в политике. — Откусит руку по локоть!
— И правильно сделает, — говорю я. — А положишь палец в рот твоему кумиру, он расплачется. И потом будет жаловаться по телевизору: «Товалиси, у меня во лту чей-то палес толсит! Плавительство отказывается лаботать в такой обстановке. Слюкотно!»
Бабушка смеётся до слёз, а потом, спохватившись, включает на полную мощность телеприёмник. «Тебя посадят», — говорит она и кладёт на меня крестное знамение от тюрьмы и сумы.
Всё-таки меня она любит больше, чем председателя Совета Министров. И это не даёт угаснуть вере в спасение моей страны.
СЛОЖНЫЙ ГАРНИР
Как-то давно мы проводили отпуск в деревушке на берегу Чёрного моря. И в столовой часто оказывались в очереди за одним украинцем, постоянно выражавшем недовольство меню этого заведения. Однажды его приятель не выдержал и спросил, чтобы он хотел увидеть на ужин. И тот, не задумываясь, выпалил: «Люля-кебаб со сложным гарниром!»
Этот «сложный гарнир» моментально вошёл в наш семейный лексикон. И часто, спрашивая за столом «сложный ли сегодня гарнир на обед», мы вспоминаем неизвестного хохла.
А известного некогда в стране и за рубежом генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко никогда не вспоминаем. Ни за столом, ни в очереди, ни просто так, от скуки.
И сейчас я помянул его лишь для того, чтобы придать «сложный гарнир» легендарному хохлу.
УСТНЫЙ РАССКАЗ
Смотрел по телевизору «устный рассказ» И. Андроникова о Петре Петровиче Перцове. Звучит, конечно, нелепо, — смотреть по телевизору устные рассказы, но дело не в этом.
В рассказе Андроникова есть очень смешная сцена, когда идёт приём в Союз писателей и Фадеев интересуется, чем знаменит Перцов, а все молчат. Тогда поднимается молодой и толстый Ираклий, что даёт повод Александру Александровичу разразиться блестящей тирадой: «Обнажим головы! Заговорили немые! и т.д.» И этот образованный Ираклий говорит, что знаком с творчеством Перцова: он написал книгу о Третьяковской галереи. «О чём эта книга?» — мудро спрашивает генсек советских писателей. «О картинах Третьяковской галереи», — столь же мудро отвечает тогда ещё не член правления, не член секретариата СП и прочего, как он это сам любовно подчёркивает. (А как тогда он оказался на заседании секретариата СП? Да ещё во время приёма? Да ещё во время войны? Совершенно не понятно! Какая-то «Загадка И.Л.А.»!)
Далее в живом изложении Ираклия Луарсабовича шёл рассказ о самом Петре Петровиче Перцове. Очень смешной и добрый рассказ о неудачливом литераторе, которого чуть ли не в восемьдесят лет приняли в Союз писателей. Я много раз его слушал и всегда смеялся. И на этот раз слушал. Но уже меньше улыбался, больше комментировал. А жена на меня шикала. Она любительница Андроникова. И вообще ей интересен литературный процесс в живом изложении. Даже в моём. Хотя какой у меня процесс, так — товарищеский суд в ЖЭКе.
Но я отвлёкся. Пафос рассказа состоял в судьбе П.П. Перцова, оказавшегося племянником поэта Эраста Перцова, которого якобы весьма ценил Пушкин и который был чуть ли не обличителем самодержавия. Эдаким тайным агентом свободы! И это вызывало у меня решительный протест. Пушкин, насколько мне известно, против самодержавия ничего не имел, по революционной, тем более марксистской, части не состоял, и с чего ему пристало восхищаться каким-то третьестепенным поэтом, было абсолютно не понятно. Может они вместе сиживали за жжёнкой или волочились за чьей-нибудь жёнкой, тогда — другое дело, понимаю, одобряю. А так…
Но как бы там ни было, согласно устному ноэлю Андроникова, через этих Перцовых, — Петра Петровича и его дядю Эраста, — выстраивалась живая цепочка, соединившая нынешних, — на момент съёмки, — деятелей пера с главным гением России. И Петр Петрович Перцов в благодарных сердцах и памяти миллионов телезрителей должен был остаться безгласым звеном этой блестящей и крепкой цепочки талантов и умовластителей.
С тем я и выключил телевизор. Взялся читать только что изданный через семь десятилетий запрета том Розанова. И надо же такому приключиться, сразу натолкнулся на упоминание о Петре Петровиче Перцове! Оказалось, что сей «публицист и критик подготовил издание четырёх книг Розанова». Часто Розанов ссылается на него, упоминает, дорожит его именем. Вот обрывок из «Опавших листьев»: «Чего я жадничаю, что «мало обо мне пишут». Это истинно хамское чувство. Много ли пишут о Перцове, о Философове. Как унизительно это сознание в себе хамства…»
Вот каким на самом деле оказалось малоприметное звено в литературной цепочке, что выстроил и нацепил себе на шею незабвенный Ираклий Луарсабович! И в каком совершенно новом свете заблистал его «Рассказ о Петре Петровиче Перцове»!
Это ведь рассказ о том, как они «делали» русскую литературу. Как хотели, как девку, во все отверстия. И при этом не скрывали своих противоестественных наклонностей, более того — получали за них Ленинские и Сталинские премии.
Воистину было время Содома и Гоморры.
Добавление 1992 года.
После того как был написан и частично опубликован в еженедельнике «Северный Кавказ» данный цикл, я увидел наконец фотографии Петра Петровича Перцова. На них он похож на Герберта Уэллса — типичный европеец конца прошлого-начала нашего века.
В начале 900-х годов Перцов был редактором журнала «Новый путь». Вокруг этого журнала группировались участники Религиозно-философских собраний: Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Философов и другие. В мартовском номере за 1903 год журнала «Новый путь» состоялся поэтический дебют Блока.
Так что, Петр Петрович действительно был важным звеном в живой цепочке русской литературы. Но только настоящей литературы, а не того чудовищного гибрида Пушкина с Фадеевым, что рисовали в своём воображении имитаторы советской эпохи.
ВСТРЕЧА С ПАПОЙ
Возникнут же такие фантазии. Будто приезжаешь в город Х. и идёшь на встречу с собственным папой, которого никогда не видел.
Вот, думаешь, папа-то обрадуется. Он же тоже тебя не видел сорок лет. А тут, на тебе — взрослый мужчина, отец прекрасной дочери, кинодраматург, автор нескольких книг, многих рукописей и тысячи писем к современникам и прохожим. Просто ходячее собрание сочинений! И к тому же родное. Вот папа-то обрадуется!
И жена его обрадуется. И от радости за папу выставит перед тобой большую тарелку горячего борща. А папа, папа не только обрадуется, папа даже прослезится. Всплакнёт о молодых годах, прожитых не совсем так, когда можно оглянуться назад и не пожалеть о бесцельно прожитых годах. И, промокнув платком слёзы, папа поставит на стол бутылку горилки.
И вы разольёте её по граненым стаканам. Чокнетесь и, залпом заглотнув колющуюся с утра жидкость, одинаково вкусно захрустите маринованными огурчиками. Такие родные, близкие, хорошие люди!
Потом выпьете по второй, третьей, и папа споёт свою любимую песню «Чому я ни сокол?». А после посмотрит на тебя и строго спросит, ходишь ли ты по блядям? Нет, ответишь ты, потупив взор, не хожу. Папа спросит, не со здоровьем ли, сынок, проблемы? Нет, скажешь ты, не со здоровьем. «А почему тогда?» — спросит папа. Всё некогда, ответишь, занят, скажешь, в основном сочинением собственных сочинений.
И тогда папа пристально посмотрит тебе в лицо: а его ли ты сын? «Кто это такой вобще? — спросит свою супругу. — Чё этот бородатый здесь делает? Какого, спрашиваю, хера ему надо? Кто впустил его в приличный дом? Документы проверили? Где паспорт? Есть украинская прописка? Нет?! Тогда пусть катится по месту адреса, то есть жительства, в смысле — среды проживания и обитания!».
Странные, странные фантазии бывают иногда у нас по утрам. А какие, интересно, фантазии посещают папу в славном городе Х.?
КАЛЕНДАРЬ
Купил календарь с картинками. Они оказались ужасными, в смысле полиграфии.
А назывался календарь «В мире прекрасного». Но разглядел я это только на улице. В магазине было темно или специально свет не зажигали.
Несу календарь домой, как селёдку, на вытянутой руке, за хвостик.
Подходит женщина. По виду — из постоянных посетительниц художественных выставок.
— Где купили? — спрашивает.
— Я его не покупал.
— А?
— Нашел!
— Где?
— У себя в кабинете.
— Как?
— Обыкновенно! Пришел на работу, смотрю — лежит. Сразу понял: взятка! Теперь вот несу в милицию как вещественное доказательство. Вы не из милиции будете?
— Почему так подумали?
— Расспрашиваете много! И из-под юбки у вас выглядывает кобура!
Бросилась в сторону, на ходу натягивая юбку на колени.
Ну, вот… А я хотел ей календарь подарить. Пошутил называется…
Расстроенный пришёл домой. Вбил гвоздь в стену. Хотел на него повесить календарь, но повесил верёвку. Залез в петлю. И тут же свалился на пол. Гвоздь не выдержал.
Хотел забить его снова. Но он покривился. Пока выпрямлял, в голове мелькнула идея рассказа. Решил записать.
А может быть, правильнее всё-таки было довести до конца затею с гвоздём?
РАЗРОЗНЕННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ИЗ ЗАПИСОК
СОСТАВИТЕЛЯ АНТОЛОГИЙ
1. ПУШКИН
Вычитал в романе Кривулина — «облеухоподобный начальник над русской литературой прошлого века — чл.корр.б.». Сразу загорелся: кто такой? почему со строчной? Наверняка ведь знаю, должен знать, а вспомнить не могу.
Перебрал в памяти всех начальников над русской литературой. Их оказалось так много, словно к каждому писателю был приставлен свой уваров или победоносцев, чтобы не очень-то чудили и вольнословили. Более получаса посвятил восстановлению виртуальных связей литературы и начальства двух столетий, но на фамилию чл.корр.б. так и не наткнулся.
Все же не выдержал, направил стопы к книжному шкафу. И стоило только снять с полки первый попавшийся томик из пушкинского собрания сочинений, как фамилия «облеухоподобного» всплыла сама собой — Благой Дим Димыч, автор пухлых отчетов о процессе пережевывания пушкинских текстов. И, естественно, член-корреспондент Академии наук СССР. Филологом с головенкой китайца называл его Мандельштам в «Четвертой прозе».
Вот ведь какое это явление — Пушкин! Стоит только взять в руки его книгу, и сразу попадаешь в некое поле немеркнущей жизни. Солнцем русской поэзии назвал его именитый современник. Солнцем русской жизни по праву можем считать его мы.
Неудивительно, что фраза Аполлона Григорьева «Пушкин — наше всё» стала расхожим клише газетных страниц. Действительно, в его творениях отразились все главные вопросы русской культуры, истории, былой жизни и будущности. Он — современник каждого говорящего на русском языке.
И словно в подтвержденье последней мысли прочитал на случайно раскрывшейся странице всё того же томика:
Не пленяйся бранной славой,
О, красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!
Когда американская писательница мисс Нина Берберова заявляла об устарении Пушкина и о том, что он не может вызывать живой интерес у современников атомной бомбы, ее словам не стоило придавать большого значения. Потому что в этот момент ее устами говорила не профессиональная писательница и не профессор русской литературы заокеанского университета, а женщина, чьи молодые годы были отравлены пушкинистом.
Человеком написавшим однажды:
России — пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.
Мы богаче Владислава Ходасевича, у нас всегда под рукой не восемь томиков Пушкина, а академическое собрание сочинений в десяти томах.
2. ХОМЯК
Завёлся у нас в саду хомяк. Толстый и вальяжный, в бурой шубе с черными полосками он напоминал обкомовского барина былых времен, и даже не делал попыток спрятаться, когда я на него случайно наткнулся.
— Что ты на него смотришь? Убей! — посоветовал сосед справа.
— Я у себя уже восемь хомяков порешил, — доложил сосед слева.
— Он не может убивать животных, — сообщила соседям моя жена.
И они поспешили ко мне на помощь, вооружившись, один — лопатой, а другой — толстой палкой.
Пришлось пошевелить хомяка ногой. Это заставило его двигаться и он успел спрятаться в зарослях травы.
Не обнаружив добычи и поняв, что я способствовал ее бегству, соседи посмотрели на меня с укоризной и разочарованием.
— Весь урожай сожрет он у тебя, — сказал сосед слева.
— Доминдальничаешься с паразитами, — сплюнул себе под ноги сосед справа.
Мне ничего не оставалось сделать, как развести руками.
В самом деле, что я мог сказать в свое оправдание? Разве, что прочитать какое-нибудь стихотворение? Например, вот это, Евгения Кропивницкого:
В 20 лет свинью прирезал.
В 40 лет жену зарезал.
А потом он резать мог
Кого хочешь, без тревог.
Резал он кого угодно
Очень ловко и свободно.
Или рассказать, что я из табельного пистолета выбивал 50 очков из 50 возможных? А из автомата Калашникова короткими очередями 27-28 из 30? Только к чему все это?
Есть сад, есть хомяк, есть мы — соседи, жена, я. Каждый волен существовать по собственным законам.
Общее у нас только одно — необходимость вовремя убирать амброзию со своих участков.
3. ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ
Стоит произнести вслух: «Гений чистой красоты», — и все скажут: Пушкин. И будут правы. И одновременно не правы, потому, что впервые в русской поэзии сочетание этих слов появилось у Жуковского в «Лалла-Рук»:
Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты…
И в другом его стихотворении — «Я музу юную, бывало» — встречаем:
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы, —
Кладу на твой алтарь священный,
О гений чистой красоты!
На это указал Б. Томашевский в своем капитальном по замыслу, но, к сожалению, оставшемся незавершённом труде «Пушкин».
Однако первооткрытие Жуковского мало кто помнит. И память о его авторстве нужна только литературоведам, культурологам, специалистам-гуманитариям для рассуждений о путях столкновения, соприкосновения и взаимопроникновения классических образов, цитат и исторических профилей.
В истории же русской литературы и всей нашей культуры «гений чистой красоты» навсегда принадлежит Пушкину. Тому гению, в котором преломилась не только вся его эпоха, с ее дивными представителями, их свершениями, замыслами и чувствами, но, в определённом смысле, и вся русская жизнь.
Пушкин стал мифом, который оплодотворяет нашу жизнь. Как Библия. Как новый русский Завет.
4. СВЕРЧОК
Случайно услышал в детской радиопередаче, как добрая тётенька учила ребят способам борьбы со сверчками. Возьмите такого-то раствора, говорила она, положите в него заранее приготовленный яд (sic!), и когда «сверчки отведают ваше угощение…»
У меня волосы встали дыбом! Сверчка, запечного жителя, ночного музыканта, отраду сельских кущ, — ядом?! Казалось бы, всё видел в нашем Абсурдистане, разным подлостям и гадостям свидетелем был, но всякий раз вновь поражаюсь изощренности фантазий его обитателей. И не перестаю говорить другу Горацио, что есть много на свете тайн, недоступных мудрецам.
Тема смертельной борьбы со сверчками не нова на нашей почве. В прошлом веке такие же добрые дяденьки и тётеньки открыли свой рецепт изведения арзамасского Сверчка. Для этого надо было принять шуана в гвардию сразу офицером. Представить его ко двору и открыть доступ до своих жён. А там уж только ждать, когда он закатит в лузу солнце русской поэзии.
5. В ШКОЛЕ
Иногда, впрочем, случаются и незадачи.
На встрече с учащимися седьмых классов средней школы попросили прочитать стихи. Однако на ум, как на зло, не приходило ничего ни из Лермонтова (любимого поэта семиклассников), ни из Леонида Мартынова (любимого мною в этом возрасте), ни из Бродского (его теперь любят все).
В памяти всплыло только нечто из Сергея Вольфа, что я незамедлительно и проартикулировал с явным удовольствием:
Трубку мерзкую курить.
Люльку мерзкую качать.
Бабу мерзкую хулить,
А потом в неё кончать!
Пить мочу,
Ходить к врачу,
По себе оставить след…
Не могу
И не хочу,-
Вот и весь кордебалет.
По лицам классных наставников сразу стало понятно, что с Вольфом хватил, пожалуй, через край.
Пришлось переключать внимание школьников с родного оборота «в неё кончать» на иностранное слово «кордебалет». Рассказал им все, что знал о танцах: от революционных плясок Айседоры Дункан до балетов Пины Бауш, не забыв упомянуть психологическую хореографию Джона Кранко, поиски школы Баланчина, судьбу «невозвращенцев» Барышникова, Нуриева, Гордеева, а также увлечение испанскими танцами моего друга художника К.
Детям понравилось: просили приходить ещё. Преподаватели были более сдержаны. Желали творческих успехов и хорошей большой любви.
6. ОТДЕЛЬНЫЕ СТРОКИ
Из Бродского, просто так, чтобы проверить перо:
… скука, пурга, температура, вы.
Из Сен-Жон Перса, чтобы не оставить его имя без упоминания:
… но что до молока, которое с утра татарский всадник
надоит от лошади своей, — то с ваших губ, любовь моя,
я пью воспоминание о нём.
Из подготовительных тетрадей к «Компендиуму протоколиста»:
Пока в саду нет знаков увяданья,
И юный снег способен притворяться
Незавершенной частью общего пейзажа.
И только журавли, поспешно покидая местность,
С небес напомнят о коварстве и любви.
И из Михаила Монина, в качестве финального эпиграфа:
Скучал, слонялся, мял перчатки,
Порой склонялся к фолиантам,
Сжигал её сургуч с печатью
И матушкины бриллианты
Дарил. Остались память, ревность
И пара слов на обороте.
При Павле Первом жил в деревне
И полагал о Дидероте.
ОТЧЕТЫ ДВОЙНИКОВ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШИШКИ
Пасмурный летний день. В небе выстроились шеренги серых туч. Потемневшее море учащенно дышит. Непривычное безлюдие курортного пляжа позволяет беспрепятственно наблюдать за стройной девушкой, склонившейся над раскрытой книгой. На ней черно-зеленый с большим вырезом на спине купальник. Иногда она отрывается от книги и обводит обитателей пляжа и прибрежные постройки туманным бирюзовым взглядом, и тогда мое сердце на миг замирает.
Мне шестнадцать лет. И хотя мы приехали в этот приморский городок вместе с мамой, всё же считаюсь уже достаточно взрослым, и провожу время по собственному усмотрению.
Внезапно девушка встает и пружинящей походкой направляется к воде. Я тоже поднимаюсь с песка. Плыть по морским ухабам не так-то просто, но мелькающая впереди каштановая головка придает дополнительные силы. Девушка плавает лучше меня, но я стараюсь не сильно отставать. Мы с разных сторон почти одновременно достигаем большого красного поплавка, ограничивающего купальную зону, и цепляемся за его шероховатый поясок. Наши глаза впервые встречаются и улыбки заменяют визитные карточки.
На берег возвращаемся уже друзьями. Выйдя из воды, гуляем вдоль кромки прибоя и говорим, говорим, говорим. Оказалось, что мы ровесники. Оба закончили девятый класс, впереди последний школьный год и розовые планы на будущее.
Я увлекаюсь физикой, пытаюсь читать серьёзные книги, но мало что в них понимаю. Моими кумирами являются Эйнштейн, Ландау и хоккейная тройка Старшинов — братья Майоровы. Девушка занимается гимнастикой, выступает на соревнованиях и готовит программу кандидата в мастера спорта. Она любит балет и садоводство, но поступать почему-то собирается в авиационный институт.
Увлеченные беседой и друг другом, мы совсем не заметили, откуда появился этот странный старик. Среднего роста, плотный, но без признаков старческого ожирения. У него широкое лицо, нос картошкой, большой лоб философа и лукавый прищур деревенского колдуна с картины Нестерова. Ветер играет остатками его пушистых седых волос. Ни слова не говоря, старик подходит ко мне и ощупывает мою голову.
— Математические шишки, — уверенно заявляет он, нажимая пальцами на западный и восточный выступы лба. — Большим математиком будешь. На персональной машине будешь разъезжать. Только не ленись!
Потом поворачивается к девушке и сообщает ее судьбу:
— Балериной станешь. За летчика замуж выйдешь. Дети хорошие вырастут.
Мы весело смеемся, не возражая против предложенной перспективы. И тут же забываем про старика.
Вспоминаю его спустя несколько лет. К тому времени я уже учусь на математическом факультете университета. И каждый раз вспоминая его, поражаюсь сказанным им пророческим словам, поскольку раньше никогда не думал о математике, как о будущей профессии. Сказалась ли на моем выборе встреча c деревенским колдуном или старик действительно обладал даром ясновидения и подарил молодым влюбленным моментальные снимки их будущего? Эти вопросы долгое время не дают мне покоя. И задумываясь над ними, невольно потираю рукой «математические шишки», о существовании которых прежде не ведал.
Прошли годы. Я не стал профессиональным математиком, хотя много времени посвятил царице наук, как называл ее Гаусс. Мне никогда не светит раскатывать по городам и весям на служебной машине. Казалось бы, уже с уверенностью можно сказать, что старик не был волшебником, но я не тороплюсь этого делать. Разве под силу самому искусному чародею и магу предсказать, куда может завести русского человека любовь к родной словесности? Если она сама, по замечанию Тынянова, не подчиняется никаким законам, ей велят найти путь в Индию, а она открывает Америку.
Окончательно развеять все сомнения могла бы история девушки с бирюзовыми глазами. Но я не помню даже ее имени. Другие образы, подобно археологическим слоям, заслонили её далекий облик. Помню лишь, что проживали они с матерью и сестрой в станице Брюховецкой Краснодарского края. Название этого населенного пункта в те акварельные времена сильно охлаждало мои лирические чувства. Расставшись, мы пробовали писать письма, но переписка быстро сошла на нет.
А дождь в тот летний день так и не пошел. Незаметно уплыли за горизонт тучи, стихло море, и появилось ослепительное желтое солнце. Жизнь казалась великолепным праздником, которому не будет конца.
ВСПОМИНАЯ НАШИ ДАТЫ
Поздней осенью 1987 года исполнилось 110 лет со дня рождения моей прабабушки Феоктисты Ульяновны. Широкой общественностью эта дата не отмечалась. Моя прабабушка не была революционным деятелем, писательницей или ученым. Она была обыкновенной украинской женщиной, пережившей несколько войн и вырастившей троих детей.
На её юбилей бабушка Муся испекла пирог, и мы за столом помянули Фисю, как я называл прабабушку в детстве. Умерла она, когда мне было пять лет.
Мы тогда жили в Ангарске, молодом сибирском городе, где родители строили нефтехимический комбинат. Похороны в комсомольском городе были редкостью, на них собиралось много народу. Я бегал по двору и хвастался, что это у нас похороны. С радостью сообщал всем встречным-поперечным, что это моя бабушка померла. Пишу об этом сейчас не только со стыдом, но и с горечью, что в те годы никто не внушал нам любовь и уважение к отеческим гробам.
Впрочем, кого в этом винить? Время было такое — смотрели только вперед, в будущее. Родословную вели с 1917 года, а всё, что было до него, отбрасывали, как леса, делающиеся ненужными сразу после завершения строительства здания. Поэтому и хоронили Фисю без священника, хотя она была верующей христианкой, и душа ее, наверно, мучилась. Но в Ангарске не было священников, были монтажники, нефтехимики, строители, проектировщики, охранники и заключенные, а священников не было.
После завершения строительства нефтехима родителей перебросили на другую стройку, и мы уехали из Ангарска. На могиле бабушки Фиси я с тех пор не был. И теперь, спустя три десятилетия, с запоздалым раскаянием произнес:
— Мир ее праху!
— Какой там мир, — усмехнулась бабушка Маруся. — На том месте давно уже дома стоят.
— Как?!
— Обыкновенно, по генеральному плану. Когда город подошел к кладбищу, его закрыли. А родственникам предложили перенести останки на новое место. Нам друзья написали из Ангарска. Но я тогда сильно болела, а ты в Ленинграде учился… Да и с деньгами, как всегда, было… Через несколько лет кладбище срыли. А косточки в общую яму побросали, — смахнула слезы бабушка.
— Как же в тех домах люди-то живут?
— Не знаю…Вот до войны по-другому было. Мы тогда в Свесе, на Украине, сахарный завод строили. Там тоже старое кладбище сносили, и раздали на нем участки для застройки. А одна женщина на этом кладбище недавно сына похоронила. Хотела, чтобы рядом с родней лежал… Кстати, меня тоже рядом с дедом похорони. Ты головой-то не кивай, я на тебя рассчитываю… Так вот, участок, где были похоронены родственники женщины, достался одному пронырливому мужичонке. Теперь-то таких много развелось, у них какой-то особый нюх на личную выгоду. А до войны таких единицы были, но уже были. Женщина эта, бедная, его и так и сяк умоляла, чтобы он не трогал могилы. Куда там! У него постановление, разрешение, всё по закону…
Построил он-таки дом. Не дом, а просто заглядение. Сказка на кладбище!.. Та женщина потом часто приходила, возле калитки плакала… И что же ты думаешь? Однажды разыгралась страшная гроза: гром, молнии, светопреставление. И прямо в этот дом залетела шаровая молния. Разнесла его в щепу! Вот как до войны было. Тогда Бог ещё был жив. Это после он погиб на фронте!
СОН В БЕЗЗВЕЗДНУЮ НОЧЬ
Приснилось мне, что стою в очереди за вином в какой-то овощной лавке. Из тех старых, пропахших навеки кислой капустой и влажной землей торговых точек, где наряду с морковью и свеклой торговали и запечатанными сургучными печатями огромными бутылками с «Плодово-ягодным». Впрочем, эти вина только так назывались, плодовыми и ягодными, а производились, наверняка, из овощей. Не фрукты же, в самом деле, переводить на нашего брата!
Итак, стою я в очереди в этом овощмаге. Рядом закадычный друг, только что откинувшийся с зоны. По этому случаю, соображаю во сне, мы и собираемся лихо гульнуть. Как говорится, тряхнуть стариной. Нам обоим хорошо, тепло и уютно. Мы не пьяные, отнюдь, просто мы здесь свои среди своих. Наше прошлое всем хорошо известно и неосуждаемо, настоящее — как на ладони, а будущее ещё прекраснее. Разговоры вокруг ведутся тихие, задушевные, понятные каждому: цены в кооперации, драки на танцах, болезни близких и повышение пенсий. Друг рассказывает очереди что-то очень веселое и уже подмигивает томной молодухе.
Подходит наша очередь. Берем обойму «фаустпатронов» и ловко рассовываем их по карманам. Я достаю денежки, чтобы расплатиться за винцо, и вдруг замечаю в углу за прилавком ящики с картошкой. Как раз накануне мама просила меня купить ей картошку, а тут она лежит спокойно и никто её не берёт. Очень удачно всё складывается. Прошу метнуть на весы килограммов десять картофана и вскользь интересуюсь, сколько это потянет в универсальном эквиваленте. Продавец начинает кидать на счетах, но я уже с ужасом понимаю, что у меня не хватит денег, чтобы расплатиться за всё. И тут уж, как полагается, замечаю, что картоха-то не хороша: и глазки у неё имеются, и поросль есть, и мятость кое-где. «Не, — говорю. — Отставить.»
Продавец не возмущается, ни боже мой. Он ведь свой парень. Сегодня он меня подогрел, завтра я его. Сегодня я беру у него «Слезы Мичурина», завтра он ко мне в мастерскую заглянет чего-нибудь исправить. И я ему быстро сделаю, от и до сделаю, не фраер же, свои ребята. Продавец это отлично понимает и молча высыпает картошечку обратно в ящик. «Потому и не предлагал, — говорит. — Знал, что не подойдет. Не фраер же, своим ребятам фуфло толкать!»
Вот, собственно, и весь сон. Ничего особенного. Нормальный средний сон: ни убийств, ни погонь, ни любовных битв. Отчего же проснулся я в поту и в слезах? И, как ни старался, не смог больше уснуть. До утра простоял у окна, вглядываясь в глухую темень ноябрьской ночи. Что же так разволновало меня?
Говорят, сны — отражения нашей дневной жизни. Но у меня нет друзей, побывавших за колючей проволокой. И не потому, что выбираю их по анкетам, просто никому из них пока не доводилось… Публиковаться публиковались, фильмы даже снимали, в подлодках горели, в конторах ежедневно с восьми до семнадцати просиживали, а КПЗ, передачи, зоны — это всё, извините, из городского фольклора.
Теперь насчёт спиртного. В обществе борьбы за трезвость, — было такое! — никогда не состоял. Хотя бы из уважения к древнему труду виноделов. Но печально знаменитые плодово-ягодные красители всегда обходил стороной, предпочитал прохладненское полусухое. Но в последнее время и того вкус позабыл — давно не возникало ни большого повода, ни острого желания.
Нет, не это напугало меня во сне: не друзья, не тёмное братство овощного магазина, не пыльные «фаустпатроны» с сургучными головками. Что-то другое зацепило…
Может быть, воспоминание о маме? Я ей действительно не помог в этом году купить картошку на зиму. Вспоминал, загорался, звонил, а потом без особых угрызений совести забывал: дела. Мама молчала, понимала, что занят, и сама таскала с базара тяжелые авоськи с картошкой. Однако сколько раз я подводил её и сколько раз после этого спокойно спал?
И не отсутствие же денег, чёрт побери, так разволновало меня. Продавец в лавке был свой парень, наверняка отпустил бы в долг. Тем не менее как раз из-за денег, вернее, из-за нехватки их ужаснулся я во сне. Проклятье безденежья пронеслось надо мною, как тень рабства. Вот оно, слово! Наконец-то найдено! Именно вековое российское рабство так явственно ощутил я во сне!
Где бы ты ни работал, чтобы не делал, из каких фондов материального поощрения не поощрялся бы, проклятье былого рабства будет висеть над тобою. И с ним ничего не поделаешь. Можно только вытравливать его из себя по капле, как советовал Чехов.
А холодной беззвездной ночью рабство снова будет вливаться в тебя. Стаканами, из того самого «фаустпатрона» с сургучной печатью. Поскольку сны действительно отражают нашу дневную жизнь.
ПЕРЧАТКИ
Мой дед носил коричневые шерстяные перчатки. Они напоминали хлопчатобумажные носки, которые я, воспитанник века эластика, инстинктивно презирал. И всегда злился, когда зимой в морозы дед предлагал мне надеть его перчатки взамен моих кожаных «на рыбьем меху».
Прошло десять лет. Дед умер. Однажды я куда-то торопился и, не найдя своих перчаток, — все тех же, «на рыбьем меху», но уже не единожды заштопанных, — сунул в карман старые дедовские перчатки. И на улице, посреди необычно холодной для наших мест зимы, почувствовал, что рукам непривычно тепло.
Позже у этих перчаток обнаружилось ещё одно достоинство: ими было удобно растирать замерзающие на морозе уши и нос. Впервые поднеся перчатку к лицу, я почувствовал чуть различимый знакомый запах. Так пахло от деда, когда, лаская, он прижимал меня к себе.
Теперь же он слал свой привет и тепло из холодной бесконечности, даже там продолжая волноваться за меня.
ПРОГУЛКА ПОД ДОЖДЁМ
Прогуливаю ночью собаку. Идёт мелкий тихий дождь. Фонари выхватывают из мрака потемневшие от влаги стены домов, блестящую зелень деревьев, полированные куски асфальта. Придерживая на головой маленький зонтик, не спеша иду следом за собачкой.
Внезапно появляется ощущение, будто я прогуливаюсь в саду старого европейского монастыря. Пораженный этим чувством, на миг останавливаюсь, оглядываюсь по сторонам, а потом снова дела несколько осторожных шагов. Сомнений нет, я — аббат времён Просвещения. Не ясно только, Куаньяр или Монтескье, но мысли сами собой обращаются к природе, человеку, истории, справедливости и Богу.
Наслаждаясь образами прекрасной старины, медленно бреду вместе с собакой по влажной липовой аллее. Дождь размеренно стучит по зонтику.
Так продолжается около получасу. Но стоит несколько увеличить шаг, как волновавшие воображение образы мгновенно растворяются в ночи. Я снова становлюсь самим собою — человеком конца ХХ века, импульсивным рационалистом, живущим в постоянном дефиците времени.
Однако человеком эпохи миллениума мне предстоит быть ещё долго, а сутану весёлого аббата я вряд ли когда ещё примерю. И я замедляю шаг, склоняю голову к правому плечу, сгибаю руку с зонтиком в найденном положении и возвращаюсь в любезный сердцу XVIII век.
ЖЕНЩИНА
Желать эту женщину так же естественно, как в жаркий полдень стремиться в прохладную тень, как в окопах мечтать о чистой постели, а будучи нищим — грезить о тайном родстве с Ротшильдом. В жажде ее любви нет ничего низкого, грязного или постыдного, ибо её любовь — это сама стихия, природа, познание и жизнь. Она из того же ряда, что и воздух, вода, хлеб и огонь. Познавший её и вознесётся, и насытится, и освежится и сгорит.
Любить её — значит постоянно погружаться во влажную тайну жизни. Рядом с ней не представимы ни трепет юношеского восторга, ни пресыщенность старческой страсти, ни умелое притворство обольстителя, ни равнодушное внимание супруга. С ней юноша становится мужем, старец — юношей, а обольститель — нежным супругом. И только муж, если он есть, страдает и тускнеет от своего грозового счастья.
Когда такая женщина проходит по планете, рушатся семьи, прогорают банки, возникают правительственные кризисы и разгораются войны, подобные Троянской.
Как же выглядит эта женщина? Как передать её черты, невольно не исказив их, не прибегая к помощи штампов и не лишая её образ пульсирующей правды? Где найти такие слова, обороты, эпитеты?
На помощь может прийти только искусство. Например, один из самых древних его видов — скульптура. Ты замечаешь, что фигура этой женщины, будучи повторена в мраморе и выставлена в античном зале музея рядом с другими статуями, притянет к себе все мужские взоры, поскольку у неё будет немного больше мрамора именно в тех местах, которые наиболее привлекают эти взоры.
Но как ни прекрасно искусство ваяния, оно не способно передать свежесть и персиковую прохладу кожи, мимолетность улыбки и лукавые огоньки глаз. На смену ему на арену выходит живопись. Потому-то, наверно, и существуют, дополняя друг друга, различные виды искусств, что живая красота всегда более многомерна, чем самые гениальные её проекции на полотне или в пространстве. А писать эту женщину пытались и Леонардо, и Ренуар, и сотни других менее известных мастеров.
Впечатления от неё Леонардо да Винчи передал в чувственном овале лица Джоконды, Боттичелли — в струящихся волосах Весны, а Ренуар — в солнечных улыбках своих героинь. Кому-то из художников удалась ее высокая шея оперной певицы, кому-то посчастливилось запечатлеть крупный с горбинкой нос, способный различать миллионы запахов и трепетать от их смены, кто-то поймал на полотне удивление и ожидание чуда в её немного раскосых глазах.
Но никто их живописцев не смог целиком запечатлеть облик этой женщины, потому что заложенная в нём поэзия уводила в абсолютные сферы. И кисть передавала уже не непосредственные впечатления, а найденные в этих сферах откровения. Поэзия губит и твои тщетные попытки прорваться к красоте и истине. Ты отрываешься от земного образа и блуждаешь в художественных галереях собственной памяти.
А она, эта женщина, стоит рядом с тобой, в переполненном, душном и потном городском автобусе, среди ругани и мелких стычек уставших за день людей. Смотрит в окно и загадочно улыбается. Что она видит там? Чему улыбается? Никогда не узнать тебе этого! Но всю свою жизнь ты будешь стремиться проникнуть в эту великую тайну.
СИБИРСКИЙ ВОДОПРОВОДЧИК
Тем, что я не стал нелегалом и отставным полковником Службы внешней разведки, страна обязана простому водопроводчику из города Ангарска Иркутской области. Имя его осталось неизвестным даже для богини Клио. Но об одном подвиге простого рабочего парня известно доподлинно.
В том сибирском городе я ходил в школу. В четвертом классе, как, впрочем, и в других классах, мы собирали металлолом. Устраивались такие акции обычно ранней осенью и поздней весной. В иную пору школьного года потребовалось бы несметное количество металлоискателей, чтобы отыскать железо под толстым слоем снега.
После уроков пионеры и старшеклассники разбредались по всему городу в поисках металлолома — бесхозных кусков промышленного железа, поржавевших труб, прохудившихся отопительных батарей, выброшенных деталей автомобилей, чайников без носика, сломанных швейных машинок и прочей ненужной металлической утвари. Все это сносилось во двор школы, где старшая пионервожатая на глаз оценивала вклад каждого отряда или одинокого старателя и заносила его в специальную тетрадочку. И только после этого давала «добро» на пополнение общей кучи. Были даже установлены какие-то нормы. Насколько сейчас помню, каждому полагалось сдать двадцать килограммов металлолома. Перевыполнившие норму премировались походом вне очереди на городской утренник во Дворец культуры или чем-нибудь подобным. И хоть я не был страстным поклонником детского художественного творчества и походам в ДК уже в те годы предпочитал чтение Мопассана или карточные игры, тем не менее всегда с удовольствием собирал металлолом. Это была такая коллективная игра на свежем воздухе.
В тот памятный день я предложил своей команде собирать металлолом в 58-ом квартале. Мы прежде в нём жили. Там находилось Техническое училище и поблизости от него всегда можно было отыскать приличное количество различных железяк. Но в тот день мы ничего не нашли во дворе училища. Сейчас-то я понимаю, что учащиеся техучилища, как и школьники, тоже привлекались для сбора металлолома, и такие акции проводились одновременно во всех образовательных заведениях города. Но тогда был очень расстроен неудачным поиском. И можете представить мою радость, когда я увидел несколько длинных труб, лежавших возле углового дома.
Мы дружно подхватили эти трубы и потащили их вдоль по улице в сторону 75-го квартала, где находилась наша 10-я средняя школа имени главного пролетарского писателя Максима Горького. По пути мы прикидывали, хватит ли этих труб, чтобы покрыть норму или придется идти в новую разведку, и куда в таком случае стоит отправиться. Тут-то неожиданно перед нами возник упомянутый водопроводчик. Как я теперь понимаю, именно его трубы, приготовленные для некоего важного ремонта или приобретенные по случаю впрок, и переносимые им по одной в подвал, где обычно обитают все водопроводчики, мы и захватили в качестве трофея на металлолом. Тогда же я видел перед собой только маленького, не очень чистого и не очень трезвого, но очень злого человека. И совсем не мог понять, каким образом он участвует в сборе металлолома. Этот человечек пытался выхватить у меня из рук трубу, обзывая гаденышем и засранцем, а я изо всех сил пытался удержать ее в руках. Мои же товарищи уже побросали свои трубы и с любопытством наблюдали за нашим противоборством. Силы, конечно, были не равны. И вскоре человечек выхватил мою добычу из рук с таким усердием, что край трубы по инерции задел меня по голове. Можете себе представить одиннадцатилетнего мальчика в светлом плаще, в шарфе, один конец которого переброшен через плечо, и в кепке-«лондонке», которого бьют по голове пятиметровой железной трубой? Так вот, это буду я весной того года.
Синяк под глазом у меня рос с такой скоростью, что водопроводчик дальнейшему выяснению отношений предпочел молча ретироваться с отбитыми трубами восвояси. Настроившиеся на длительную переноску тяжестей, мои одноклассники, у которых теперь оказались свободными руки, вместо труб подхватили меня и потащили в наш родной 106-й квартал. Я же, слегка оглушенный быстрой сменой впечатлений, не мог в полной мере оценить, как изменяется привычная дорога из 58-го в 106-й квартал, если смотреть на все происходящее вполсилы, то есть одним глазом.
Дома, после всех обычных в таких случаях причитаний и всяческих выражений сомнения в умственных способностях пострадавшего, было решено срочно командировать меня с дедом в госпиталь. Мои дед и мать работали в военно-строительных организациях, и потому все семейство было приписано к военному госпиталю. Военврач третьего ранга, промыв рану и положив мазь, сказал, что после того, как спадет опухоль, необходимо будет пройти курс лечения и только после этого станет ясно, насколько серьезно удар трубой по голове отразится на зрении. Домой я возвращался, как космонавт, в шлемофоне из бинтов и ваты.
Видимо, это был хороший военный госпиталь, потому что после лечения в нём все следующее десятилетие мне больше не представлялось случая задуматься о собственном зрении. Вопрос о диоптриях правого глаза снова возник опять-таки в военном госпитале, но уже совершенно другого города. В том южном городе я служил в ведомстве генерал-полковника А., и мне открывался прямой путь в рыцари щита и меча. Контора рекомендовала меня для зачисления в закрытый институт без экзаменов, но для этого надо было пройти специальную медицинскую комиссию. Однако при обследовании выяснилось, что мое зрение не удовлетворяет предъявляемым требованиям. «Не было ли у вас в детстве травмы глаза?» — спросил майор-окулист. «Нет, ничего не было!» — механически ответил я, и только через несколько дней вспомнил про сибирского водопроводчика.
«Не расстраивайся ты, — говорил мой командир полковник Зубилин, — в конце концов, не всем же в первом главке служить. Надо кому-то и нашу работу выполнять!»
«Может, это и к лучшему, — вторил ему мой друг майор Навалишин, — У меня, знаешь, сколько однокурсников в тюремных ямах в Азии сидит?»
Мне было хорошо все эти годы в компании грозы бендеровского подполья полковника Зубилина и будущего начальника нашего главка Навалишина, но я уже начинал понимать, что мое призвание не распутывать чужие кружева, а самому плести их. Хотя бы только на бумаге. И после окончания положенного срока службы не стал подписывать новый контракт.
КАК НЕГР НА АРБАТЕ
Ты уже взрослый мальчик. Тебе платят за слова в дензнаках другой страны. Ты иногда шутишь: наше слово ценится не на вес золота, а на шелест доллара. Тебя читают горожане и не очень привечают градоначальники. Зимой ты ходишь в простой солдатской ушанке, на западный манер. «Это круто!», — говорит дочка. «Совсем как негр на Арбате», — говорит художник Г. «Ты позиционируешь себя слишком независимым для этого города», — говорит Флора. А ты только улыбаешься им в ответ.
Перед Новым годом тебя останавливают на главной улице двое полицейских. Ты совершенно трезв, но не можешь понять, чего хочет от тебя прислуга порядка. Автографа? Визитную карточку? Или разрешения позвонить по твоему мобильнику своему начальству?
Они вертят в руках твое служебное удостоверение, по десятому разу перечитывая слова «агентство» и «собственный корреспондент». Кажется, что только эти три слова удерживают их от намерения дать тебе в торец или положить фейсом на асфальт.
— Что-то не так, уважаемые? — совершенно спокойно спрашиваешь ты.
— Всё не так, — говорит один.
— Усиленный вариант несения службы, — говорит второй.
— Проверка паспортного режима, — поправляет его первый.
— Нет, все-таки усиленный вариант… — настаивает второй.
Они начинают спорить между собой, приводя в качестве аргументов прозвучавшие в эфире тексты новостных сообщений.
— Офицеры, всё, что вы знаете о жизни, вы знаете из моих писаний, -говоришь ты, и тут же поправляешься, — Моих, или моих корреспондентов!
— Мы — не офицеры! — гордо говорит один, — Я — сержант!
— А я — старший сержант! — заявляет второй, — И я ничего не читаю!
— Я тоже смотрю только телевизор, — говорит первый.
— Это очень печально, господа! — говоришь ты.
Ты хочешь сказать этим слепцам, что книга является светильником в наших руках. Что Эзра Паунд, например, считал, что читать надо для приобретения силы. А Томас Стернс Элиот писал, что целью словесности является совсем не информация, а трансформация духа. И читать стоит хотя бы потому, что это помогает нам меняться.
Но не успеваешь открыть рта. Один из сержантов вырывает портфель у тебя из рук и выворачивает его содержимое на снег. На тротуар летят несколько книг стихов, свежие газеты, папки с рукописями, телефонная книга, ежедневник и поздравительная открытка от президента республики.
— Там больше ничего нет, — говорит сержант, и еще раз встряхивает портфель.
— Извините, мы думали: вы — ваххабит! — говорит другой и возвращает тебе служебное удостоверение.
— Бороду надо брить, — говорит тот, что терзал портфель.
И потеряв к тебе всяческий интерес, они удаляются дальше исполнять свой долг.
Какие-то девушки помогают тебе собрать разбросанные бумаги и книги, отряхивают их от грязного снега. Ты благодаришь их и по-стариковски бредешь по улице.
Окраина России. Лета. Лорелея.
С наступающим, господа!
ДВОЙНИК
Неслышно ступая по пружинящему хвойному настилу, между высоких деревьев пробиралась группа вооруженных людей. В лесу было прохладно и сыро. Сквозь сомкнутые кроны деревьев солнечные лучи не долетали до земли, лишь кое-где они высвечивали изогнутые сосновые ветви, похожие на трубы духового оркестра, да натыкаясь на игольчатую преграду, разламывались на радужные составляющие и повисали над головами рождественскими огнями. Но люди не обращали на них никакого внимания, они молча передавали из рук в руки колкие, норовящие хлестнуть по глазам, ветки и, придерживая оружие, осторожно перелазили через лесные завалы.
Каждый из них точно исполнял команды идущего первым плотного низкорослого парня, одетого в железнодорожную форму, с кавалерийской шапкой-кубанкой на голове. На груди у Старшого на ремне болтался короткий трофейный автомат. Остальные тоже были одеты и вооружены кто во что горазд. На нём, например, был старый клетчатый пиджак, перетянутый командирским ремнём, на голове кепка-восьмиклинка с матерчатой пуговкой по центру, а на плече — новенькая армейская трехлинейка, без штыка.
Когда Старшой предостерегающе поднял руку и вся команда послушно замерла, он загляделся на неожиданно вспыхнувшее под солнцем паутинное кружево и наступил на сухой сучок. Раздался резкий, похожий на пистолетный выстрел, щелчок, и в его сторону мгновенно метнулись несколько вороненых стволов. Он покаянно развёл руками. Старшой выразительно погрозил кулаком, прислушался к затихшему лесу и подал команду к перебежкам. Здесь он уже не подкачал: одним из первых проскочил через заросли шиповника, разгребая их руками словно пловец, в два прыжка одолел грунтовую дорогу, пробежал сколько было возможно по травянистому склону, а после, тяжело рухнув, пополз к песчаной вершине холма.
Внизу на железнодорожных путях застыли два грузовых состава. Между ними, заложив руки за спину, вышагивал прямой и плоский, как циркуль, человек в чёрной форме с серебряными погонами и нашивками. Ещё несколько эсэсовцев, расстегнув мундиры и подставив солнцу несвежие майки, сидели на открытой платформе возле заложенного мешками с песком крупнокалиберного пулемета. Другая группа солдат курила рядом с приземистым зданием комендатуры разъезда.
Огонь открыли по команде Старшого, одновременно и неожиданно для врага. Взмахнув руками, упал лицом в мазутную лужу эсэсовский офицер. попадали на землю курильщики. Покатились с платформы солдаты. Но одному их них всё же удалось добраться до пулемётного гнезда, и ствол станкового пулемёта медленно двинулся в сторону партизан. На шум выстрелов из дверей комендатуры выскочили солдаты роты охранения. Завязалась перестрелка.
Стреляя по врагам, он сперва чисто механически различал автоматную и винтовочную пальбу, чуть позже услышал тявканье пулемётов, одного, второго, третьего, потом учуял мерзкий, напоминающий свист летучей мыши, звук низко летящей мины. В этот момент он, видимо, на что-то отвлёкся, потому что в следующее мгновение уже увидел рядом с собой сизо-красную, трепещущую массу, и с ужасом догадался, что ещё минуту назад это был человек. Но предпринять уже ничего не успел. Невесть откуда возникший Старшой, перепачканный грязью, в крови и без кубанки, прохрипел ему прямо в ухо: «Отходим, братан!». И, подхватив свою винтовку, он вместе со Старшим покатился вниз по откосу.
Он бежал по грязному хозяйственному двору. Везде были разбросаны доски, промасленные шпалы, мотки колючей проволоки, кое-где высились кучи щебёнки и песка. Впереди маячил невысокий, в рост человека, кирпичный забор. Погони не было слышно, но он чувствовал за спиной преследователя. И, не замедляя бега, перекинул винтовку в правую руку, завел её за спину и нажал упругий спусковой крючок. Тут же передёрнул затвор и ещё раз выстрелил тем же макаром.
Когда до измазанного штукатуркой забора оставалось всего-ничего, он накинул на шею брезентовый ремень трехлинейки, задвинул её за спину, чтобы не мешала, и сделал большой прыжок вперед. Оказавшись подле забора, ухватился за колючий скат и, подтянувшись, уже занес было на него ногу, как почувствовал, два резких удара в спину, чуть выше пояса. Возникла мысль о винтовке, болтавшейся за спиной, но пальцы неожиданно сами собой разжались и перед глазами замелькали серые разводы на заборе.
Прорвавшийся из-за портьеры солнечный луч бил прямо в раскрытый глаз Сергея. За ушами, по шее и по груди струились ручейки пота, но не было сил пошевелиться, промокнуть пот или хотя бы закрыть глаз. Он медленно приходил в себя, еще толком не осознавая, что все только что пережитое им — всего лишь сон. После окончания войны прошло почти четыре десятилетия, на улице дребезжат и позванивают утренние полупустые трамваи, а ему пора вставать с постели и собираться на работу.
«Московское время — шесть часов, пятнадцать минут, — донесся с улицы голос диктора. — На волне «Маяка»…». Что происходит в такую рань в студии, Сергей не расслышал. Он рывком поднялся с кровати, протёр влажной простыней лицо и погладил рукой голую поясницу. Кожа была тёплая и гладкая, с чуть ощутимым ворсом коротких волосков. Следов ранения не было.
На кухне отец готовил на завтрак манную кашу. Маленький, взъерошенный, в старой майке, съехавшей с одного плеча, он показался Сергею необычно постаревшим, слабым и незащищенным.
— Что с тобой? Маму вспомнил? — спросил отец, заметив его состояние.
— Ага, — соврал Сергей и отвернулся к окну.
— Что теперь поделаешь? — всхлипнул отец. — Ей всё равно ничем уже нельзя было помочь.
Оттененный дневными заботами, постепенно остывающий, ускользающий, этот необычный сон имел все шансы попасть в некую дальнюю область памяти, куда попадают все наши видения, галлюцинации и фантазии. И чтобы вытащить его оттуда, вернуть в сознание во всей полноте и ясности, потребовалось бы некое событие, заранее непредсказуемое, столь же необычное и яркое, связанное с ним неизъяснимыми узами.
Так бы всё, наверно, и было, когда бы тот же самый сон не приснился Сергею на следующую ночь.
Опять пробирались заросшими тропами те же вооруженные люди, замирая по командам Старшого. И опять он зазевался на какую-то секунду, ступил в сторону, и предательский хруст сухой ветки под ногой привлёк к нему внимание лесной братии. Потом он вместе со всеми прорывался сквозь плотные заросли шиповника, пересекал безжизненную дорогу и долго карабкался по отлогому склону, поросшему острой, сухой травой.
Находившиеся внизу на путях солдаты в серой и черной форменной одежде не вызывали у него особой злобы или ненависти, порожденные ими чувства были скорее сродни тем, что охватывают человека при неожиданной встрече с пресмыкающимися — смесь брезгливости и сосредоточенности, опасения сделать неверный шаг, чтобы не подвергнуться нападению твари. И наблюдая, как они после нажатия спускового крючка резко вздрагивают, валятся на землю и, прежде чем замереть навсегда, корчатся в коротких судорогах, он нисколько не ликовал, не содрогался от содеянного, а спокойно помечал этот факт в своём сознании, и переводил мушку на новый объект. Поглощенный стрельбой, он опять пропустил момент, когда рядом разорвалась мина, разворотившая внутренности соседа. Появившийся сразу после этого перепачканный кровью Старшой наклонился к нему и скомандовал отход.
Убегая товарным двором, он увидел впереди спасительный кирпичный забор и, послав наобум две пули в надвигающуюся по пятам опасность, радостно прыгнул вперёд. Успел почувствовать пальцами заскорузлый цемент на гребне забора, и собирался уже перебросить через него ногу, как два острых удара выше поясницы остановили стремительный бег, и навечно приковали его к пыльной кирпичной стене.
И опять Сергей проснулся мокрым от пота и слёз, с горячей головой и бухающим сердцем. И опять долго не мог пошевелиться, пока окончательно не исчезла грань между сновидением и явью. Но на этот раз боль в спине была столь ощутима, что он не удовлетворился одним лишь ощупыванием кожи, а не поленился, встал, потащился к зеркалу и долго вертелся перед ним, пока полностью не удостоверился в целостности спины.
За завтраком он рассказал про сон отцу.
— Не разводи мирихлюндий! Мало ли, что приснится. После войны, к слову сказать, мне и не такое снилось, — отец подпёр голову рукой и уставился в потолок.
— Так это по-сле вой-ны! Кто б сомневался! А сейчас откуда всё это лезет?
В голосе Сергея послышалось нечто такое тревожное и надломное, что мгновенно стряхнуло с отца накатившие на него воспоминания.
— Как откуда? Кинематограф, газеты постоянно пишут…
— Второй раз подряд! Понимаешь? — Сергей помахал двумя пальцами в воздухе.
— Бывает такое, что сны повторяются. Реальные вещи.
— Реальные, говоришь? Пацан этот в дурацкой кепке вторую ночь чешет по задворкам и никак забор перелезть не может.
— Ты о чём ведешь речь?
— Какое-то биополе сигналы подает!
— Ты что, экстрасенсом решил заделаться? Практиковать на дому собираешься?
— Господи, я же с тобой серьёзно разговариваю, — Сергей оттолкнул от себя тарелку с кашей.
— Дичь всё это, братец: пришельцы, биополе, «снежный» человек. Бога в расход пустили, а тягу к таинственному не уничтожили. Газеты почитай, что пишут научные работники!
— Сам их читай! Они привыкли всякому явлению знак присобачивать — минус или плюс. И всю жизнь проводят в спорах: это плюс или минус, минус или плюс. Потом рождается гений, создает новую теорию: от сих до сих — плюс, а от сюда до сюда — минус. И все ему рукоплещут! — Сергей поднялся из-за стола, вытер кухонным полотенцем губы. — И невдомёк им, жертвам умственного труда, что одновременно могут уживаться плюс и минус. — Он перекинул полотенце отцу на плечо. — Одновременно! Я это решительно подчёркиваю!
— То же мне, профессор кислых щей нашёлся! — буркнул отец вслед уходящему Сергею.
На работе, забившись в отгороженный кульманом угол, где кое-как помещались письменный стол и тумбочка, а сверху мерно гудела вентиляционная вытяжка и можно было вдоволь курить, не обращая внимания на коллег, Сергей пытался по памяти набросать портрет незнакомца, который вторую ночь в его снах метался по задворкам железнодорожной станции.
Его опытная рука, а числился он промышленным художником, — называться дизайнером не любил, инородное это слово казалось ему выспренним, сродни «живописцу» или совсем уж архаичному «артисту», — закончил в своё время художественное училище, дважды выставлялся на молодежных выставках, его рука легко прописывала силуэт незнакомца, фактуру его пиджака и кепки. Даже трехлинейку он без труда довел до приличной кондиции, хотя впервые столкнулся с ней на бумаге. Но всякий раз карандаш отказывался повиноваться, когда дело доходило до изображения лица партизана.
Сергей раз за разом набрасывал на листе бегущего человека, но на всех эскизах беглец имел вместо лица расплывшееся серое пятно. Ему никак не удавалось собрать воедино из восстанавливаемых в памяти фрагментов сна отдельные черты лица незнакомца. Усилиями воли Сергей фиксировал карандашом какие-то штрихи и чёрточки его внешности, группировал их вокруг казалось бы найденного центра, укрупнял и усложнял конструкцию, но всякий раз, когда дело близилось к завершению, становилась очевидной фальшивость построенной композиции, и в дело вступала резинка.
Просидев безвылазно полдня в своем «философском» углу, он так и не добился сколько-нибудь завершенного портрета неизвестного. А после обеда настали другие заботы, пришли конструкторы, стали обсуждать возможности будущей модели, и надо было предлагать свои варианты, спорить, ошарашивать, изворачиваться, что-то на ходу переделывать, изобретать, в общем, отрабатывать жалование.
На скамейке перед домом в окружении старушек гоголем восседал крепкий краснощекий пенсионер Герасимович. Завидев Сергея, он всегда оживлялся и торопился навстречу ему, считая необходимым лично засвидетельствовать почтение по случаю окончания трудового дня. Перенесенная год назад операция дала побочный эффект, отразившись на вестибулярном аппарате Герасимовича: он стал семенить, шататься из стороны в сторону и пританцовывать на месте. И Сергею, пока тот доходил до него, приходилось раскланиваться с бабульками, выслушивать их шутки и фарисейски улыбаться, сдерживаясь от острого желания послать их всех по известному адресу.
Герасимович, единственный мужчина в постепенно редеющей дворовой компании, в разговорах любил касаться мировых проблем, затрагивал коренные вопросы, и, видимо, в ответах молодого собеседника надеялся услышать если не подтверждения своим догадкам, то хотя бы одобрения направлению мыслительного процесса.
— Мы тут рассуждаем, улучшение скоро будет? — спросил он на этот раз, мелко подрагивая головой. — Народ притомился маленько. Встряхнуть надо!
Неопределенности вопросов Герасимовича вполне соответствовала обычно изобретаемая Сергеем расплывчатость ответов на них, но сегодня у него не было желания заниматься словесной эквилибристикой. И он спросил напрямик:
— Борис Герасимович, вам часто война снится?
— Война?! — от неожиданности старик заморгал. — А что в ней замечательного такого было? Чего её вспоминать?
— А в партизанах не доводилось вам бывать?
— Нет, — улыбнулся Герасимович. — Бог миловал. В госпиталях приходилось валяться, с питанием скудности испытывал, недобирали калорий. А в партизанах нет, господь миловал!
Вечером тот же вопрос про партизан Сергей задал другому человеку — неизменному партнёру отца по шахматам, невысокому подвижному Михаилу Ивановичу Слободскому. Неожиданный вопрос не смутил Слободского. Подняв голову от шахматной доски, он внимательно посмотрел в глаза Сергею, словно желая удостовериться в серьёзности его намерений, и, не обнаружив подвоха, поправил узел галстука и хорошо поставленным голосом произнёс:
— Моя воинская служба началась в составе 312 отдельного, впоследствии награжденного орденами Кутузова и Александра Невского…
Дальше слушать Михаила Ивановича Сергею было неинтересно, поскольку он хорошо знал его фронтовую одиссею с младенческих лет, когда в школе устраивали торжественные встречи с ветеранами, и Слободской был их непременным участником. Поэтому ему оставалось только иногда поддакивать да повторять за рассказчиком отдельные слова, создавая у того впечатление полнейшей своей заинтересованности.
В истории Слободского, как и в биографиях многих его ровесников, не ловчивших, не прятавшихся за спину других, шедших навстречу испытаниям с открытыми глазами и не скурвившихся от захлестнувших их потоков крови, человеческой подлости и жестокости, было немало необычного, доблестного, непостижимого в теперешней мирной жизни. Но история эта, передаваемая с помощью затертых фраз и газетных оборотов, с привлечением хрестоматийных образов давних героев, казалась специально сочиненной для поднятия патриотических настроений в учебных заведениях оборонного ведомства.
Об этом Сергей и хотел сказать отцу, когда они остались наедине. Но отец даже не стал его слушать до конца, надулся и решительно заявил:
— Впредь попрошу не выбирать для своих экспериментов моих друзей! Надо иметь чувство и не устраивать посмешище над человеческими слабостями.
Отец демонстративно прошагал в свою комнату и запер дверь на задвижку.
Оставшись один, Сергей снял с полки первую попавшуюся книгу, вытянулся на тахте и попробовал почитать её, но чтение у него не задалось. И хотя он исправно следил за текстом, не перескакивал со страницы на страницу и даже бубнил под нос прочитанные слова, тем не менее смысл рассказываемого автором повествования ускользал от него. Думы сами собой устремлялись в партизанский край, и перед мысленным взором возникал незнакомец в клетчатом пиджаке.
Он снова мчался по захламленному товарному двору. Впереди был кирпичный забор, за ним таилась вожделенная недосягаемость, а сзади нарастала невидимая и неслышимая, но от этого не менее, а напротив, более осязаемая, проникающая во все клетки существа тревога. Не оборачиваясь и не замедляя бега, он дважды выстрелил за спину, и не ведая результатов стрельбы, как-то непозволительно быстро успокоился, повесил винтовку на шею и, словно освободившись от тягостных пут, в прыжке легко устремился навстречу спасительному забору.
Представляя в воображении этот прыжок, Сергей впервые заметил внизу, под ногами прыгуна, развороченную взрывом ржавую землю. Прежде столь странный подскок скрывающегося от погони парня не казался ему чем-то необычным, представлялся всего лишь естественным ускорением на пути к спасению. Получалось же, что этот прыжок был не одним из возможных в подобном положении поступков, а вполне необходимым и осознанным со стороны беглеца действием, поскольку на его пути раскрывалась широкая пасть воронки от артиллерийского снаряда.
Пораженный неожиданным открытием, Сергей вскочил с тахты и заметался по комнате, переполненный ощущениями близкой погони и лихорадочного поиска выхода из готового захлопнуться капкана. И только попавшийся на его пути стул, столкновение с ним, заставили его остановиться, оглядеться, опуститься на грешную землю.
Он потёр ушибленное колено, чертыхнулся и подошел к распахнутому в ночь окну. Высунувшись в сыроватую темень засыпающей улицы, жадно ловил запахи свежей листвы и остывающего асфальта, слушал перезвоны далёких трамваев и будоражащий стук женских каблучков, всматривался в мерцающие огни дальних кварталов. Окружающая его жизнь была неохватна, прелестна, неизбывна и томительна.
— Прятаться надо было, болван, — в сердцах произнёс он, продолжая думать о беспомощном пацане на занятой чужими солдатами товарной станции. — Так нет же — навскидку, не глядя, за спину…Ковбой из Оредежа…
Ночью Сергею снова снилось, что он пробирается вместе с партизанами по глухому лесу. Бесшумно преодолев прохладную опушку, они осторожно пролазили через феерические переплетения жестких высоких трав, колючего кустарника и бурелома. Неожиданно вспыхнувшая над головой звездочка паутины показалась ему прекрасным новогодним видением и он потянулся к ней, не заметив предостерегающе поднятой руки Старшого и наступив на визгливо треснувший сучок.
Обращенные в его сторону, словно по команде, винтовки товарищей, а также недвусмысленный жест кулаком Старшого, мгновенно отрезвили его, заставили подобраться и быть наготове исполнить любое приказание командира. Поэтому последовавший сразу за этим сигнал к перебежкам он воспринял как обращенный, в первую очередь, к нему, и споро сиганул сквозь заросли шиповника, первым вылетел на безмолвную грунтовку и первым же полез вверх по травянистому склону холма.
Внизу под холмом была железная дорога. На рельсах стояли два грузовых состава, между которыми, заложив руки за спину, прогуливался высокий эсэсовский чин. Ничего не подозревавшие солдаты охранения сидели, расстегнув мундиры, на платформах или курили на пяточке между столовой и зданием комендатуры разъезда.
Открыв огонь по команде Старшого, он не испытывал никакой злости к врагам, стрелкового азарта или благородной ярости, к которой призывала патриотическая песня, отмечал только про себя, как шлепнулся в грязь подтянутый офицер, сыпанули с платформы солдаты и заметались в поисках укрытия любители казенного табака. И толко когда окрепла перестрелка, когда заработали крупные калибры и рядом стали рваться мины, а потом послышались крики и стоны раненых товарищей, на него накатила волна злобы и расчетливого солдатского усердия.
Не обращая внимания на подбирающийся все ближе минометный огонь, он хладнокровно нажимал спусковой крючок винтовки и следил, как навечно припадал к чужой земле очередной солдат в сером мундире. Из этого отрешенно-сосредоточенного состояния его вывел только близкий разрыв мины, разворотивший тело соседа справа. Сразу вслед ха этим возникло возбужденное лицо Старшого, скомандовавшего отход с позиции. Всё ещё настроенный на беспрекословное исполнение его команд, он, ни слова не говоря, перехватил винтовку за цивье и, оттолкнувшись свободной рукой от земли, покатился кубарем по откосу.
Пробегая по служебному двору станции, плутая среди разбросанных по нему гор щебенки и песка, штабелей шпал и залежей металлического лома, он увидел впереди невысокий кирпичный забор, и со всех ног бросился к нему. Уже были различимы на заборе грязные разводы красок, струпья штукатурки и надписи на непонятном языке, как он ощутил за спиной нарастающую опасность. Не убавляя бега и не оборачиваясь, он произвел навскидку, одной рукой, два выстрела назад. Они оказали своего рода успокоительное действие, моментально погасив разгоравшееся чувство опасности и незащищенности. Он уже собирался повесить винтовку за ремень на шею, но тут на пути открылась зияющая пасть воронки от снаряда и он, не раздумывая, сходу сиганул в неё.
Глубина воронки пришлась ему как раз впору. Едва коснувшись ногами земли, он почувствовал себя уверенно и спокойно, тут же взыграла военная косточка: он не без сноровки сотворил из отвалов песка и липкой глины некое подобие бруствера, и совсем умиротворился.
Появившегося из-за пирамиды шпал молодого немца, пухлощёкого и вислогубого, с большими веселыми глазами, сиявшими из-под натянутой чуть ли не по самые брови полевой кепки, державшего автомат наизготовку, он встретил без малейшего волнения, с холодной уверенностью в своих силах военного человека и, не торопясь, прицелился на палец ниже того места, где заканчивался козырёк кепки. После выстрела немец рухнул назад, как манекен, всем телом одновременно, сложив руки по швам. Он мимоходом отметил его похвальную арийскую покладистость, взял свою винтовку в правую руку и, опираясь на неё, как на рычаг, в два приёма выбрался из воронки.
Через несколько секунд он был уже возле забора. С лёгкостью подтянулся к его гребню, закинул ногу на него и на мгновение замер, словно ожидая чего-то. Но ничего неожиданного не последовало, и он стрелой перелет через забор. Огромный лес принял его в свои тенистые, просторные и гулкие объятия.
Проснулся он от того, что кто-то щекотал его травинкой в носу. Он чихнул и не хотя приоткрыл один глаз, но увидев низко склоненное над собой налитое кровью лицо Старшого, мигом стряхнул остатки сна и вскочил на ноги.
— Тебе, братан, только пожарником работать, — недовольно произнёс Старшой, отряхивая землю с коленей.
— Приснилось, что война закончилась, — улыбнулся он во весь рот. — Отец совсем старый стал. А я будто на художника выучился! Красивое время, — дурацкая улыбка не сползала с его лица.
— Художник от слова «худо», — буркнул Старшой, отбирая у него винтовку.
Он проверил предохранитель, переломил винтовку, посмотрел в ствол на свет и, не найдя к чему придраться, возвратил оружие.
— Гляди у меня, «художник». Если что, не посмотрю, что из одной деревни…
Ничего не ответив Старшому, он повесил винтовку на плечо и, на ходу поправляя пиджак и съехавшую набок кепку, бросился к становившимся в строй товарищам.
Впереди синел лес. Через несколько минут они скроются в нём. И неслышно ступая по пружинящему хвойному насту, уйдут в сон, в вечность, в бессмертие.
БЕСЕДЫ БЛАЖЕННЕЙШИЙ ЗНОЙ
Первый читатель как первая женщина, первая выпитая рюмка вина, первое прочитанное стихотворение — пьянит. Есть какой-то сладостный хмель в общении писателя со своим читателем.
Это хорошо понимали мастера незабвенного социалистического реализма. Ни одна встреча в библиотеке, заводском цехе или на полевом стане в прежние времена не обходилась без того, чтобы кто-нибудь из них не завел речь о своем драгоценном читателе. Писатели, работавшие в иных творческих манерах и потому не допускавшиеся до массовых аудиторий, утверждали, что пишут для будущего, втайне надеясь через годы или десятилетия обрести любезного друга-читателя. И если даже Анна Андреевна Ахматова — эта патрицианка русской поэзии, не обремененная пороками литературной среды и любившая к месту помянуть академика Павлова, сказавшего однажды своему аспиранту в ответ на протесты того против подачи ему пальто: «Поверьте, молодой человек, у меня нет оснований к вам подольщаться», — если даже она вычеканила про поэта неведомого друга и беседы блаженнейший зной, значит, действительно, есть некая запятая в отношениях писателя со своим читателем.
Во времена, именуемые теперь началом гласности, в толстом литературном журнале впервые напечатали мой рассказ. До этого рассказы мелькали в газетах, но чтобы попасть на страницы настоящего литературного журнала — это было пределом мечтаний. Пробиться туда без влиятельных знакомых с той или другой стороны редакционной двери (а лучше с обеих сразу!) практически невозможно, говорили мне знающие люди. Тем более, никому неизвестному провинциальному автору.
У меня на сей счет была несколько иная точка зрения. С упорством, более достойным применения за письменным столом, рассылал я свои нетленные произведения по разным редакциям. Литературные консультанты находили в них некоторые достоинства, но отмечали столько недостатков и погрешностей, что сакраментальная фраза отказа в публикации: «А потому сами понимаете…», — надолго стала своего рода паролем в наших взаимоотношениях. После получения очередного отказа я вкладывал возвращенную рукопись в чистый конверт и отправлял его в другую редакцию. Через месяц-другой оттуда приходил ответ с неизменной фразой-паролем. Причем, если первый рецензент что-либо хвалил, то второй считал своим долгом указать на те же самые фрагменты, как на требующие существенной доработки, и наоборот. Так на собственной практике я познал, что в монолите советской литературы существовали взаимно отрицавшие друг друга направления.
Спустя какое-то время характер редакционной переписки стал понемногу меняться. Теперь уже иные консультанты советовали послать отвергаемый ими рассказ в другой журнал, способный, по их мнению, заинтересоваться им. И вот настал наконец день, когда редактор отдела прозы вместо привычного отказа поинтересовался, нет ли у меня в запасе других рассказов. Господи, в столе давно ждали своего часа стопки неопубликованных шедевров! В смысле: десятка полтора вполне приличных, на мой взгляд, рассказов. Пять из них немедленно отправились к сердобольному редактору. Один из этой стаи и попал впоследствии на журнальные страницы.
Любая публикация, даже в солидном литературном журнале, мало что меняет в жизни начинающего автора. По вечерам он по-прежнему погружается в пучину сомнений, разочарований и тревог, борется с собственным косноязычием и умственной ленью. Редкие знакомые, случайно прочитав опубликованную вещь, почитают за благо не рассыпаться в похвалах, а высказываться неопределенно и иронично. Бытующее мнение, что похвала портит человека, будучи распространенным на молодого писателя, приносит ему дополнительные страдания. Профессиональные критики, эти дозорные псы текущей литературы, упорно не замечают его приближения к охраняемой ими территории. И волей-неволей приходится начинающему литератору разыгрывать по поводу своей публикации демоническую холодность и равнодушие. Что, несомненно, является не лучшей реакцией на случившееся в его жизни событие.
В редакции журнала, опубликовавшей рассказ, со мной поступили весьма благородно. Сперва прислали верстку и попросили ее вычитать, а после выхода номера в свет презентовали два авторских экземпляра. Позже со мной подобным образом поступал только редактор Аркадий Семенович К. Но Аркадий Семенович мой друг, и разговор о нем заслуживает особого места. А тогда я воспринял все происходящее как естественный процесс общения редакционной коллегии со своим автором. И когда, спустя некоторое время, из журнала переслали единственное поступившее на мое имя письмо, не столько этому удивился, сколько обрадовался неожиданно пришедшему избавлению от всех мучивших сомнений и тревог. Больше уже не надо было по утрам инспектировать газетные киоски, чтобы на глаз определить, сколько номеров журнала продано за сутки — один или не одного. Отныне у меня появился собственный читатель! И мне было решительно наплевать на неразворотливость газетной торговли, холодность окружающих и равнодушие критики.
Мой первый читатель оказался жителем города Кизел Пермской области. Несложная манипуляция с географической картой позволила определить дальнобойность писательского слова — около двух тысяч километров по прямой! А перенос ножки циркуля из центра Кавказа, где я жил, в Москву, дал возможность тем же раструбом очертить на карте окружность, куда попадали Берлин, Вена, Стамбул. Выходило, что будь я столичным автором, моим потенциальным читателем мог оказаться любой житель крупнейших европейских городов! Разумеется, владеющий в достаточной степени русским языком и имеющий склонность к чтению отечественных литературных журналов.
Относительно города Кизела энциклопедический словарь был скуп: железнодорожная станция, добыча угля, завод по ремонту горного оборудования. Город образовался в ХVIII веке как центр угольного бассейна. Марки добываемого в нем каменного угля -Д, Г и Ж, равно как и величины его теплоты сгорания, а также толщи рабочих пластов, — мне ничего не говорили. Однако то, что в городе наличествовал драматический театр приятно волновало воображение: значит, сохранились культурные традиции, бывают премьеры, капустники, творческие вечера, бенефисы etc. И, конечно, читатель литературных журналов не может не быть записным театралом, а может быть и постоянным автором театральных рецензий в районной газете. Рудник в воображении так хорошо срифмовался с драматическим театром, что я уже не мог представить своего читателя иначе, как интеллигентным рабочим с журнальной книжкой под мышкой, — эдаким горьковским типом, дожившим до наших дней. А задушевный разговор европейски известного сочинителя с просвещенным пролетарием предполагал достаточно приемлемый уровень общения. И я был готов к нему!
И действительно, Борис Владимирович Т. — так звали любезного читателя, — продемонстрировал оба качества, коими наделило его мое воображение. По-рабочему откровенно он писал, что прочитанный рассказ оставляет желать большего: неуверенность авторского почерка свидетельствует о первой публикации (что, впрочем, не требовало большой интуиции, поскольку публикация была снабжена рубрикой «Литературный дебют»), а схематизм построения сюжетной линии наводит на мысль о выпускных сочинениях школьников. И тут же интеллигентно добавлял: «Вы уж простите за откровенность». Единственным, с его точки зрения, достоинством рассказа признавалась злободневность темы: речь шла о старушках, сдающих последние сбережения в фонд мира.
Сейчас, когда тысячи старушек сами стоят с протянутыми руками, а описанный мной фонд, как выяснилось, являлся филиалом второй самой могущественной, после компартии, организации и собираемые им средства использовались на цели прямопротивоположные заявленным, я в чем-то готов согласиться с критикой в свой адрес. Оправданием может служить лишь искренность, с которой был написан тот, теперь уже давний рассказ, и отсутствие с моей стороны малейшего намерения попасть в конъюнктурную струю, что, видимо, и подкупило редакцию. Но тогда первый полученный читательский отклик вызвал глубокое разочарование. Ожидавшегося диалога восходящего к славе литератора с мыслящим пролетарием явно не получилось.
Мне совсем не улыбалось отвечать на колкости в свой адрес. Но уважение к марке журнала, опубликовавшего мой опус, а также стремление быть выше мелких обид и, самое главное, желание продемонстрировать Т., что его провинциальные шпильки меня нисколько не задевают, послужили причиной составления ответного послания. В нем я сухо поблагодарил Бориса Викторовича за внимание к моей скромной персоне и несколько развил тезис о ядерной войне, как последнем Апокалипсисе, чему, собственно, и был посвящен обсуждаемый рассказ. А в заключение пожелал уральскому читателю стандартных успехов в труде и личной жизни, присовокупив к ним менее шаблонное пожелание чтения хороших книг.
Второе письмо из города Кизела не заставило себя долго ждать. Борис Владимирович рассыпался в благодарностях за то, что я нашел время для ответа, и советовал по-дружески не обижаться на его оценку качества моей прозы, отмечая, что это, в конце концов, всего лишь его субъективное мнение. Прочитав в журнальной врезке, что по первой профессии я являюсь математиком, он простосердечно просил разъяснить ему, почему в последнее время наблюдается массовый приход представителей точных наук в литературу, и что вообще я думаю о проблеме «физиков и лириков». Кроме того, его интересовал круг моего чтения.
Надо сказать, что давняя проблема «физиков и лириков» для меня до сих пор остается любимой больной мозолью. Пройдя в юности школу ленинградского матмеха и будучи хорошо знакомым со многими известными математиками, физиками, астрономами, я готов часами спорить относительно их мнимой сухости и ограниченности. Пресловутое разделение творческого сообщества на «физиков» и «лириков» выдумано советскими гуманитариями, очумевшими на рубеже 60-х годов от невиданного прежде расцвета научной мысли, и защищавшими таким образом свое собственное мелкотравчатое существование. Во всех этих спорах подразумевалось, что лирическая натура — тонкая, трепетная, незащищенная!, — не способна да и не должна вникать в скучные и грубые математические расчеты и физические теории. А то, что бессонные ночи ученых оборачивались расщеплением энергии ядра или космическим полетом Гагарина, как-то уходило на второй план. Это был чисто советский миф, порожденный нездоровым обществом, в котором принято было кичиться собственной необразованностью, но зато отлично развитым классовым чутьем. Подлинные же поэты, лирики без кавычек, всегда заявляли подобно Блоку:
Мы любим все — и жар холодных числ
И дар божественных видений.
Второе письмо от Т. возвращало эпистолярный роман на отведенный ему первоначальный уровень — доверительной беседы набирающего вес сочинителя с любознательным книгочеем, в результате которой вызревают плоды разумного, доброго, вечного. Ведь если поэт в России больше, чем поэт, то прозаик не иначе, как Толстоевский или Солженявский. К тому же, между очередными главами почтового романа у меня появилась новая публикация, на этот раз в главном юмористическом журнале. И это в общем-то случайное обстоятельство не только повергло в священный трепет провинциальных литсобратьев — какие связи у молодца!, — и придало уверенности в правильности избранной стратегии штурма тогдашних оплотов литературы, но и отчасти заретушировало вызванную первым письмом Т. досаду. А уж про книги, чтение, писателей, издательства и литературные дела меня никогда не надо было специально расспрашивать, сам с охотой рассказывал все, что знал, поскольку сызмальства только этим и интересовался всерьез.
Словом, обнаружив себя за письменным столом, строчащим мемуар о «физиках и лириках», я постарался придать ему удобочитаемый вид, после чего пустился в рассуждения о собственных литературных пристрастиях. Отдав должную дань русской словесности, отметил близких в ту пору латиноамериканцев, мимоходом помянул свои очередные публикации, и с присущей настоящему литератору скромностью подчеркнул, что писателем себя не считаю, ибо это звание в России надо заслужить всем строем жизни. Потом перечитал написанное и, исправив грамматические ошибки, остался весьма доволен ответным посланием. Оставалось только вложить его в конверт и не забыть проставить индекс Пермской области.
«Я вижу, что Вы серьезный человек и поддающий большие надежды писатель. Рад, что не ошибся в Вас, — писал в новом письме Борис Владимирович Т., — Вам присуще неподдельное лирическое чувство, и в тоже время не чужд аналитический подход к действительности. Это дает мне основание предложить Вам сотрудничество. У меня давно зреет идея научно-фантастического сюжета.» Представьте себе, писал Т., что на Солнце летит космический корабль, на борту которого находится интернациональный экипаж из посланцев всех континентов Земли. На Солнце под слоем протуберанцев живут люди, власть над которыми захватила фашистская хунта. Герои-космонавты вступают в схватку с угнетателями. На Солнце происходит социальная революция, в результате которой власть переходит в руки трудящихся. «Почему бы нам вместе не написать на эту тему хороший роман? Что Вы на это скажете?» — вопрошал мой «неведомый друг».
Поскольку у меня не было оснований полагать, что школьные учебники распространялись в прежние годы только до Уральского хребта, следовало предположить, что Борис Владимирович по каким-то обстоятельствам личного характера не завершил обязательного среднего образования. Иначе имел бы непременное удовольствие познакомиться с учебником по астрономии Воронцова-Вельяминова, где весьма доступно объяснялось устройство солнечной системы. Впрочем, можно было еще предположить, что он закончил школу экстерном, сосредоточившись на углубленном изучении гуманитарных предметов в ущерб естественнонаучным дисциплинам. Усомниться же в умственных способностях Т. только на основании его третьего письма, как это с невероятной легкостью проделывали все мои приятели, посвященные в перипетии нашего почтового романа, мне не позволяли первые два письма. В них не было ни малейших намеков на наличие у него винта в затылке. А предположить, что он образовался в промежутках между написанием второго и третьего письма, было бы, по меньшей мере, несерьезно, и совсем недостойно солидного инженера человеческих душ. Обратиться же за разъяснениями к самому Борису Владимировичу, как советовали поступить все те же друзья, не позволяло врожденное чувство такта. И потому я пребывал в некоторой растерянности.
Между тем, Борис Владимирович истолковал мое молчание по-своему. В новом (четвертом!) письме он уже интересовался, как идет работа по воплощению в художественные образы предложенного им сюжета. Почему я не советуюсь с соавтором по поводу главных персонажей и конструкции космического корабля? И не кажется ли мне, что заявленная тема столь объемна и многогранна, что заслуживает большей, нежели роман, формы? Не замахнуться ли нам на трилогию? У него уже и названия для ее частей заготовлены — «Путь к звезде», «Диктатура», «Солнце свободы». Конечно, если у меня есть другие предложения, он готов их обсудить, как говорится, в рабочем порядке.
Разумеется, у меня не было встречных предложений. У меня вообще никогда не было желания писать что-либо в соавторстве. Тем более, на пару с Борисом Владимировичем. И не только потому, что я еще со школьной скамьи хорошо помнил температуру физических процессов на поверхности нашего светила и без труда мог представить их губительную силу для любого космического пришельца, но еще и от того, что мои литературные дела в тот момент стали наконец приобретать некую определенность. Рассказы понемногу пробивались на страницы популярных изданий, готовилась к выходу первая книга. И делить испытываемую от этого радость не хотелось ни с кем. Что же касается возникших сомнений в неадекватности восприятия действительности моим уральским корреспондентом, то последнее его послание вместо того, чтобы рассеять подозрения на сей счет, только усилило их. Теперь соотношение писем, содержащих аргументы pro и contra завихренности его сознания, стало равным, и любое новое послание из Пермской области могло сместить чашу сомнения в ту или иную сторону.
Однако не дождавшись от меня оценок своего фундаментального замысла, Борис Владимирович Т. переключился на новый объект. Вскоре в газете «Советская культура» появилось письмо популярному мхатовскому актеру нашего поколения, подписанное знакомой фамилией. Неунывающий читатель и зритель из города Кизела советовал столичному артисту зорче вглядываться в окружающую действительность, чаще припадать к народным корням искусства и не гнушаться общением с простыми людьми. «В этих неисчерпаемых родниках содержится то волшебное снадобье, которое поможет преодолеть некоторый схематизм и академичность, присущие твоим последним работам в кино», — с пролетарской непосредственностью писал Борис Владимирович. И тут же, в свойственной ему манере, добавлял, что, впрочем, это его личный, даже несколько субъективный взгляд на творчество артиста.
Не знаю, что ответил Борису Владимировичу актер МХАТа, и ответил ли вообще, но для меня его пятое письмо, послужившее своеобразным постскриптумом к нашему эпистолярному роману, приоткрыло некую завесу над тайной взаимоотношений писателя с читателями. Не зря Анна Андреевна Ахматова писала о беседе блаженнейшем зное. Такова уж природа печатного слова, что восторг блаженства охватывает всех соприкасающихся с ним. И если писатель своими литературными опытами пытается очаровать читающую публику, то и читатели, оказавшись во власти заветного слова, испытывают прилив творческой фантазии. А поскольку слово блаженство кроме синонимического значения удовольствия, имеет и более древнее толкование, связанное с определенным состоянием психики, то и возникают ситуации, подобные описанной здесь. Они тоже входят в правила игры. И помогают сочинителю преодолевать возникающие порой чувства собственной избранности и значительности, заставляя предпринимать все новые и новые попытки завоевать читателя.
Когда у меня вышла первая книга рассказов, а это случилось почти сразу после того, как оборвалась переписка с Т., я решил послать ее нескольким известным писателям. По справочнику Союза советских писателей отыскал адреса двух наиболее влиятельных в то время авторов, как теперь бы сказали, мэтра либеральной литературы и патриарха почвенной словесности. Не рассчитывая на особые похвалы в свой адрес, а тем более на какую-либо помощь или поддержку с их стороны, я хотел просто заявить о своем существовании и, — чего греха таить!, — может быть получить дружеское напутствие на дальнейшее продвижение по открывавшейся писательской стезе. Однако ни ответа, ни привета не получил ни от одного из них — мои писательские потуги не были замечены ни на левом, ни на правом фланге родной словесности. Так с тех пор в одиночку и плетусь по этой дорожке, избегая ее обочин и кочек. И постоянно с трепетом открываю почтовый ящик в ожидании новых писем от любезных читателей.
ГОРОД НАЛЬЧИК
Ж.Х.
Город назывался Нальчик. Он был известен тем, что в 1920 году в нем скончалась Инесса А.. Тулин открыто рыдал над ее гробом. Это было началом его конца. Не отдай безбожная Инесса А. Богу душу в Нальчике, возможно, Тулин тоже протянул бы дольше. И тогда неизвестно, каким сегментом повернулось бы колесо истории. Вполне могло статься, что сейчас столицей Российской Федерации был бы город Берлин. А немецкие сепаратисты устраивали пикеты с требованием предоставления дополнительного мандата в Госдуме посланцам земли Шлезвиг-Гольштейн.
Впрочем, ему всегда хотелось, чтобы столицей России был город Париж. Однако Париж мог стать столицей только после Берлина. Переезд правительства столь хлопотная и трудоемкая процедура, что поспешность в этом вопросе совсем нежелательна. Только поэтапное перемещение столицы гарантирует преемственность власти и исключает неблагоприятные для населения катаклизмы. Сперва Петербург, потом Москва, Берлин, а затем уж Париж.
«Почему именно Париж?» — допытывалась она всякий раз, когда он заводил речь о переносе столицы. Обычно это происходило после второй бутылки местного фалернского. «Потому, что русскому человеку всегда хочется в Париж. Кроме того, Париж — столица мира. И там в Лувре хранится Джоконда, в краже которой подозревался Пикассо», — отвечал он, разглядывая на солнце вино в бокале. В стекле отражались голубые горы, зеленые деревья и ее каштановые волосы. «Так мы говорим о Пика`ссо или Пикассо`?» — спрашивала она, пародируя некую искусствознайку, считавшую свои долгом постоянно подчеркивать различия в испанском и французском произношении фамилии художника. «Об Аполлинере», — переводил он разговор на второго предполагаемого похитителя Джоконды.
Он говорил о том, что Вильгельм Аполлинарий Костровицкий, принявший псевдоним Аполлинер, является единственным поэтом нового времени, который по легкости и глубине вдохновения, по чувству земного бессмертия, по олимпийской меланхоличности ума, по преодолению всякой жажды познания, открытий и побед может стоять рядом только с Сафо, Анакреонтом или Алкеем. Но, вполне может быть, что этого он не говорил, а мыслил про себя или цитировал по памяти из книги Альберто Савинио, младшего из братьев-художников Де Кирико. Такое с ним случалось часто, когда он разговаривал с ней.
В одну из первых совместных прогулок по городу они забрели в Аркадию. Пробраться в нее можно было только по трапу, переброшенному через плетенную изгородь. И когда он помогал ей преодолевать ограду, впервые во всей полноте ощутил ее женскую прелесть. И она не оставила его равнодушным. Аркадия встретила их прохладной сенью дерев, безмолвным струением вод и девственной чистотой лужаек между зарослями боярышника и мушмуллы. «Я хочу вас», — сказал он. «Что-о? Прямо здесь?» — она широко раскрыла глаза. О, нет, что вы, конечно, не здесь. Лучше всего в театре, в ложе бенуара. В абсолютной темноте зрительного зала, под перепалку Папагено с Папагессой, когда коленки елозят по бархатной обивке кресел, а сладострастные крики сливаются со звуками оркестра. И слова Белинского, любите ли вы театр, как люблю его я, приобретают подлинное полифоническое звучание: так идите в театр, и наслаждайтесь им!
Считалось, что он пишет сценарий. В этом городе все что-нибудь писали. Фадеев завершал «Разгром». Товарищ Сталин набрасывал проект национально-государственного устройства Федерации. В соседнем доме Костя Елевтеров сочинял роман «Подглядывающий». Стихи писали: Аркадий Кайданов, Тимур Кибиров, Георгий Яропольский. Не говоря уже о великом множестве литераторов, творивших на языках местных народов. Когда в разговорах с московскими приятелями ему случалось называть число, проживающих в городе членов Союза писателей, его слова, в лучшем случае, воспринимались как не совсем удачная шутка. А в худшем — как проявление местного патриотизма. Хотя о каком местном патриотизме могла идти речь по отношению к нему, заброшенному судьбой к отрогам Большого Кавказского хребта?
Сценарий имел рабочее название «Вадим, Константин, Павел», по именам мужчин, которых он назначил на роли ее любовников. История, соответственно, делилась на три части, объединенные общей героиней. Ее звали в сценарии Еленой. «На кого она будет похожа?» — не могла сдержать любопытства она. «Конечно, на вас.» «Что-о? Вы хотите сказать, что я «б»?» «Помилуйте, отчего же…» Только не надо прикидываться агнцем: если имена героев образуют аббревиатуру ВКП, то героиня, конечно же, маленькая «б». Это так естественно для него — ВКП(б)! Социалистическая по форме, национальная по духу, интернациональная по содержанию. Вот его подлинное кредо — партийность, народность, державность. И то, что рассказ о Нальчике начинается с Инессы А., лучшее подтверждение тому. А между тем, наш город еще центр культуры двух коренных народов, столица суверенной республики, всероссийская здравница. Он про себя: «Порт пяти морей, Выставка достижений народного хозяйства, киностудия им. Горького, ВГИК, 48 троллейбус, метро, Курский вокзал, фирменный поезд «Эльбрус», и почти двое суток строго на юг!» Она вслух: «Вам нечего сказать в свое оправдание!» В оправдание только целовать ей руки.
C Вадимом она была знакома со школы и считала, что знает все его слабости. Быстро ставший модным кутюрье, он всегда был окружен сонмом благоухающих женщин — манекенщиц, модисток, богатых заказчиц, шлюх, журналисток. Среди этого парада искательниц приключений, опустошительниц мужских кошельков и сердец Елена всегда выглядела белой вороной. Впрочем, если продолжать пользоваться орнитологическими сравнениями, скорее напоминала залетную птицу — высокая, угловатая, предпочитавшая наряды из тканей темных расцветок. Куда больше возможных соперниц ее волновали чрезмерная впечатлительность и нервозность Вадима. Однажды он заметил распустившийся у нее на юбке шов, и мгновенно утратил всякий интерес к ней. В тот вечер ей так и не удалось растормошить его. В другой раз закатил идиотский скандал из-за отсутствующего крючка на застежке бюстгальтера. Заметив, что мужские элементы в ее одежде благотворно влияют на его настроение, Елена стала одеваться под юношу. Особый накал их страсть приобретала в те вечера, когда она практиковала демонстрацию мужских моделей из его коллекции. Тогда они устраивали в его мастерской настоящие маленькие оргии. Елене казалось, что она должна потакать любым его причудам, лишь бы он мог спокойно творить. Но однажды случайно открылось, что не одна она служит источником его вдохновения. Зайдя в неурочный час в мастерскую, она застала Вадима с вихлявым мальчишкой из кордебалета. Недвусмысленность их объятий, не вызывала сомнений в смысле происходящего. Елена не стала устраивать скандала, ее просто стошнило.
С Константином она познакомилась на улице, случайно. И не успела Елена еще толком осознать, что с ней происходит, как почувствовала, что происходит нечто совершенно новое и важное для нее. Причем, происходит все это в чужом парадном. Потом были незнакомые мансарды, лифты, гостиничные номера и даже палата военного госпиталя. Константину ничего не стоило во время вечеринки увести ее в ванную комнату. Самое поразительное заключалось в том, что ей это нравилось. Елене нравились его решительность, напор и уверенность в себе. Константин был розыскник, постоянно куда-то спешил, кого-то преследовал, искал, проверял, задерживал. Времени для встреч у них было мало. Зато они были бурные и запоминающиеся. Для предварительных ласк иногда использовался пистолет, всегда висевший у него под мышкой. Чрезвычайно возбуждали также наручники. Ими он приковывал ее к спинке кровати или намертво фиксировал руки за спиной. От наручников на коже оставались пятна, которые приходилось скрывать браслетами. Константин обещал как-нибудь принести еще милицейскую дубинку. Елена стала даже фантазировать, какие фокусы они будут устраивать с этим полицейским инструментом. Однако Константин внезапно, без всяких объяснений, пропал. По служебному телефону ей всякий раз отвечали, что он в длительной командировке. Когда же спустя несколько месяцев они случайно столкнулись в городе, рядом с Константином была белокурая девица такого истомленного вида, словно ее только что хорошо обработали резиновой дубинкой. Дома Елена вычеркнула из записной книжки телефон Константина и нарисовала сбоку электрический стул.
Поскольку Павел был финалистом сочиняемой истории, прототипом его он решил сделать себя. Счастливая встреча уже немолодого литератора и много пережившей девушки представлялась ему достойным завершением любовного триптиха. Их свидания и прогулки по городу ненавязчиво напоминают фильмы французской «новой волны». Те же проникновения реальности в пространство экрана, рванный монтаж, незавершенность эпизодов, авангардная музыка и какая-нибудь совсем уж экзотическая поэзия Богдановича (разумеется, не Питера, а Ипполита Федоровича, автора «Душеньки») или Хераскова. Поводом для разговора может стать все, что угодно. Например, флейты. Известны флейты Суйро — «Водяной дракон», Косуиро — «Малый водяной дракон», Уда-но хоси — «Монах Уда», Кугиути — «Молоток для гвоздей», Хафутацу — «Два мотка» и еще много других, чьи названия так сразу он и не вспомнит. Но зато прекрасно помнит, что придворные проводили целые дни, играя на флейтах перед бамбуковыми занавесями, закрывавшими от любопытных глаз покои императрицы. Сэй-Сёнагон упоминает также о том, как радостно на рассвете заметить у своего изголовья флейту, пусть даже в этот миг она беззвучна. «Разве можно о таком говорить с девушкой?» — возмущалась Елена. «Позвольте, о чем?» — спрашивал Павел. «О том, что вы лицемерно именуете игрой на флейте!» Неужели, он действительно полагает, что непристойность всех этих Суйро, Кугиути и особенно Хафутацу останется незаметной для ее слуха и привитых с детства понятий о скромности и чести. И потом, откуда у него такая дикая уверенность, что после блистательного Константина, этого человека отваги и долга, Елена сможет полюбить Павла? Какого-то провинциального неудачника, пытающегося с помощью цитат и случайных ассоциаций доказать свою причастность к литературе и большому кинематографу. Человека, годами сочиняющего один и тот же сценарий.
Чтобы успокоить Елену приходилось откупоривать новую бутылку местного фалернского. А с фалернским приходили интересные мысли. Наподобие следующей: если бы Инесса А. не умерла в 1920 году от азиатской холеры, которой заразилась от беженцев, она могла бы остаться навсегда жить в Нальчике. В пользу такого предположения свидетельствовали изумительные окрестные виды, источники минеральной воды, дружелюбие местного народа. Кроме того, большое количество проживающих здесь поэтов, музыкантов, художников, а также крепкие партийные кадры, могли составить неплохое окружение Инессы А.. Останься она тогда в Нальчике, глядишь, и Тулин через некоторое время потянулся бы на Кавказ. Для него не составило бы большого труда уговорить Политбюро перенести столицу в Нальчик. В необходимых и убедительных доводах он никогда недостатка не испытывал, достаточно вспомнить историю с заключением Брестского мира.
Такой поворот темы умиротворял Елену. Но перед тем, как окончательно сдаться, она все-таки считала необходимым спросить: «А как же Париж? Вам же всегда хотелось, чтобы именно он был столицей России?» «После того, как окончательно профукали Берлин, путь в Париж нам заказан», — вздыхал Павел. Он говорил об эволюционном развитии истории, упущенных большевиками возможностях, причудах глобализации, озлобленности фундаменталистов и националистов, недальновидности европейцев, постоянно покупающихся на пустые плоды заокеанской выдумки. Потом наполнял бокалы фалернским и предлагал выпить за Нальчик — наш теперешний Париж. И хотя в нем нет Лувра, зато у каждой Елены — улыбка Джоконды.